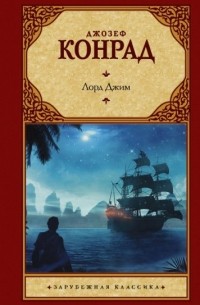Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава V. Миллионы розовых жаб
– Я был на разборе дела «Патны», – сообщал он, – и до сих пор удивляюсь, зачем я пошел туда. Я верю, что каждый из нас имеет своего ангела-хранителя, но, согласитесь со мной, к каждому из нас приставлено и по дьяволу. Я требую, чтобы вы это признали, ибо не желаю быть человеком исключительным, а я знаю: у меня есть дьявол. Конечно, я его не видел, но доказательства у меня имеются. Он ко мне приставлен, а так как по природе своей он зол, то и впутывает меня в подобные истории. Какие именно? – спросите вы. Ну, скажем, судебное следствие, история с желтой собакой… Вы сочтете маловероятным, чтобы облезлой туземной собаке позволили крутиться у ног людей на веранде того здания, где заседал суд. Вот какими сложными, извилистыми путями дьявол заставляет меня сталкиваться с людьми, наделенными уязвимыми местечками, скрытыми пятнами проказы. Клянусь Юпитером, при виде меня развязываются языки и начинаются признания – как будто мне самому не в чем себя упрекнуть, как будто у меня самого не найдется таких деяний, за которые мне будет стыдно до конца жизни. Хотелось бы знать, чем я заслужил такую милость? Заметьте, что у меня забот не меньше, чем у всякого другого, а воспоминаний столько же, сколько у любого паломника в этой долине. Как видите, я не особенно заслуживаю выслушивать признания. Так в чем же дело? Не знаю, может, это нужно лишь для того, чтобы скоротать послеобеденное время. Дорогой мой Чарли, ваш обед был очень хорош, и в результате этим господам спокойный роббер кажется утомительным и шумным занятием. Они развалились в удобных креслах и думают: «К черту всякие упражнения! Пусть Марлоу рассказывает». Значит, рассказывать? Пусть будет так!
Приятно говорить о мистере Джиме после хорошего обеда, находясь на высоте двухсот футов над уровнем моря, когда под рукой ящик с приличными сигарами, а вечер прохладен и залит звездным светом. В таких условиях легко позабыть о том, что все мы в этом мире подвержены испытаниям, что порой нам приходится пробивать себе дорогу под перекрестным огнем, ценить каждую минуту, нести ответственность за любой непоправимый шаг и верить, что в конце концов нам все-таки удастся выпутаться из всех бед и передряг. Однако подлинной уверенности в благополучном исходе у нас нет, и те, с кем сталкивает нас жизнь, далеко не всегда способны нам помочь.
Впервые я встретился с Джимом взглядом на этом судебном следствии. Все, кто в той или иной мере был связан с морем, явились на заседание суда, ибо еще задолго вокруг дела «Патны» поднялся шум – с того самого дня, как пришла неожиданная телеграмма из Эдена, вызвавшая столько пересудов. Я употребляю слово «неожиданная», хотя она преподносила всего лишь голый факт – такой безобразный, каким могут быть только факты. Все побережье ни о чем другом и не говорило. Начать с того, что, одеваясь утром в своей каюте, я услыхал через переборку, как мой парс Дубаш лопотал с баталером о «Патне». Не успел я сойти на берег, как встретил знакомых, спросивших у меня: «Слышали о “Патне”? Не правда ли, это просто поразительно!» Некоторые цинично улыбались, другие делали грустные лица либо разражались ругательствами. Люди совершенно незнакомые фамильярно заговаривали только для того, чтобы изложить свой взгляд на этот инцидент. Те же речи я слышал и в управлении портом, и от каждого судового маклера, от агентов, от белых, от туземцев, даже от полуголых лодочников, сидящих на каменных ступенях мола. Иные негодовали, многие шутили, и все без конца обсуждали вопрос, что же, собственно, произошло с «Патной».
Прошло недели две, если не больше, и все стали склоняться к мнению, что это таинственное дело обернется трагической стороной. И тут в одно прекрасное утро, стоя в тени у ступеней управления портом, я увидел четверых человек, шедших по набережной мне навстречу. Я удивился, откуда взялась такая странная делегация, и вдруг, если можно так выразиться, мысленно возопил: «Да ведь это они!» Да, это были они – трое крупных мужчин, а один такой толстый, каким человеку просто-напросто стыдно быть. Сытно позавтракав, они только что высадились с идущего за границу парохода Северной линии, который вошел в гавань через час после восхода солнца. Сомнений не оставалось: с первого взгляда я узнал веселого шкипера «Патны» – самого жирного человека в тропиках, опоясывающих нашу славную старушку-землю. Месяцев девять назад я встретился с ним в Семаранге. Пароход его грузился на рейде, а он на чем свет стоит ругал германскую империю со всеми ее институтами и по целым дням накачивался пивом в задней комнате при лавке де Джонга. Наконец де Джонг, который, и глазом не моргнув, лупил со шкипера по гульдену за бутылку, отозвал меня в сторонку и, сморщив свое маленькое лицо, заявил: «Торговля – торговлей, капитан, но от этого типа меня мутит. Тьфу!»
Стоя в тени на набережной, я внимательно смотрел на толстяка. Он шел немного впереди своих спутников, и солнечный свет, падая прямо на него, особенно резко подчеркивал его толщину. Он походил на дрессированного слоненка, вышагивающего на задних ногах. Костюм его был отвратителен: не первой свежести пижама с ярко-зелеными и оранжевыми полосками, рваные соломенные туфли на босу ногу и очень грязная, как будто найденная на помойке пробковая шляпа, которая была ему мала и держалась на его огромной голове с помощью манильской веревки. Не представляю, где он вообще ухитряется доставать одежду таких размеров. Так вот он стремительно летел вперед, не глядя по сторонам; прошел в трех шагах от меня и атаковал лестницу, ведущую в управление портом. Толстяк явился туда сделать доклад.
По-видимому, он прежде всего обратился к помощнику начальника порта Арчи Рутвелу, который только что прибыл в контору и, как он впоследствии рассказывал, собирался начать трудовой день с нагоняя своему главному клерку. Вы знаете этого типа – услужливый маленький португалец-полукровка с тощей шеей, вечно старающийся выудить у шкиперов что-нибудь съестное: кусок солонины, мешок с сухарями либо что другое. Помню, один раз я подарил ему живую овцу из своих судовых запасов. Меня растрогала его детская вера в священное право на побочные доходы. Согласитесь, это расовая черта – даже двух рас, пожалуй, да и климат имеет значение. Однако это к делу не относится. Во всяком случае, я знаю, где мне искать истинного друга.
Итак, Рутвел читал клерку суровую проповедь – полагаю, на тему о моральном облике должностных лиц, – когда услышал за спиной сопение, чьи-то тяжелые шаги и, повернув голову, увидел что-то круглое, похожее на сахарную голову, завернутую в полосатую фланель и вздымающуюся посреди просторной канцелярии. Рутвел был до того ошеломлен, что долго не мог сообразить, живое ли перед ним существо, и дивился, какого черта этот субъект водрузился перед его конторкой. За аркой, выходившей в переднюю, толпились слуги, приводившие в движение пунки, туземцы-констебли, боцман и команда портового катера – все они вытягивали шеи и напирали друг на друга. Подлинное столпотворение. Тем временем толстый шкипер ухитрился снять с головы шляпу и с легким поклоном приблизился к Рутвелу, на которого это зрелище подействовало так сильно, что он, слушая, долго не мог понять, чего хочет этот тип. Тот вещал хриплым замогильным голосом, но держался развязно, и мало-помалу до Арчи дошло, что дело «Патны» принимает новый оборот. Как только Арчи сообразил, кто перед ним стоит, ему стало не по себе, ведь он такой чувствительный, однако он взял себя в руки и крикнул:
– Довольно! Я не могу вам ничем помочь. Идите к начальнику порта… Капитан Эллиот – вот кто вам нужен. Сюда, сюда!
Он вскочил, обежал вокруг длинной конторки и стал подталкивать толстяка-шкипера; удивленный немец сначала повиновался, и только у двери кабинета какой-то животный инстинкт шепнул ему поостеречься: он уперся и зафыркал, словно испуганный бык:
– В чем дело? Пустите меня! Послушайте!
Арчи без стука распахнул двери.
– Капитан «Патны», сэр! – доложил он. – Пожалуйте, капитан.
Он увидел, что старик Эллиот, что-то писавший, резко приподнял голову, и пенсне слетело у него с носа. Арчи захлопнул дверь и бросился к конторке, где его ждали бумаги, принесенные на подпись. Но шум, поднявшийся в кабинете, был таков, что чиновник не мог прийти в себя и вспомнить, как пишется его собственное имя. Арчи – наверное, самый щепетильный помощник начальника порта на обоих полушариях. Позже он рассказывал, что чувствовал себя так, будто впихнул человека в логово голодного льва. Действительно, крики, доносившиеся из кабинета, были слышны на другом конце площади. Старый Эллиот имел богатый словарный запас, орать умел заправски, и ему было все равно, на кого кричать. Он стал бы распекать и самого вице-короля! Частенько он говаривал мне: «Занять более высокий пост я уже не могу. Пенсия мне обеспечена. Кое-что я отложил на черный день, и если начальству и подчиненным не нравится мое представление о долге, я охотно отправлюсь на родину. Я уже старик, и всю свою жизнь я выкладывал все, что было у меня на уме. Теперь я мечтаю только об одном – чтобы мои дочери вышли замуж, пока я жив».
Да-да, это был пунктик его помешательства. Три его дочери удивительно на него походили, но, как ни странно, были прехорошенькие. Иногда, проснувшись поутру, он приходил к печальным выводам относительно перспективы их замужества, и тогда вся канцелярия, по глазам угадав его мрачные мысли, трепетала, ибо, по словам подчиненных, в такие дни старик Эллиот непременно требовал себе кого-нибудь на расправу. Однако в то утро он не «съел» немца, но, если разрешите мне развить метафору, разжевал его основательно и… выплюнул.
Через несколько минут я увидел, как толстяк торопливо спускается по лестнице. Он остановился на нижних ступенях и стоял подле меня, погруженный в какие-то мысли, его толстые багровые щеки дрожали, как студень. Он грыз свой большой палец, вскоре заметил меня и искоса бросил в мою сторону раздраженный взгляд. Остальные трое, высадившиеся вместе с ним на берег, ждали его поодаль. У одного из них, желтолицего вульгарного человечка, рука была на перевязи, другой – в синем фланелевом пиджаке, долговязый, с седыми свисающими усами, худой, как палка, с самодовольно-глупым видом озирался по сторонам. Третий – стройный широкоплечий юноша засунул руки в карманы и повернулся спиной к двум остальным, которые о чем-то толковали. Ветхая запыленная гхарри с деревянными жалюзи притормозила как раз напротив группы. Положив правую ступню на колено, извозчик от нечего делать рассматривал свои грязные пальцы, а широкоплечий юноша отстраненно глядел на пустынную площадь. Так я впервые увидел Джима. Он показался мне таким равнодушным и неприступным, какими бывают только юноши. Опрятный, аккуратно одетый, он держался довольно уверенно – это был один из самых располагающих к себе мальчиков, каких мне когда-либо доводилось встречать. Глядя на него и зная все, что знал он, а также кое-что ему неизвестное, я почувствовал раздражение, словно он притворялся, чтобы этим притворством чего-то от меня добиться. Он не имел права выглядеть таким чистым и честным. И я сказал себе мысленно: «Что же, если и такие юноши сбиваются с пути, то тогда…» От возмущения я готов был швырнуть свою шляпу на землю и растоптать ее, как сделал однажды на моих глазах шкипер итальянской баржи, когда его помощник, собираясь отшвартоваться на рейде, где стояло много судов, запутался с якорями. Видя Джима таким спокойным, я спрашивал сам себя: «Глуп он или груб до бесчувствия?» Казалось, парень вот-вот начнет насвистывать. Прошу заметить: меня нимало не интересовало поведение двух других типов. Те двое как типажи полностью вписывались в ту неприятную историю, которая уже сделалась притчей во языцех и послужила достаточным основанием для начала официального расследования.
– Этот старый негодяй наверху обозвал меня подлецом, – заявил капитан «Патны».
Узнал ли он меня? Думаю, да; во всяком случае, взгляды наши встретились. Жирный шкипер буравил меня злыми глазами, а я улыбался: «подлец» было самым мягким определением из всех, что долетели до моего слуха из открытого окна в кабинете Эллиота.
– Неужели? – деланно удивился я, почему-то не сумев придержать язык за зубами.
Шкипер утвердительно кивнул, снова укусил себя за палец и тихонько выругался, затем нагло посмотрел на меня и воскликнул:
– Ба! Тихий океан велик! Вы, проклятые англичане, можете делать все, что вам угодно. Я знаю, где найдется место для такого человека, как я; меня хорошо знают в Апиа, в Гонолулу…
Он остановился, а я легко представил себе, какие люди знают его в тех местах. Скрывать нечего – я сам знаком с этой породой. Бывает, человек вынужден поступать так, словно жизнь одинаково приятна в любой компании. Я через это прошел и не хочу с гримасой вспоминать о своем прошлом. Многие из этой дурной компании, хотя по тем или иным причинам и не имеют морального… так сказать… статуса, вдвое умнее и в двадцать раз занимательнее, чем напыщенные коммерческие воры, которых вы, почтенные господа, охотно принимаете у себя, при том что подлинной необходимости поступать подобным образом у вас нет. Вами руководят привычка, трусость, нежелание прослыть чудаками и сотня других скрытых и смутных побуждений.
– Я, видите ли, подлец, – брызгая слюной, продолжал патриот-австралиец из Фленсбурга или Штеттина (право, сейчас не припомню, какой маленький порт у берегов Балтики осквернился, породив эту редкостную свинью). – Да вы, англичане, – все сплошь негодяи! Чего вы из себя изображаете? Ничуть вы не лучше других народов, а этот старый кретин Эллиот черт знает что себе позволяет. Оскорблять меня! – Вся туша капитана «Патны» тряслась с головы до ног. – Вот так вы, англичане, всегда поступаете: шумите, кричите из-за всякого пустяка, и только потому, что я не родился в вашей проклятой стране. Иначе сейчас все было бы шито-крыто. Отнимут, видите ли, свидетельство. Такой человек, как я, не нуждается в вашем проклятом свидетельстве. Плевать мне на него! – Он плюнул. – Я приму американское подданство! – завопил он с пеной у рта, беснуясь и шаркая ногами, словно пытался высвободить свои лодыжки из каких-то невидимых тисков, которые не позволяли ему сдвинуться с места. Он так разгорячился, что его макушка буквально дымилась.
Меня удерживало любопытство – самая сильная из всех эмоций, и я не уходил: мне хотелось узнать, как примет новость тот юноша, который, засунув руки в карманы и стоя спиной к тротуару, взирал поверх зеленых клумб площади на фасад отеля «Малабар». Он взирал с видом человека, собиравшегося прогуляться, и словно ждал, что к нему присоединится друг. Вот как он выглядел, и это было странновато. Я ждал. Я думал, парень будет потрясен, пришиблен, станет дергаться, как посаженный на булавку жук. И… я почти боялся это увидеть.
Не знаю, понятно ли вам, что я хочу выразить. Не очень приятно наблюдать за человеком, уличенным не в преступлении, но, скажем так, в преступной слабости. Самая элементарная порядочность не дает людям идти на преступления, но от неведомой слабости, иногда лишь подозреваемой, скрытой, за которой можно следить или не обращать на нее внимания, бороться с ней или мужественно ее презирать, – от этой слабости не застрахован ни один человек. Нас тянет в ловушку, и мы совершаем проступки, за которые нас ругают, сажают в тюрьму, иногда вешают, и, однако, человеческий дух способен пережить и осуждение и, клянусь Юпитером, даже смертный приговор. Но случается и иначе: самые незначительные, на первый взгляд, проступки кое-кого из нас убивают.
Я следил за молодым юношей, мне нравилась его внешность, мне был знаком этот тип людей – устои у таких парней очень хорошие. О таких людях, как он, будь то мужчины или женщины, не скажешь, что они умны или талантливы, но живут они честно, порядочно и мужественно. Я имею в виду не военное, гражданское или какое-то особое мужество – я говорю о врожденной способности смело смотреть в лицо искушениям, о силе сопротивляемости, об упорстве перед трудностями внутренними и внешними, перед соблазнами природы и заманчивым развратом… Такое упорство держится на вере, и ее не могут поколебать никакие дурные влияния. Все это не имеет прямого отношения к Джиму, но внешность его была типична для тех добрых малых, с которыми чувствуешь себя свободно и приятно, – людей, не тревожимых капризами ума или расстройством нервов. Такому человеку вы по одному его внешнему виду доверили бы палубу – я выражаюсь образно, как профессиональный моряк. Я бы доверил, а я знаю толк в этом деле. Много лет своей жизни я обучал юношей премудростям и хитростям моря – хитростям, весь секрет которых заключается в одной короткой фразе, и, тем не менее, каждый день нужно заново внедрять ее в их молодые головы.
Ко мне лично море было благосклонно, но когда я вспоминаю всех этих мальчиков, прошедших мою школу: иные теперь уже взрослые, некоторые утонули, но все они были славными моряками, – тогда мне кажется, что и я у моря не остался в долгу. Вернись я хоть завтра на родину, ручаюсь, что и двух дней не пройдет, как какой-нибудь загорелый молодой штурман поймает меня в воротах дока, и над моей головой прозвучит свежий глубокий голос:
– Помните меня, сэр? Как! Да ведь я такой-то. Был совсем желторотым юнцом на таком-то судне. То было мое первое плавание.
Уверяю вас, радостно это испытать. Вы чувствуете, что хоть однажды в жизни искусно выполнили свою работу. Одним словом, профессия научила меня распознавать людей по внешнему виду. Бросив только один взгляд на Джима, я бы доверил ему палубу и заснул крепким сном. А вдруг это было бы небезопасно? Неужели интуиция подвела меня? Джим выглядел таким же естественным и не фальшивым, как новенький соверен, однако в его металле заключалась какая-то загадочная лигатура. Небольшая. Совсем маленькая капелька чего-то редкого и непонятного, крохотное вкрапление. Но когда Джим стоял, засунув руки в карманы, с видом «Мне на все наплевать», я забеспокоился: «Уж не отчеканен ли он весь из меди?»
Поверить в такое я не мог. Признаюсь, я хотел увидеть, как он будет страдать, поскольку его профессиональная честь оказалась под угрозой. Двое других – эти парни не идут в счет, они совсем иной породы, чем Джим, – разглядели своего капитана и стали медленно приближаться к нам. Они на ходу переговаривались, но я их не замечал, словно они были невидимы невооруженным глазом. Помню, что они усмехались, обменивались шутками. У одного из них, похоже, была сломана рука, а другой – долговязый субъект с седыми усами – являлся главным механиком «Патны» и личностью во многом одиозной. Меня они, повторюсь, не интересовали. Они приблизились. Шкипер тупо уставился в землю; сейчас он выглядел еще толще: казалось, он распух, принял неестественные размеры от какой-то страшной болезни или неведомого яда. Он поднял голову, увидел этих двоих, остановившихся перед ним, и, презрительно скривив свое раздутое лицо, открыл рот – должно быть, он хотел с ними заговорить. Но вдруг какая-то мысль пришла ему в голову. Толстые багровые губы беззвучно сжались, он решительно и вперевалку зашагал к гхарри и стал дергать дверную ручку с таким злобным нетерпением, что, казалось, вот-вот оторвет ее и повалит набок все сооружение вместе с пони.
Возница отвлекся от разглядывания своей ступни и, уцепившись обеими руками за козлы, повернулся и уставился на огромную тушу, которая вваливалась в его повозку. Маленькая гхарри тряслась, готовая рухнуть; розовая складка на жирной шее, огромные ляжки, полосатая спина и мучительные усилия этой пестрой горы мяса влезть в повозку вызывали не просто смех, а производили впечатление чего-то нереального и жуткого, как гротеск во время лихорадки. Наконец-то шкипер протиснулся внутрь. Я ждал, что маленький ящик на колесах лопнет, как спелый стручок, но он только осел чуть не до земли, жалко заскрипели рессоры, и внезапно дернулись жалюзи. Показались плечи шкипера, его голова вылезла наружу, огромная, раскачивающаяся, как воздушный шар на привязи, плотная, фыркающая, злобная. Толстым кулаком, красным, как кусок сырой говядины, он замахнулся на возницу и заревел, приказывая ехать как можно быстрее. Куда? В Тихий океан!
Возница занес хлыст, пони захрапел, поднялся на дыбы, затем галопом понесся вперед. В Апиа? В Гонолулу? У шкипера было в запасе шесть тысяч миль тропиков, а точного адреса я не слышал. Фыркающий пони в одно мгновение унес капитана «Патны» в «вечность», и больше я его не видел. Мало того, я не встречал никого, кто бы видел его с тех пор, как он исчез из поля моего зрения, сидя в ветхой маленькой гхарри, которая завернула за угол, оставив за собой облако пыли. Он уехал, исчез, испарился, и особенно странным казалось то, что он как будто прихватил с собой и гхарри, ибо ни разу с тех пор на побережье не видели того самого гнедого пони с разорванным ухом и темного возницу с больной ступней. Тихий океан и в самом деле велик, но нашел ли шкипер арену для развития своих талантов, я не знаю: он умчался в пространство, точно ведьма на помеле. Маленький человечек с рукой на перевязи пустился было за экипажем, блея на бегу:
– Капитан! Эй, капитан! Послушайте!
Но, пробежав несколько шагов, остановился, опустил голову и побрел назад. Когда задребезжали колеса, молодой человек, стоявший поодаль, круто повернулся. Больше никаких движений он не делал и снова застыл на месте. Все это произошло значительно скорее, чем я рассказываю. Через секунду на площади появился клерк-полукровка, посланный Арчи заняться моряками с «Патны». Преисполненный усердия, он выскочил без шляпы, озираясь направо и налево. Миссия его была обречена на неудачу, поскольку главная персона уже покинула сцену. Он суетливо приблизился к остальным и почти тотчас же завязал разговор с парнем, у которого была повреждена рука. Тот повел себя агрессивно. Он заявил, что не желает подчиняться ничьим приказаниям. Нет, черт побери! Его не запугаешь враками! Он не намерен выслушивать грубости ни от Рутвела, ни от Эллиота, ни от кого-либо еще. Он болен и нуждается в лечении, ему нужно лечь в постель.
– Чертов португалец! – набросился моряк на клерка-полукровку. – Разве не ясно, что госпиталь – единственное подходящее место для меня? – Он сжал здоровую руку в крепкий кулак и поднес его к носу своего собеседника.
Стала собираться толпа, клерк растерялся и, пытаясь исправить ситуацию и не уронить своего достоинства, пробовал объясниться. Я ушел, не дождавшись, чем все закончится. В то время в госпитале лежал один из моих матросов; за день до начала следствия я зашел его проведать и увидел в палате того самого маленького человека: он метался, бредил, и рука его была в лубке. К моему величайшему изумлению, долговязый субъект с обвисшими седыми усами также ютился в госпитале. Помню, я обратил внимание на то, как он улизнул из палаты, – ушел, волоча ноги или прихрамывая, с видом абсолютно независимым. По-моему, он не был новичком в порту и направился прямехонько в пивную Мариане неподалеку от базара. Этот бродяга Мариане, похоже, давно водил знакомство с долговязым субъектом и где-то раньше, в другом порту потакал его порочным наклонностям; теперь он встретил его, как родного и, поставив перед ним батарею бутылок, запер в верхней комнате своего вертепа. Видимо, главный механик желал спрятаться от следствия. Однажды Мариане явился на борт моего судна, чтобы получить с баталера деньги за сигары, и шепнул мне, что действительно знает этого долговязого парня и обязан ему за какую-то гнусную услугу, которую тот тип когда-то ему оказал. Он дважды ударил себя кулаком в смуглую грудь, вытаращил огромные черные глаза, в которых блеснули слезы, и воскликнул:
– Антонио всегда будет помнить!
Какова эта услуга, я так никогда и не узнал. Как бы то ни было, но Мариане предоставил главному механику «Патны» возможность находиться под замком в комнате, где стояли стол, стул, на полу лежал матрас, а в углу – куча осыпавшейся штукатурки. Долговязый субъект, отдавшийся безудержному страху, поддерживал свой дух теми напитками, какими снабжал его хозяин заведения. Так продолжалось до тех пор, пока к вечеру третьего дня механик, испустив несколько отчаянных воплей, не решился обратиться в бегство от легиона стоножек. Он взломал дверь, одним прыжком слетел с маленькой лестницы, рухнул прямо на живот Мариане, затем вскочил и, как кролик, ринулся на улицу. Рано утром полисмен нашел его в куче мусора. Сначала пьянчужке взбрело в голову, что его тащат на казнь, и он геройски сражался за свою голову; когда же я присел к его кровати, он лежал очень спокойно и в таком настроении пребывал уже два дня. На фоне подушки его худое бронзовое лицо с белыми усами выглядело даже приятным; оно походило бы на лицо истомленного воина, не будь некой странной тревоги, светившейся в его стеклянных глазах, словно чудовище, безмолвно притаившееся за застекленной рамой. Механик был так удивительно сдержан, что я возымел нелепую надежду получить от него хоть какое-то объяснение по поводу нашумевшего дела «Патны».
Не могу сказать, почему мне так хотелось разобраться в деталях позорного происшествия, – меня лично оно не касалось, разве что как члена известной корпорации. Наверное, это было нездоровое любопытство. Мне очень хотелось что-нибудь разузнать. Возможно, подсознательно я надеялся нащупать некую тайную причину, какие-то смягчающие вину моряков обстоятельства. Теперь я понимаю, что надежда моя была несбыточной, ибо я вознамерился взять верх над самым стойким призраком, созданным человеком, – гнетущим сомнением, обволакивающим, как туман, гложущим, словно червь, более жутким, чем уверенность в смерти, – сомнением в верховной власти твердо установленных норм. Верил ли я в чудо? И почему так страстно его желал? Вероятно, я искал хотя бы тень извинения для этого молодого человека, которого раньше никогда не встречал.
Боюсь, что таков был тайный мотив моих расследований. Да, я ждал чуда. Единственное, что кажется мне теперь чудесным, – это моя беспримерная глупость. Я хотел добиться от этого угнетенного мрачного инвалида какого-то заклятия против духа сомнений. Должно быть, я шел к своей цели очень упорно, ибо после нескольких дружелюбных фраз, на которые механик, как и всякий порядочный больной, отвечал с вялой готовностью, я произнес слово «Патна», облачив его в деликатный вопрос, словно закутав в шелк. Деликатным я был умышленно: я не хотел пугать долговязого субъекта. До него мне не было дела, к нему я не чувствовал ни злобы, ни сострадания, его переживания не имели для меня ни малейшего значения, его искупление меня не касалось. Он построил свою жизнь на мелких подлостях и не мог внушать ни сочувствия, ни жалости. Он вопросительно повторил:
– «Патна»? – затем, казалось, напряг память и произнес: – Да-да… Я тамошний старожил. Я видел, как она пошла ко дну. – Услыхав такую нелепую ложь, я готов был возмутиться, но субъект спокойно добавил: – Она была полна пресмыкающихся.
Я призадумался. Что он мелет? В стеклянных глазах, в упор смотревших на меня, застыл ужас.
– Они подняли меня с койки в среднюю вахту посмотреть, как она идет ко дну, – продолжал он задумчиво.
Голос его вдруг окреп. Я ругал себя за неосторожность. Сиделки вблизи не было, передо мной тянулся длинный ряд свободных железных коек. Лишь на одной из них сидел худощавый смуглый больной с повязкой на лбу – жертва несчастного случая где-то на рейде. Вдруг мой собеседник вытянул руку, тощую, как щупальца, и вцепился в мое плечо.
– Один я их рассмотрел. Все знают, какое у меня острое зрение. Вот почему меня и позвали! Никто из них не видел, как «Патна» шла ко дну, а когда она исчезла под водой, они все заорали. Вот так…
Дикий вой заставил меня содрогнуться.
– Заткните вы ему глотку! – взмолилась жертва несчастного случая.
– Вы мне не верите? – высокомерно спросил «инвалид». – Поверьте, по эту сторону Персидского залива не найдется ни одного человека с таким зрением, как у меня. Посмотрите под кровать.
Конечно, я наклонился. А кто бы на моем месте этого не сделал?
– Ну что вы там видите? – спросил он.
– Ничего, – ответил я недоуменно.
Он посмотрел на меня с безграничным презрением.
– Вот именно, – заявил он. – А если бы поглядел я, то заметил бы. Потому что ни у кого нет таких острых глаз, как у меня.
Он снова вцепился в мое плечо и притянул меня к себе, желая о чем-то сообщить по секрету.
– Миллионы розовых жаб! Ни у кого нет таких зорких глаз, как у меня. Это хуже, чем видеть тонущее судно. Миллионы розовых жаб! Я могу смотреть на тонущий корабль и спокойно курить трубку. Почему мне не дают мою трубку? Я бы курил и присматривал за этими жабами. Судно кишело ими! Знаете, за ними нужно следить!
Он шутливо подмигнул мне. Пот выступил у меня на лбу, тиковый китель прилип к телу. Вечерний ветерок проносился над рядом свободных коек, жесткие складки штор шевелились, кольца стучали о медные прутья, одеяла на кроватях бесшумно приподнимались, и я совершенно продрог. Мягкий тропический ветерок резвился в пустынной палате, а мне он казался таким же холодным, как зимний ветер, разгуливающий по старой риге на моей родине.
– Не позволяйте ему орать, мистер… – крикнула издали жертва несчастного случая; эти слова пронеслись по палате, словно пугливый оклик в туннеле.
Цепкая рука притянула меня за плечо, тощий субъект опять многозначительно подмигнул.
– Вы поняли? Судно так и кишело ими, и нам пришлось потихоньку удрать, – быстро залепетал он. – Все розовые. Розовые и большие, как дворовые псы. На лбу один глаз, а из пасти торчат отвратительные клыки!
Он задергался, словно через него пропустили гальванический ток, и под одеялом обрисовались худые ноги. Затем он выпустил мое плечо и стал ловить что-то в воздухе; тело его дрожало, как слабо натянутая струна. И вдруг таившийся в мутных глазах ужас вырвался на свободу. Суровое спокойное лицо старого вояки на моих глазах исказилось, стало хитрым и испуганным. Он еле сдержал вопль.
– Тсс… Что они там делают? – спросил он, украдкой указывая на пол и из предосторожности понижая голос.
Я понял значение этого жеста, и мне стало не по себе от собственной проницательности.
– Они все спят, – ответил я, всматриваясь в его лицо.
Этого-то он и ждал, только эти слова и могли его успокоить. Он перевел дух.
– Тсс… Тише, тише. Я здесь старожил. Знаю этих тварей. Надо размозжить голову первой, которая зашевелится. Очень уж их много, и судно продержится не дольше десяти минут. – Он снова заохал. – Скорей! – завопил он вдруг, и крик его перешел в рев. – Они все проснулись! Миллион жаб! Ползут ко мне! Погодите! Я буду давить их, как мух! Да помогите же мне! На помощь! На по-о-омощь!
Несмолкаемый вой завершил мое поражение. Я видел, как жертва несчастного случая в отчаянии сжала руками забинтованную голову; в дальнем конце палаты появился фельдшер – маленькая фигурка, словно видимая в телескоп. Я признал себя побежденным и через одну из застекленных дверей выскочил в галерею. Вой преследовал меня, словно месть. Я очутился на площадке лестницы, и вдруг все затихло; в тишине, давшей мне возможность собраться с мыслями, я спустился по ступеням. Внизу я встретил одного из хирургов госпиталя, он шел по двору и остановил меня.
– Навещали своего матроса, капитан? Думаю, можно будет завтра его выписать. Знаете ли, к нам попал первый механик с того паломнического судна. Занятный случай. Один из худших видов delirium tremens. Три дня он пил запоем в пивной этого итальянца Мариане. Результаты налицо. Говорят, в день он осушал по четыре бутылки бренди. Изумительно, если это только не вымысел. Можно подумать, что внутренности этого господина выстланы листовым железом. Ну голова-то, конечно, не выдержала, но любопытнее всего то, что в его бреду существует какая-то система. Я пытаюсь выяснить. Необычайное явление, нечто похожее на логику при delirium tremens. По традиции ему бы следовало видеть змей, но ничего подобного. В наше время добрые старые традиции не в почете. Его преследуют жабы… Ха-ха-ха! Право, я еще не встречал такого интересного субъекта среди пьяниц. Понимаете ли, после такого возлияния ему по всем правилам следовало бы умереть. Но он крепкий орешек. Двадцать четыре года прожил в тропиках. Вам не мешает взглянуть на него. И вид у этого старого пьянчужки благородный. Самый замечательный пациент из всех, кого я знаю… конечно, с медицинской точки зрения. Хотите посмотреть?
Я слушал из вежливости, стараясь казаться заинтересованным, но теперь с сожалением прошептал, что очень тороплюсь, и поспешил пожать хирургу руку.
– Мистер Марлоу, – крикнул он мне вдогонку, – механик не может явиться в суд. Вы полагаете, его показания были бы существенными?
– Думаю, что нет, – отозвался я, уже подходя к воротам.