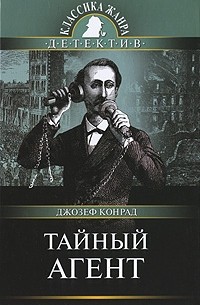Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Выйдя из дому утром, м-р Верлок оставил свою лавку на попечении брата своей жены. Никакого риска в этом не было, потому что вообще торговля шла очень тихо, особенно днем; редкие покупатели являлись только под-вечер. М-р Верлок вообще не придавал большего значения своей торговле; она служила больше для отвода глав, прикрывая собой настоящее его занятие. К тому же, он мог быть вполне спокоен, так как кроме шурина оставалась дома и его жена.
Лавка была маленькая, да и весь дом был небольшой. Такие угрюмые кирпичные дома рассеяны были в большом количестве по всем кварталам Лондона до того, как началось перестраивание города. Лавка занимала четырехугольное помещение. Входная дверь была закрыта весь день и только к вечеру таинственно приотворялась. В витрине выставлены были фотографические карточки сильно декольтированных танцовщиц; затем, пакетики с патентованными лекарствами и странные, туго набитые, заклеенные желтые конверты с обозначенной на них, густой черной краской, ценой в два с половиной шиллинга. На протянутой поперек витрины веревочке висели как бы дли просушки старые французские юмористические журналы. Затем еще были разложены в витрине канцелярские принадлежности, бутылочки с чернилами для метки белья, каучуковые штемпеля, несколько книг, заглавия которых возвещали непристойность содержания, старые нумера неведомых, плохо напечатанных газет под вызывающими заглавиями: «Горящий факел», «Призывный Колокол». Два газовых рожка в витрине горели очень слабо – может быть, из экономии, а может быть, в интересах покупателей.
Обычными покупателями были или очень молодые люди, которые обыкновенно долго стояли у окна и потом только украдкой пробирались в лавку, или же люди почтенного возраста, видимо сильно опустившиеся. У них воротник был обыкновенно поднят до ушей, а платье было потертое и забрызганное грязью. Ступали они, большей частью весьма неуверенно, засунув руки глубоко в карманы. Они подходили к двери боком, выдвигая сначала одно плечо, точно боясь задеть колокольчик входной двери. А этого было трудно избегнуть. Колокольчик, подвешенный к двери посредством изогнутой стальной ленты, был надтреснут в нескольких местах, но по вечерам он немилосердно дребезжал, как только кто-нибудь приближался к двери.
Как только раздавался звук колокольчика, из-за покрытой пылью стеклянной двери за деревянным прилавком показывался м-р Верлок, выходя из задней комнаты. У него были заспанные глаза с тяжелыми веками; можно было подумать, глядя на него, что он весь день валялся в платье на неприбранной постели. Всякий другой на его месте не решился бы показаться таким, так как в торговом деле очень важно, чтобы у продавца был обходительный, приятный вид. Но м-р Верлок знал своих покупателей и не церемонился с ними. Глядя в лицо покупателю дерзким и вызывающим взглядом, точно отвечая этим на ожидаемую брань и угрозы; он продавал какой-нибудь предмет, слишком явно не стоящий тех денег, которые за него уплачивались: какую-нибудь маленькую коробочку, как будто пустую внутри, или один из тщательно запечатанных желтых конвертов, или же книжку в загрязненной обертке с многообещающим заглавием. Изредка продавалась любителю и какая-нибудь из вылинявших декольтированных танцовщиц.
Иногда на призывный звук треснувшего колокольчика появлялась м-сс Верлок, молодая женщина, довольно полная, в плотно облегающем ее платье, с гладко причесанными волосами. У неё был такой же пристальный взгляд, как у мужа, и она стояла за прилавком с непроницаемо-равнодушным видом. Покупатели юного возраста смущались при появлении женщины; некоторые с затаенным бешенством требовали бутылочку чернил для метки, платили за нее полтора шиллинга, вместо обычной цены в шесть пенсов и, выйди из лавки, сейчас же бросали бутылочку в канаву.
Вечерние посетители – те, у которых воротники были подняты до ушей, а поля мягких фетровых шляп спущены вник, – кивали головой м-сс Верлок с видом хороших знакомых; пробормотав приветствие, они приподнимали доску в конце прилавка и проходили в корридор, из которого крутая лестница вела вверх. Дверь в лавку была единственным входом в дом, в котором м-р Верлок занимался своими разнородными делами, продажей подозрительных предметов, охраной общества и, кроме того, культом семейных добродетелей. Он был образцовый семьянин. Его духовные, умственные и физические запросы вполне удовлетворялись в домашней обстановке. Дома он жил спокойно и мирно, окруженный попечениями жены и почетом матери, м-сс Верлок.
Мать Винни Верлок была полная, коренастая женщина с широким смуглым лицом. Она носила черный парик и белую наколку. Опухшие ноги не давали ей возможности двинуться с места. Она гордилась своим французским происхождением. Овдовев после долголетнего супружества – муж её был оптовый торговец съестными припасами, – она содержала себя, дочь и сына тем, что сдавала меблированные комнаты в одном из фешбнэбельных кварталов Лондона. Дам она к себе не пускала. В виду удачно выбранного места, комнаты её были всегда заняты, но жильцы вовсе не принадлежали в аристократическому обществу. Дочь её, Винни, помогала ей вести хозяйство. Следы французского происхождения заметны были и в молоденькой дочери вдовы. Винни со вкусом причесывала свои блестящие черные волосы, у неё был очаровательный цвет лица и она держалась с большим достоинством, но при этом вовсе не уклонялась от разговоров с жильцами и была чрезвычайно любезна, никогда, впрочем, не роняя себя этим. М-р Верлок, по-видимому, сразу почувствовал обаяние её чар. Занимая комнату у вдовы, он часто отлучался без всяких видимых причин. Он обыкновенно возвращался в Лондон с континента с несколько таинственным видом. Образ жизни его был не совсем обычный. Утренний кофе ему подавали в постель, и он обыкновенно не вставал до полудня, а иногда даже поднимался еще позже. Уходил он из дому поздно и возвращался уже рано утром. Когда Винни вносила ему в десять часов утра поднос с завтраком, он здоровался с ней с изысканной любезностью, но голос у него был охрипший, точно он много часов кряду говорил без умолку. Его выпуклые глаза с тяжелыми веками, смотрели на нее томным влюбленным взглядом.
Матери Винни м-р Верлок казался идеальным джентльмном, и она охотно согласилась выдать за него замуж свою дочь. Сразу же было решено, что вдова уже не будет больше сдавать меблированные комнаты. М-р Верлок заявил, что это было бы неудобно в виду других его дел. Какие это были дела, он не говорил. Он только сказал, что всю мебель можно перевезти к ним, и что мать его жены будет жить с ними. Сделавшись женихом Винни, он стал вставать до полудня и сходил вниз к матери своей невесты, которая, в виду своей немощи, сидела неподвижно в столовой. Он гладил кошку, поправлял огонь в камине, ждал завтрака и потом еще сидел после завтрака с невестой и её матерью целые часы, чувствуя себя видимо очень хорошо в уютной домашней обстановке. Но поздно вечером он все-таки уходил. Он никогда не предлагал Винни повести ее в театр, как это сделал бы на его месте всякий другой молодой человек. Он говорил, что занят по вечерам, и однажды сказал Винни, что занятия его имеют отношение к политике. Он просил ее быть впоследствии любезной с его политическими друзьями, и она ответила согласием, глядя на него немым непроницаемым взглядом.
Что он еще сказал ей о своих занятиях – этого мать Винни никак не могла разузнать. После свадьбы дочери, она переселилась к ней. Перевезли и всю мебель. Жалкий вид лавки ее удивил. Переезд из широкого сквера в фешенэбельном квартале Бельгравия в узкую улицу тесного квартала Сого сильно повредил её здоровью. Ноги её распухли до ужасающих размеров. Но зато она избавилась от всяких материальных забот. Добродушие зятя внушало ей полное доверие. Будущность её дочери была, очевидно, обеспечена, и точно также ей нечего было тревожиться и о сыне. Она, конечно, сознавала – этого нечего было скрывать от себя, – что бедный Стэви был большой обузой в жизни. Но в виду того, что Винни очень любила своего болезненного брата и что м-р Верлок был очень добрый, великодушный человек, она чувствовала, что ей нечего беспокоиться о своем сыне, что ему не будет скверно житься на свете. Она даже в глубине души радовалась, что у Верлоков нет детей, тем более, что сам Верлок, по-видимому, не страдал от этого обстоятельства, а Винни привязалась с чисто материнской любовью к своему несчастному брату.
Трудно было пристроить к чему-нибудь бедного Стэви. У него был болезненный вид. Он был бы, собственно говоря, недурен собой, если бы не беспомощно опустившиеся углы рта. Его научили читать и писать, но применить своих знаний хотя бы к самому легкому делу он не мог. Он не годился на должность посыльного, так как забывал, куда и зачем его посылали. Вид какой-нибудь бродячей кошки или собаки так его увлекал, что он шел за нею на грязный двор. Или же он смотрел на уличные происшествия в ущерб интересам своего нанимателя. Если на улице падала лошадь, которую заставляли везти слишком тяжелую поклажу, он с диким криком врывался в собравшуюся вокруг происшествия толпу и возмущал своим отчаянием всех окружающих. Им было неприятно, что искренно выраженное сочувствие в несчастному животному мешало им спокойно наслаждаться обычным зрелищем. Когда его уводил какой-нибудь важный с виду полицейский, то часто оказывалось, что бедный Стэви забыл свой адрес – по крайней мере на время. От неожиданно предложенного вопроса он начинал весь дрожать. От всякого испуга у него перекашивались глаза. Но ясно выраженных нервных припадков у него не было. В раннем детстве, когда на него начинал кричать отец, раздражаясь его придурковатостью, он бежал к сестре и прятался, уткнув голову в её передник. Вместе с тем иногда могло казаться, что в мальчике много скрытого упрямства и злости. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, друг его умершего отца доставил ему место мальчика в одной конторе. Но однажды, в туманный день, его застали в отсутствие хозяина за совершенно неожиданным занятием. Он устроил фейерверк, и вся лестница наполнилась дымом и треском пущенных им ракет. В конторе поднялась настоящая паника. Служащие разбежались по корридорам, темным от дыма, и мчались, как безумные, вниз по лестнице. Но, по-видимому, Стэви вовсе не испытывал удовольствия от своей шалости. Очень трудно было добиться у него объяснения причин, побудивших его выкинуть такую штуку. Только гораздо позже Винни вынудила у него туманное признание. Оказалось, что два других конторских мальчика разжалобили его рассказом о несправедливом обращении с ними и довели его этим до бешенства, вызвавшего акт мести. Конечно, его тотчас же прогнали за его проделку, и в награду за свой альтруистический подвиг Стэви принужден был мыть посуду в кухне и чистить сапоги жильцам своей матери. Иногда он получал за это какую-нибудь мелочь от жильцов; наиболее щедро награждал его м-р Верлок. Но заработки его все таки были самые ничтожные, и когда Винни объявила матери о своей помолвке с м-ром Верлоком, мать её вздохнула, думая о судьбе бедного Стэви.
Оказалось однако, что м-р Верлок ничего не имел против того, чтобы забрать к себе и брата жены, вместе с её матерью и с мебелью, составлявшей все состояние семья. М-р Верлок готов был прижать всех к своему широкому любящему сердцу. Мебель расставили по всему дому, а матери м-сс Верлок отведены были две задния комнаты первого этажа. Несчастный Стэви спал в одной из этих комнат. В это время у него появился на нижней губе легкий золотистый пушок. Он со слепой любовью и покорностью помогал сестре в домашних делах, а в свободное от работы время занимался рисованием кругов на бумаге при помощи карандаша и циркуля. Он предавался этому занятию с большим рвением, сидя у кухонного стола, широко разложив локти и близко нагнувшись к бумаге. Через открытую дверь комнаты за лавкой сестра его от времени до времени глядела на него с материнской заботливостью.
Таков был дом, такова была домашняя обстановка, а также лавка м-ра Верлока, выйдя из которой в половине одиннадцатого утра, он направился в западную часть города. Час этот был для него необычно ранним. Во всем его существе чувствовалась какая-то особая свежесть. Синее пальто было расстегнуто, сапоги блестели, свеже выбритые щеки лоснились, и даже глаза с тяжелыми веками, освеженные безмятежным сном, имели сравнительно оживленный вид… Сквозь решетку парка он видел мужчин и дам, едущих верхом, то парами, то группами в несколько человек, совершающих вместе утреннюю прогулку. Проезжали и всадники, ехавшие в одиночку; у них были большей частью неприятные угрюмые лица. Проезжали женщины, за которыми следовали издали грумы с кокардами на шляпах и с кожаными поясами на плотно обтягивающих их ливреях. Проезжали коляски с полуопущенным верхом, из-под которого выглядывали женщины в больших шляпах. На коленях у них лежали дорогия меховые полости. Все это окутывал яркий с красноватым отблеском свет лондонского солнца. Даже земля под ногами м-ра Верлока имела золотистый отлив. М-р Верлок шел среди золотистой атмосферы, среди света без теней. Медно-красные отблески падали на крыши, на углы стен, на экипажи и на широкую спину м-ра Верлока, придавая ржавый вид его пальто. Но м-р Верлок не замечал этого. Он глядел с чувством удовлетворения на роскошь, мелькавшую перед его взорами за решеткой Гайд-Парка. Все эти люди нуждались в охране. Охрана – самая насущная потребность богатства и роскоши. Всех этих людей, катающихся по парку перед завтраком, необходимо оберегать. Нужно оберегать их лошадей, их экипажи, их дома, источники их богатств, весь общественный строй, благоприятствующий их гигиеничному безделью. Всему этому угрожает зависть трудящихся классов. Оборона необходима, – и м-р Верлок радовался бы тому, что причастен к столь полезному делу, – если бы не его органическое отвращение от всякого лишнего труда. Его лень была не гигиеничной, но органической, связанной со всех его существом. Он был, фанатический приверженец безделья. Родители его были люди трудящиеся, и он был рожден для трудовой жизни, но полюбил праздность исключительной властной любовью – как человек привязывается в одной какой-нибудь женщине из тысячи других. Он был слишком ленив даже для роли оратора на рабочих собраниях. Даже говорить было для него лишним усилием. Ему хотелось пребывать в полном бездействии, – может быть, он был жертвой философского скептицизма и не верил в производительность какого бы то ни было человеческого усилия. Такой род лени требует некоторого ума, – и м-р Верлок был не глуп. Думая об «охране существующего строя, которому грозит опасность», он готовь был сам иронически подмигнуть себе. Но это выражение скептицизма требовало все-таки некоторого напряжения, а его большие выпуклые глаза не склонны были мигать. Им было скорее свойственно медленно и тяжело опускаться в сладкой дремоте.
Грузный м-р Верлок не потирал себе поэтому рук от удовольствия и не подмигивал самому себе, подчеркивая этим, свои скептические мысли, а спокойно и тяжело ступал ярко вычищенными сапогами. Он имел вид обеспеченного ремесленника, но вместе с тем в нем было что-то странное, не присущее человеку, живущему честным трудом, нечто общее всем людям, эксплоатирующим для собственной выгоды человеческие пороки и слабости, – особый отпечаток нравственного нигилизма, свойственного содержателям игорных притонов и разных вертепов, сыщикам, кабатчикам и до некоторой степени изобретателям патентованных целебных средств, электрических поясов и т. д. Впрочем, у людей последней категории бывает дьявольское выражение лица, а в лице м-ра Верлока не было абсолютно ничего дьявольского…
Не доходя до Найтбриджа, м-р Верлок повернул налево и свернул с улицы, по которой громыхали омнибусы и тихо скользили кэбы. Под шляпой, слегка сдвинутой назад, волосы его были гладко причесаны; он направлялся в одно из посольств и шел теперь по тихой аристократической улице, очень широкой и пустынной, производящей впечатление незыблемости и вечности. Единственным напоминанием о земной бренности была докторская карета, остановившаяся у одного из домов. Издали сверкали ярко вычищенные ручки домов, блестели темным блеском чисто вымытые окна. Кругом была тишина. Издали проносилась с звяканьем повозка молочника; из-за угла промелькнула двуколка мясника; кошка быстро пробежала с виноватым видом перед м-ром Верлоком и скрылась в подвале ближайшего дома. Толстый полицейский, с виду лишенный всякой способности чем-нибудь волноваться, вдруг появился откуда-то, точно выйдя из фонарного столба, и не обратил ни малейшего внимания на м-ра Верлока. Повернув налево, м-р Верлок пошел по узкой улице вдоль желтой стены и затем вышел на Чешэм-Сквэр и подошел к дому под № 10. Он остановился перед монументальными воротами и постучался. Было так рано, что привратник посольства вышел к м-ру Верлоку, еще натягивая ливрею на красный жилет. При виде незнакомца, лицо его приняло суровый вид, но м-р Верлок показал ему конверт с гербом посольства и прошел дальше. Тот же талисман он показал лакею, который открыл входную дверь; тот отступил и пропустил его в приемную.
В большом камине ярко пылать огонь и спиной к нему стоял пожилой человек, во фраке, с цепочкой вокруг шеи. Он поднял глаза с газеты, которую держал развернутой в руках, но не двинулся с места. К м-ру Верлоку подошел другой лакей, в коричневой ливрее, обшитой узким желтым шнурком, спросил его имя, повел его по корридору налево, вверх по лестнице, покрытое ковром, и ввел его в маленькую комнатку, где стояли большой письменный стол и несколько стульев. Затем лакей вышел и закрыл за собой дверь; м-р Верлок остался один. Стоя с шляпой и палкой в руках, он провел рукой по гладко причесанным волосам. В эту минуту открылась бесшумно дверь, и м-р Верлок, взглянув по её направлению, увидел черный сюртук, лысую макушку и седые бакенбарды, свисающие с двух сторон на морщинистые руки. Вошедший держал в руках пачку бумаг, поднося их близко к глазам, и подошел мелкими шагами к столу.
Чиновник Вурмт, правитель канцелярии в посольстве, был близорук. Он разложил бумаги на столе, и тогда открылось его пухлое, грустное и очень некрасивое лицо в рамке длинных жидких седых волос. Он надел пенснэ в черной оправе на тупой, бесформенный нос. Увидав м-ра Верлока, он видимо удивился. Он с ним не поздоровался, и м-р Верлок, зная свое место, тоже ничего не произнес и только почтительно наклонил спину.
– У меня тут несколько ваших донесений, – сказал бюрократ неожиданно мягким усталым голосом, ткнув пальцем в бумаги. Он остановился, и м-р Верлок, узнавший свой почерк, замер в ожидании. – Мы недовольны здешней полицией, – продолжал Вурмт усталым голосом.
М-р Верлок слегка пожал плечами.
– Какова страна, такова в ней и полиция, – сентенциозно заметил он; но так как правитель канцелярии продолжал упорно на него смотреть, он вынужден был прибавить: – Я позволю себе доложить, что не могу оказать никакого воздействия на здешнюю полицию.
– Было бы желательно, – сказал склонившийся над бумагами Вурмт, – чтобы произошло нечто решительное, что пробудило бы их бдительность. Ведь это вы можете устроить, неправда ли?
М-р Верлок ответил только неожиданно вырвавшимся у него вздохом. Потом, спохватившись, он постарался снова придать веселое выражение лицу. Вурмт продолжал несколько беспомощно мигать глазами, точно ему было больно даже от слабого света в комнате.
– Необходимо пробудить бдительность полиции и повлиять на суды. Снисходительность здешних судов и полное отсутствие репрессивных мер возмущают всю Европу. Желательно было бы выяснить серьезность опасности – наличность брожения. Ведь оно несомненно существует.
– Конечно, – сказал м-р Верлок, несколько удивив собеседника своим твердым ораторским тоном. – Опасность существует. Мои донесения за весь год в достаточной степени это подтверждают.
– Я читал все ваши донесения за год, – сказал Вурмт мягким бесстрастным голосом. – Но я совершенно не понимаю, зачем вы их писали.
Наступило молчание. М-р Верлок точно проглотил язык, а Вурмт стал внимательно разглядывать бумаги. Наконец, он их слегка отодвинул.
– То, что вы доводите до нашего сведения, – снова заговорил он, – нам хорошо известно. Если бы не предполагалось опасности, вы бы не состояли у нас на службе. Донесения о том, что есть, бесполезны. Нужно вывести на свет что-нибудь новое, значительное, – какой-нибудь, я бы сказал, тревожный факт.
– Само собой разумеется, что мои усилия будут направлены на это, – сказал м-р Верлок с убежденной нотой в голосе. Но вид следящих за ним из-за стекол пенснэ глаз Вурмта сильно его смущал.
Он замолчал, наклонив голову с глубокой почтительностью. Вурмт взглянул на него. Вдруг его что-то видимо поразило во внешности м-ра Верлока.
– Вы очень полны, – сказал он.
Это замечание задело м-ра Верлока, и он отступил на шаг.
– Что вам угодно было сказать? – спросил он несколько повышенным голосом.
Правитель канцелярии не захотел продолжать разговора.
– Вам лучше повидать м-ра Вальдера, – сказал он. – Это даже необходимо. Будьте любезны обождать его здесь, – прибавил он и вышел мелкими шагами.
М-р Верлок провел рукой по волосам. У него выступили капли пота на лбу, и он тяжело отдувался. Когда слуга в коричневой ливрее показался у дверей, м-р Верлок все еще не двигался с места. Он стоял неподвижно, точно его окружали со всех сторон ловушки.
Пройдя вслед за лакеем по корридору, освещенному одиноких газовым рожком, он поднялся по крутой винтовой лестнице и пошел по светлому корридору первого этажа. Затем его ввели в комнату с тремя окнами, устланную мягким толстым ковром. В глубоком кресле у письменного стола сидел молодой человек с крупным бритым лицом. Он говорил по-французски правителю канцелярии, выходившему из комнаты с бумагами в руках:
– Вы совершенно правы, mon cher: он слишком толст…
М-р Вальдер, первый секретарь посольства, славился в салонах как интересный, обходительный молодой человек. Он был даже до некоторой степени любимцем общества. Остроумие его заключалось в том, что он любил приводить в соотношение самые разнородные понятия. В подобных случаях он усаживался плотно на стуле, поднимал левую руку, как бы держа между двумя пальцами свой довод, а на круглом, гладко выбритом лице выражалось веселое недоумение.
Но никакого следа неудоумения или веселости не было на его лице, когда он взглянул на м-ра Верлока. Откинувшись в глубоком кресле, широко разложив локти и закинув ногу за ногу, он строго взглянул на вошедшего.
– По-французски, полагаю, понимаете? – отрывисто спросил он.
М-р Верлок поспешил ответить утвердительно. Подавшись вперед всем своим плотным туловищем, он стоял неподвижно на ковре посреди комнаты, держа шляпу и палку в одной руке; другая безжизненно свесилась. Он робко напомнил, что служил во французской артиллерии.
М-р Вальдер сделал презрительную гримасу и неожиданно заговорил на чистейшем английском языке без тени иностранного акцента.
– Ах, да, я и забыл, – сказал он. – Подождите-ка… Сколько вам дано было за рисунок их новой пушки?
– Пять лет крепости, – неожиданно ответил м-р Верлок ровным голосом.
– Это вы еще легко отделались, – сказал м-р Вальдер. – Во всяком случае, вам поделом. Зачем попались! Что вас побудило пойти на такую штуку?
М-р Верлок стал что-то бормотать про молодость, про роковую страсть к недостойной…
– Ага, cherchez la femme! – милостиво прервал его м-р Вальдер. В его тоне чувствовалась, однако, не любезность, а злобно-пренебрежительное отношение.
– Вы давно у нас на службе? – спросил он.
– Я служил еще при покойном бароне Стотт-Вартенгейме, – ответил Верлок тихим голосом и вытянул слегка губы с скорбным выражением, в знак сожаления о покойном дипломате. Первый секретарь заметил эту игру на его лице.
– А, так это он… Ну, что вы можете мне сказать? – отрывисто спросил он.
М-р Верлок ответил, что явился не потому, что сам имеет что-либо сообщить, а потому, что его вызвали письмом. Он было-засунул руку в карман, чтобы показать письмо, но, заметив насмешливое выражение на лице Вальдера, так письма и не вынул.
– Послушайте, – сказал Вальдер. – Почему это вы так располнели? Ваша внешность не подходит к вашей профессии. Разве вас можно принять за голодного пролетария? Ни в каком случае. Какой вы, чорт возьми, социалист, или, там, анархист, что-ли?!
– Анархист, – подтвердил м-р Верлок.
– Тах вам и поверят! – насмешливо сказал м-р Вальдер, не поднимая головы. – Вот ведь даже старик Вурмт обратил на это внимание. Вы бы не провели самого глупого человека – глупы-то они все, конечно. Вы совершенно невозможны. Вы начали свою службу с того, что украли для нас образцы французских пушек и при этом сами попались. Это, было, конечно, весьма неприятно нашему правительству. Вы, по-видимому, не особенно ловкий человек.
М-р Верлок сделал усилие оправдать себя.
– Ведь я уже имел случай доложить вам, что вследствие роковой страсти к недостойной…
М-р Вальдер поднял белую, пухлую руку.
– Ах, да… Несчастная привязанность вашей молодости! Она, конечно, выманила у вас деньги и затем выдала вас. Так ведь?
Грустное выражение на лице Верлока подтвердило, что, действительно, так дело и произошло. М-р Вальдер охватил руками перекинутое через другую ногу колено.
– Вот видите, вы попадаетесь в вопросах. Это хуже всего. Может быть, вы слишком чувствительны?
М-р Верлок пробормотал несколько хриплым голосом, что молодость его уже миновала.
– Этот недостаток не проходит с годами, – заметил м-р Вальдер с злорадством. – Впрочем, вы слишком толсты. Вы бы так не растолстели, если бы, действительно, принимали все близко к сердцу. Я знаю, в нем дело. Вы просто лентяй. Сколько времени ви состоите на жалованьи у нас в посольстве?
– Одиннадцать лет, – ответил м-р Верлок после некоторого колебания. – Мне поручено было несколько миссий в Лондоне еще в то время, когда его превосходительство, барон Стотт-Вартенгейм, был еще посланником в Париже. Потом, по распоряжению его превосходительства, я поселился в Англии. Я ведь англичанин.
– Вы англичанин? Вот как!
– Да, я уроженец Англии и английский подданный, – сказал Верлок. – Но отец мой был француз, и поэтому…
– Ну, да все равно, – прервал его м-р Вальдер. – Плохо то, что вы ленивы и не умеете пользоваться обстоятельствами. Во времена барона Стотт-Вартенгейма, у нас тут было в посольстве много мягкосердечных простаков. Благодаря им, люди вроде вас составляли себе неверное представление о секретных фондах. Мой долг сказать вам правду, и прежде всего объяснить, что именно составляет назначение секретного фонда. Прежде всего, я вам должен сказать, что секретный фонд – не благотворительное учреждение. Я вас вызвал сюда именно для того, чтобы заявить вам это. – М-р Вальдер увидел по лицу Верлока, до чего он его поразил, и злорадно засмеялся.
– Я вижу, – сказал он, – что вы меня вполне поняли. Полагаю, что у вас хватит ума на то, что от вас требуют. Теперь нам нужна активная деятельность… активная деятельность.
Повторяя последнее слово, м-р Вальдер стукнул большим белым пальцем по краю стола. М-р Верлок изменился в лице. У него покраснела шея над бархатным воротником пальто, и губы его дрожали, прежде чем они широко раскрылись.
– Если вы будете столь любезны просмотреть мои донесения, то увидите, – громко крикнул он густым ораторским басом, – что всего три месяца тому назад именно я предупредил об опасности приезда сюда принца Ромуальда. Мое предупреждение сообщено было по телеграфу французской полиции, и…
– Французская полиция не нуждалась в вашем предупреждении, – поспешно возразил м-р Вальдер, нахмурив брови. – Да не орите так. Что это за манеры!
М-р Верлок извинился в том, что забылся на минуту, но в его извинении прозвучала гордая нотка. Его громкий голос славился много лет на митингах под открытым небом и в больших рабочих собраниях. Благодаря зычному голосу, он и приобрел, по его словам, популярность среди товарищей.
– Меня всегда заставляли говорить в самые бурные минуты, – объяснил он м-ру Вальдеру. – Каков бы ни был гул, мой голос все-таки был слышен… Позвольте, продемонстрировать вам это, – предложил он вдруг м-ру Вальдеру, чтобы доказать, что он приносит пользу делу своими исключительными талантами. Не дожидаясь ответа, он слегка наклонил голову, быстро прошел через комнату и подошел к одному из больших окон. Точно повинуясь безотчетному порыву, он приоткрыл окно. М-р Вальдер в изумлении вынырнул из глубин своего кресла и, подойдя к м-ру Верлоку, заглянул ему за плечо. Внизу, через весь двор посольства, за открытыми воротами, виднелась широкая спина полисмена. Он лениво поглядывал на колясочку, в которой везли гулять разряженного ребенка.
– Констебль! – позвал м-р Верлок без всякого усилия повысить голос, и м-р Вальдер расхохотался, увидав, что полисмен быстро обернулся, точно его ткнули в бок чем-то острым. М-р Верлок спокойно закрыл окно и вернулся на середину комнаты.
– Вот каким голосом – сказал он – я одарен от природы. И к тому же я всегда знаю, что следует сказать.
Поправляя постук, м-р Вальдер посмотрел на Верлока в зеркало над камином.
– Вы, вероятно, в достаточной степени владеете жаргоном социалистов-революционеров? – спросил он презрительным тоном. – Vox et… Латинскому языку учились?
– Нет, – злобно пробормотал Верлок. – Этого от меня, надеюсь, и не требуется. Зачем? Я принадлежу к миллионам простых людей. Кто знает латынь? Сотни жалких дураков, которые не умеют даже сами позаботиться о себе, на которых должны работать другие.
М-р Вальдер изучал еще с полминуты в зеркале заплывший профиль и толстую фигуру стоявшего за ним Верлока. В то же самое время он с удовольствием видел перед собой свое собственное лицо, гладко выбритое, розоватое, с тонкими губами, как бы созданными для того, чтобы произносить тонкие, остроумные фразы, делавшие его любимцем самого избранного общества. Затем он обернулся и прошел на середину комнаты так решительно, что даже кончики его нажитого галстука, казалось, приобрели угрожающий вид. М-р Верлок искоса взглянул на него и внутренно вздрогнул.
– Ага, вы смеете говорить дерзости! – воскликнул м-р Вальдер со странным картавым выговором, поражая м-ра Верлока мастерской подделкой под простонародную речь. – Вот вы какой! Ну, так я объяснюсь с вами на чистоту. К чорту ваш голос! Нам ваш голос не нужен. Нам нужны факты. Поражающие факты, чорт возьми! – прибавил он, глядя Верлоку прямо в лицо.
– Убирайтесь во-свояси! – крикнул в ответь м-р Верлок тоже голосом рабочего на сходке.
М-р Вальдер насмешливо улыбнулся и перешел на французский язык.
– Вы выдаете себя нам за провокатора. А дело провокатора – создавать факты. Насколько я могу судить по вашим донесениям, вы не сделали ничего, чтобы заработать свое жалованье за последние три года.
– Ничего?! – воскликнул м-р Верлок, стоя неподвижно и даже не поднимая глаз, но с искренним чувством обиды в голосе. – Я несколько раз предотвратил…
– Здесь у вас говорят, что предотвращение лучше лечения, – прервал его м-р Вальдер, снова усаживаясь в кресло. – Но это – глупое правило. В Англии только одно и знают, что предупреждать. Это очень характерно. Не любят и не умеют доходить ни в чем до конца. Не будьте слишком уж англичанином. И в данном случае – не будьте нелепы. Зло существует. Предупреждать поздно – нужно лечить.
Он остановился, повернулся к столу и, наклоняясь над бумагами, сказал изменившимся деловитым тоном, не глядя на м-ра Верлока:
– Вы, ковечно, знаете о международной конференции, которая собирается в Милане?
М-р Верлок ответил хриплым голосом, что он читает газеты, а на дальнейший вопрос сказал, что, очевидно, понимает прочитанное. На это м-р Вальдер, слабо улыбаясь и глядя на бумаги, лежавшие перед ним, проговорил в ответ:
– Конечно, только в том случае, если газеты не написаны по-латыни.
– И не по-китайски, – решительно прибавил Верлок.
– Гм… Некоторые излияния ваших друзей – такая тарабарщина, что их язык не легче понять, чем китайский. – М-р Вальдер презрительно протянул Верлоку листки, напечатанные на сероватой бумаге. – что это за листки под инициалами «Б. П.» с пересеченными молотком, пером и факелом на заголовке? Что значит Б. П.?
– «Будущее Пролетариата», – объяснил м-р Верлок, подойдя в внушительному письменному столу. – Это – такое общество – не анархическое по существу, но открытое революционерам всех оттенков.
– А вы член этого общества?
– Я один из вице-президентов, – ответил м-р Берлов, переводя дыхание.
Первый секретарь посольства поднял голову и взглянул на него.
– В таком случае, стыдитесь, – сказал он ядовито. – Неужели ваше общество только то и в состоянии делать, что печатать вздорные пророчества на грязной бумаге. Почему вы ничего не предпринимаете? Говорю вам прямо: теперь это дело в моих руках, и я предлагаю вам заработать так или иначе свое жалованье. Времена старика Стотт-Вартенгейма прошли навсегда. Не заработаете – и денег не получите.
М-р Верлок почувствовал слабость в ногах. Он отступил на шаг, сильно встревоженный. Рыжеватый лондонский свет рассеял туман и осветил тепловатым блеском кабинет первого секретаря. Среди тишины м-р Верлок услышал тихое жужжание мухи у окна, первой мухи, возвещавшей приход весны. Напрасная суетливость маленького, энергичного организма была неприятна этому толстому ленивому человеку.
М-р Вальдер делал свои заключения, глядя на лицо и фигуру м-ра Верлока. Он находил его чрезвычайно вульгарным, неуклюжим и возмутительно неумным и непонятливым. У него был вид водопроводного мастера, пришедшего со счетом. Первый секретарь посольства считал именно этот класс ремесленников воплощением лени, непонимания и мошенничества.
Так вот каков знаменитый тайный агент, которому так доверял и которого в видах конспиративности никогда не называл по имени, а только обозначал знаком А в оффициальной, полу-оффициальной и конфиденциальной корреспонденции барон Стотт-Вартенгейм! Вот этот знаменитый агент А, донесения которого могли менять планы путешествий высокопоставленных лиц и даже могли совершенно отменять эти путешествия. Вот он каков! – М-р Вальдер стал внутренно смеяться и над своим собственным наивным удивлением по этому поводу, и, главным образом, над глупостью покойного, всеми оплакиваемого барона Стотт-Вартенгейма. Покойный барон занимал пост посланника только вследствие особого благоволения к нему его державного повелителя. Это обстоятельство побеждало протесты против него министров иностранных дел. Он славился своей трусостью. Его преследовал страх социальной революции. Он воображал, что предназначен судьбой быть последними дипломатом на свете, и что ему придется видеть конец мира среди страшных народных волнений. Его пророческие, преисполненные ужаса донесения потешали в течение долгих лет все министерство иностранных дел. рассказывали, что на смертном одре, в присутствии удостоившего его своим посещением державного повелителя и друга, он воскликнул: «Несчастная Европа! Ты погибнешь, благодаря нравственной извращенности твоих детей». – «Он должен был роковым образом сделаться жертвой первого обманщика и негодяя, который попался на его пути», – подумал м-р Вальдер, неопределенно улыбаясь и глядя на м-ра Верлока.
– Вам следует чтить память покойного барона Стотт-Вартенгейма, – вдруг сказал он.
На потупленном лице м-ра Верлока отразилась досада.
– Позвольте напомнить вам, – сказал он, – что я явился сюда, потому что меня вызвали экстренным письмом. За одиннадцать лет моей службы я был здесь не более двух раз и, конечно, не в одиннадцать часов утра. Вызывать меня в такое время весьма неблагоразумно. Меня могут увидеть, а это, зваете ли, была бы не шутка для меня.
М-р Вальдер пожал плечами.
– Это уничтожило бы мою полезность, – продолжал Верлок, вспылив.
– Это ваше дело, – проговорил м-р Вальдер с ледяной вежливостью. – Когда вы перестанете быть полезным, вас удалят. Да, удалят. Вас… – м-р Вальдер остановился на минуту, нахмурив брови, и потом снова просиял и оскалил красивые белые зубы: – вас прогонят, – закончил он с злорадством.
М-р Верлок снова должен был напрячь все силы, чтобы побороть слабость в ногах. У него, действительно, по пословице, ушла душа в пятки. Преодолев себя, он поднял голову и смело взглянул м-ру Вальдеру прямо в лицо. Тот совершенно спокойно выдержал его взгляд.
– Нам нужно поднять дух у членов миланской конферевции, – сказал он. – Мысль об организации международной борьба против политических преступлений не находит достаточного сочувствия. Англия не хочет примкнуть к организации. Удивительно нелепы они со своим преклонением перед кумиром свободы личности! Нельзя подумать без возмущения о том, что всем вашим приятелям стоит только приехать сюда…
– Зато они все у меня на виду, – прервал его м-р Верлок.
– Было бы гораздо лучше держать их всех под замком. Нужно довести до этого Англию. бессмысленная английская буржуазия становится сообщницей тех самых людей, цель которых – выгнать собственников из их домов и обречь их на голодную смерть. Пока у собственников еще есть в руках политическая власть, им следовало бы пользоваться ею для того, чтобы уберечь себя. Вы, я полагаю, согласны с тем, что средний класс отличается необыкновенной глупостью.
– Да, – согласился Верлок.
– У этих людей нет воображения. Они ослеплены идиотским тщеславием. Нужно их перепугать – тогда они опомнятся. И вот как-раз теперь психологический момент, когда нужно пустить в ход ваших друзей. Я вызвал вас, чтобы раввить эту мысль.
М-р Вальдер стал развивать свой план очень свысока, презрительным тоном, обнаруживая в то же время большое невежество относительно истинных целей и методов революционеров. М-р Верлок был поражен. Первый секретарь посольства непростительно смешивал причины со следствиями, самых выдающихся пропагандистов – с безразсудными бомбометателями, предполагал организацию там, где она не могла существовать в силу обстоятельств, говорил о революционной партии, то как о строго дисциплинированной армии, в которой слово вождя – закон, то как о шайке разбойников. Раз даже м-р Верлок раскрыл рот для протеста, но движение поднятой кверху красивой белой руки остановило его.
Вскоре он пришел в такой ужас, что даже не пытался возражать. Он слушал с безмолвным страхом, который мог казаться безмолвием глубокого внимания.
– Нужна серия преступных деяний, – спокойно продолжал м-р Вальдер, – совершенных здесь… именно совершенных, а не только задуманных; иначе это не произвело бы никакого впечатления. Ваши друзья могли бы разрушить огнем пол-Европы, и это бы не возбудило здесь общественного мнения в пользу карательных законов. Тут слишком привыкли думать только о себе.
М-р Верлок откашлялся, но у него захватило дыхание, и он ничего не сказал.
– Нет надобности в кровавых преступлениях, – продолжал м-р Вальдер, точно читая научную лекцию. – Нужно только придумать что-нибудь достаточно эффектное. Лучше всего, например, чтобы преступный замысел был направлен, например, против каких-нибудь зданий. Что, по-вашему, в настоящее время, фетиш буржуазии? Что, мистер Верлок?
М-р Верлок развел руками и слегка пожал плечами.
– Вы слишком ленивы, чтобы подумать, – сказал м-р Вальдер, увидав его жест. – Обратите внимание на то, что я скажу. Современный фетиш – это ни монархическая власть, ни религия. Поэтому, оставим в покое церкви и дворцы. Вы понимаете меня, м-р Верлок?
Гнев м-ра Верлока нашел исход в игривости.
– Отлично понимаю. А как вы думаете насчет посольств? Серия покушений на равные посольства… – начал он, но не мог продолжать, не выдержав холодного, пристального взгляда первого секретаря.
– Вы умеете быть шутливым, – небрежно заметил тот. – Что ж, это недурно. Это оживляет, вероятно, ваше красноречие на социалистических конгрессах. Но тут не место шутить. Гораздо полезнее для вас тщательно выслушать то, что я скажу. Так как от вас требуют фактов, а не басен, то постарайтесь воспользоваться тем, что я беру на себя труд вам изложить. Священный фетиш наших дней – наука. Так почему вам не возбудить ваших друзей против этого деревянного идола? Разве наука не принадлежит в тем учреждениям, которые должны быть сметены с лица земли во имя торжества пролетариата?
М-р Верлок ничего не сказал, опасаясь, что у него вырвется крик негодования, если он раскроет рот.
– Вот что вам следовало бы организовать. Покушения на людей, стоящих у власти, конечно, эффектны сами по себе, но уже не так, как прежде. Эта опасность стала как-то укладываться в общую схему жизни всех глав государств. Это уже стало банальным – особенно с тех пор, как убито столько президентов. Ну, а желание взорвать церковь, как оно ни ужасно на первый взгляд, все же не так сильно действует на умы, как может показаться человеку неопытному. До чего бы такое преступление ни было революционным и анархическим по существу, все же найдутся дураки, которые увидит в нем религиозную манифестацию; а это лишило бы террористический факт того специально пугающего значения, которое мы хотим ему придать. Взрыв ресторана или театра тоже может приобрести чисто политическое значение, казаться местью голодных людей. Все это слишком использовано и уже не может служить предметным уроком для демонстрации революционного анархизма. Каждая газета имеет достаточно готовых фраз, чтобы уничтожить эффект таких манифестаций. Я вам объясню философию бомбометательства с моей точки зрения, т.-е. по отношению к той цели, которой и вы, будто бы, служите одиннадцать лет. Я буду говорить очень просто. Чувствительность того общественного класса, на который вы нападаете, очень притуплена. Нельзя рассчитывать на длительность их чувств сострадания или страха. Только тот террористический факт может повлиять на общественное мнение, в котором нет ни тени мести и политического героизма. Он должен быть только актом разрушения и больше ничего – ее иметь никакой другой цели. Вы, анархисты, должны ясно показать, что решились уничтожить весь общественный строй. Но как вдолбить такое представление в головы людей, чтобы не было на этот счет никакого сомнения? Вот в чем допрос – и вот ответ: нужно направить удары на нечто, стоящее вне обычных страстей человечества. Взрыв бомбы в Национальной галлерее произвел бы, конечно, некоторый шум, но не оказал бы достаточного воздействия. Искусство никогда не было фетишем толпы. Это то же, что разбить окна в задних комнатах дома. Для того, чтобы действительно оглушить человека, нужно, по крайней мере, взорвать крышу над ним. За искусство и его права вступилось бы несколько художественных критиков и любителей искусства, – но кто бы стал обращать внимание на их жалобы и крики? Совсем другое дело – наука. В нее верит всякий болван, наживший состояние. Он сам не знает почему, но верит. Это – самый священный фетиш. Все профессора, конечно, – радикалы в душе. Но скажите им, что их идол должен быть свержен до имя будущности пролетариата, и эти ученые тупицы поднимут вой, который как-раз будет на руку миланской конференции. Они наводнят газеты очень удобными для нас статьями. Их негодование будет выше всяких подозрений, так как их видимых материальных интересов при этом не будете затронуто, и они возбудят эгоистический ужас в том классе, за который следует влиять. Имущий класс верит, что наука каким-то мистическим путем является истинным источником их богатства, и поэтому дикая манифестация против науки подействует сильнее за них, чем если бы взорвали на воздух целую улицу или театр, переполненный людьми их класса. В последнем случае, они решили бы, что это – только «классовая ненависть», – но что можно сказать о проявлении бессмысленной жестокой жажды разрушения – почти непостижимо-безумной? Безумие – вот что самое страшное: на него нельзя повлиять угрозами, убеждениями или подкупом, к тому же, я вовсе не убеждаю вас устраивать какую-то бойню. Я культурный человек и не желал бы пользоваться такими средствами, хотя бы для наилучших результатов. Но я даже не ожидал-бы никаких благотворных результатов от кровопролития. Убийство – явление обычное; оно ничего не меняет. Это – почти общественное учреждение. Демонстрация должна быть направлена против науки. И даже не безразлично, против какой. Нужно, чтобы покушение потрясло бесполезностью глумления. Так как вы орудуете бомбами, то следовало бы бросить бомбу в чистую математику. Но это, конечно, невозможно. Я развил вам высшую философию применения ваших сил и привел веские доводы. Практическое применение моих мыслей – уже ваше дело: Но и в этом отношении я могу снабдить вас еще кое-какими указаниями. Какого вы мнения о том, чтобы обрушиться на астрономию?
М-р Верлок стоял неподвижно, точно в столбняке, у кресла м-ра Вальдера, и только от времени до времени слегка судорожно вздрагивал, как домашняя собака, свернувшаяся у камина, которую во сне мучат кошмары.
Он только повторил звуком, похожим на рычание:
– На астрономию?
Он еще не очнулся от оглушающего впечатления быстро произнесенной речи м-ра Вальдера. Он ее мог сразу усвоить себе его слов, и это его злило. К тому же, он не вполне доверял искренности своего собеседника, боялся, что тот над ним смеется, тем более, что м-р Вальдер сидел, улыбаясь, оскалив свои белые зубы, с ямочками на круглом лице. Любимец светских дам принял обычную позу, в которой он произносил свои тонкие, остроумные фразы в салонах. Слегка подавшись вперед, подняв белую руку, он как бы осторожно держал между двумя пальцами свой тонкий и убедительный довод.
– Ничего лучшего и придумать нельзя. Такого рода покушение соединяет наибольшую заботу о человечестве с угрожающим проявлением идиотской жестокости. Самый умный журналист не в состоянии будет убедить свою публику в том, что какой бы то ни было член пролетариата может питать личную вражду к астрономии. Тут уж нельзя объяснить дело голодом. Затем, этот план имеет еще много других преимуществ. Весь цивилизованный мир слыхал про Гринвич. Чистильщики сапог у вокзала Чаринг-Кросс знают про Гринвич. Теперь вы поняли?
Лицо м-ра Вальдера, которое так нравилось в лучшем обществе своей изящной веселостью, сияло теперь циничным самодовольством, которое бы изумило симпатизирующих ему светских дам.
– Да, – продолжал он с презрительной усмешкой: – если взорвать первый меридиан, то это вызовет вой и проклятие во всем мире.
– Это трудная штука, – пробормотал м-р Верлок, чувствуя, что только это ему и безопасно сказать.
– Почему? Ведь у вас в руках вся компания, самый цвет их шайки. Старый террорист Юат – в Лондоне. Я каждый день встречаю его на Пикадилли в его зеленой насадке. И Михаэлис, отпущенный на свободу апостол, тоже здесь – надеюсь, вы не скажете, что вам неизвестно, где он? Если не знаете, то я вам скажу, – продолжал м-р Вальдер с угрозой в голосе. – Если вы воображаете, что секретные суммы оплачивают вас одного, то ошибаетесь. А все лозанцы? Разве они не сбежались все сюда, как только зашла речь о миланской конференции? Здесь всех готовы приютить.
– Это будет стоить денег, – сказал м-р Верлок.
– На эту удочку меня не подденете, – возразил м-р Вальдер. – Вы будете получать свое месячное жалованье и ни гроша больше, пока чего-нибудь не устроите. А если и впредь ничего у вас не выйдет, то и этого вам больше не дадут. Какое у вас занятие для видимости? Чем вы живете, по общему мнению?
– У меня лавка, – ответил м-р Верлок.
– Лавка? Что за лавка?
– Канцелярские принадлежности, газеты. Моя жена…
– Ваша… что? – прервал м-р Вальдер.
– Моя жена. – М-р Верлок слегка повысил голос. – Я женат.
– Чорт знает, что такое! – воскликнул м-р Вальдер. – Женаты? – В голосе его послышалось искреннее изумление. – Что за глупости! Но, конечно, это только манера выражаться. Анархисты ведь не женятся. Это хорошо известно. Им нельзя. Это значило бы отречься от своих принципов.
– Моя жена не анархистка, – с досадой проговорил м-р Верлов. – К тому же, это вас совершенно не касается.
– Очень касается, – возразил м-р Вальдер. – Я начинаю думать, что вы вовсе не годитесь для службы у вас. Вы наверное погубили себя в глазах своих товарищей вашей женитьбой. Неужели вы не могли обойтись без этого? И вот какова была ваша прежняя привязанность! Всеми своими привязанностями вы делаете себя совершенно непригодным для нас.
М-р Верлок ничего не ответил. Он вооружился терпением. На этот раз, впрочем, испытанию наступил конец. Первый секретарь закончил резко и отрывисто:
– Можете идти, – сказал он. – Нужен динамитный взрыв. Я даю вам месяц. Заседания конференции временно приостановлены. Прежде чем они возобновятся, здесь должно что-нибудь произойти, или вы лишаетесь службы.
Переменив опять тон, со свойственной ему неустойчивостью, он заговорил дружески.
– Подумайте о моей философии, м-р Верлок, – сказал он на прощанье. – Направьте свои усилия на первый меридиан. Вы не знаете среднего класса так, как я. рассчитывать на их чувствительность нельзя. Первый меридиан – это на них подействует. Это – самое лучшее, да, по-моему, и самое легкое.
Он встал с кресла и, сжав тонкие губы с усмешкой, стал смотреть в зеркало над камином, как м-р Верлок тяжеловесно выходил из комнаты, держа в руке шляпу палку. Дверь закрылась.
Лакей в ливрее, вдруг появившийся в корридоре, провел м-ра Верлока по другой дороге через маленькую дверь в другой угол двора. Привратник у главных ворот не видал, как они вышли, и м-р Верлок направился домой как во сне. Он настолько забыл обо всем окружающем, что хотя его земная оболочка двигалась неспешно по улицам, духом он как бы в ту же минуту очутился у дверей своей лавки, точно прилетел с запада на восток на крыльях сильного ветра. Он прямо прошел за прилавок и сел на деревянный стул за ним. Никто не нарушал его уединения. Стэви, на которого надели зеленый люстриновый передник, подметал лестницу и сметал пыль, ревностно и добросовестно выполняя порученное ему дело, точно это была интересная игра. М-сс Верлок была в кухне. Услыхав дребезжащий звук колокольчика, она только подошла в стеклянной двери, ведущей из внутренних комнат в лавку, и, слегка отдернув занавеску, заглянула в тускло освещенную лавку. Увидав, что муж сидит мрачный, тяжеловесно опустившись на стул, сдвинув далеко назад шляпу, она сейчас же вернулась в плите. Через час она сняла зеленый передник с своего брата Стэви и велела ему вымыть руки и лицо. Она говорила с мальчиком властным тоном, которым влияла на него с самого детства. Перестав на минуту мыть посуду, она тщательно осмотрела лицо и руки Стэви, когда он подошел в кухонному столу показать ей, что приказание её выполнено. Прежде эта формальность предобеденного омовения совершалась из страха перед гневом отца, но кротость м-ра Верлока в домашнем обиходе разрушала всякую возможность ссылаться на его гнев. Даже Стэви, при всей его нервности, не поверил бы. Поэтому Винни пользовалась другим доводом. Она говорила, что м-ру Верлоку было бы чрезвычайно больно и неприятно, если, бы за обеденным столом не соблюдалась полная чистота. Винни почувствовала большое облегчение после смерти отца в том, что ей уж больше не придется дрожать за бедного Стэви. Она не могла выносить, чтобы обижали мальчика. Это сводило ее с ума. Когда она была маленькой девочкой, она бросалась на отца, сверкая глазами, чтобы защитить брата. А теперь по спокойной наружности м-сс Верлок никак нельзя было бы предположить, что она способна в проявлениям страстных чувств.
Она кончила накрывать стол к обеду. и, подойдя в лестнице, крикнула: – Мама! – Затем, открыв стеклянную дверь в лавку, она спокойно сказала: – Адольф. – М-р Верлок сидел в той же позе, очевидно, не шевельнувшись в течение полутора часа. Он грузно поднялся и вышел к обеду в пальто и шляпе, не говоря ни слова. Его молчание само по себе не было столь необычным в жизни этой семьи, ютившейся в мрачной улице, куда редко заглядывало солнце, проводившей дни за полутемной лавкой, где продавались подозрительные дрянные товары. Но в этот день в молчании м-ра Верлока чувствовалась глубокая задумчивость, которая произвела сильное впечатление на обеих женщвп. они сидели сами молча и только следили глазами за бедным Стэви, боясь, чтобы он как-нибудь не впал в припадок говорливости, что с ним иногда случалось. Но он спокойно сидел против м-ра Верлока и молча смотрел в пространство. Забота о том, чтобы мальчик не раздражал хозяина дома своими странностями, омрачала жизнь этих двух женщин. «Этот мальчик», как они его называли, говоря о нем между собого, был источником больших забот для матери с самого дня своего рождения. Его отец при жизни чувствовал себя униженным тем, что у него сын с такими странностями, и его обида на судьбу выражалась в суровом обращении с мальчиком. Потом, после его смерти, нужно было удерживать Стэви от того, чтобы он не раздражал жильцов. И после того самый факт его существования был для его матери источником больших тревог. – Если бы ты не вышла замуж за такого хорошего человека – говорила вдова своей дочери, – то я не знаю, что сталось бы с бедным мальчиком.
М-р Верлок относился к Стэви очень терпимо, – как человек, не особенно любящий животных, отнесся бы к любимой кошке своей жены. Обе женщины считали, что большего нельзя было и требовать. За это одно мать Стэви питала бесконечную благодарность к своему зятю. В первое время она еще иногда, изверившись в доброте людей в течение своей долгой жизни, тревожно спрашивала дочь: – Тебе не кажется, дорогая, что м-ру Верлоку хотелось бы избавиться от Стэви? – В ответ на это Винни обыкновенно только слегка качала головой. Только раз она сказала странным, угрюмым и вместе с тем вызывающим тоном: – Для этого ему пришлось бы раньше избавиться от меня. – Последовало долгое молчание. Мать старалась проникнуть в смысл этого ответа, поразившего ее глубиной затаенных в нем чувств. В сущности она никак не могла понять, почему Винни вышла замуж за м-ра Верлока. Брак этот был очень благоразумен, и дочери её жилось, по-видимому, теперь хорошо, но все же было бы естественно, если бы Винни выбрала какого-нибудь более подходящего по возрасту спутника жизни. За нею ухаживал один милый молодой человек, единственный сын хозяина мясной лавки на соседней улице. Правда, он пока жил еще на иждивении отца, но дела отца шли хорошо, и будущее молодого человека было обеспечено. Винни он нравился. Она ходила с ним гулять по воскресеньям; он водил ее часто в театр. Но как раз тогда, когда мать уже начала бояться, что вот-вот дочь объявит ей о своей помолвке (как бы она стала управляться одна с большим домом, имея на плечах такую обузу, как Стэви?) роман между Винни и сыном мясника круто оборвался. Винни ходила несколько времени с очень грустным лицом. Но вскоре Провидение послало им м-ра Верлока, который занял лучшую комнату в первом этаже. О молодом сыне мясника уже не было больше речи. Очевидно, само Провидение так устроило.
– Всякая идеализация отнимает что-то у жизни. Прикрашивать жизнь значит лишать ее сложности – разрушать ее. Предоставьте это моралистам, милый мой. Историю делают люди, но не из своей головы. Мысли, которые рождаются в сознании, играют самую незначительную роль в ходе событий. История определяется и управляется производством и орудиями производства, т.-е. силой экономических условий. Капитализм породил социализм, и законы, созданные капитализмом для защиты собственности, и являются единственно ответственными за анархизм. Никак нельзя знать, каков будет общественный строй в грядущие времена, и незачем поэтому предаваться страстным пророческим бредням. В лучшем случае, они только характерны для пророка, но никакой объективной ценности у них быть не может. Предоставьте же эту забаву моралистам…
Михаэлис, выпущенный на свободу апостол, говорил это ровным голосом, несколько сдавленным под тяжестью толстого жирового слоя на груди. Он вышел из гигиенично устроенной тюрьмы, толстый как бочка, с огромным животом и одутловатыми бледными щеками. Можно было подумать, что его враги нарочно кормили его в течение пятнадцати лет чрезмерно жирной пищей, упрятав его в сырой темный погреб. Потом уже и на свободе ему не удавалось спустить ни одного фунта веса.
Рассказывали, что в течение трех сезонов сряду одна богатая старая дама посылала его лечиться в Мариенбад, но его выслали оттуда по случаю приезда именитых пациентов и лишили таким образом доступа к целебным водам. Сначала он возмущался, но потом вполне покорился судьбе.
Опершись на заплывшие жиром локти, он слегка подался вперед своих грузным туловищем и плюнул в решетку камина.
– Да, у меня было достаточно времени все это обдумать, – прибавил он, не повышая голоса. – Общество предоставила мне нужный для размышления досуг.
По другую сторону камина, на мягком удобном кресле, в котором обыкновенно сидела мать м-сс Верлок, расположился Карл Юнт. Он мрачно рассмеялся, раскрыв беззубый рот. Террорист – так он сам себя называл – был лысый старик с отвисшим подбородком. В его потухших глазах сверкало затаенное гневное чувство. Он поднялся, опираясь на тонкую палку, изогнувшуюся под тяжестью его руки.
– Я всегда мечтал – заговорил он мрачным тоном – о союзе людей, твердо решивших действовать, не стесняясь средствами, достаточно сильных, чтобы смело признать себя разрушителями, и свободных от смирения и пессимизма, от которого гибнет и разлагается мир. беспощадность во всему на земле, в том числе и в самому себе, отречение от всего во имя блага человечества в его грядущих судьбах – вот чего я требовал от нужных мне сообщников.
Его маленькая лысая голова вся тряслась, в горле у него пересохло от возбуждения. М-р Верлок, усевшийся в углу дивана на другом конце комнаты, промычал что-то неопределенное в знак одобрения.
Старый террорист медленно покачал головой.
– И я никогда не мог собрать хотя бы трех таких людей, – сказал он. – Все из-за вашего проклятого, бесплодного пессимизма! – накинулся он на Михаэлиса. Тот расставил свои толстые, как подушки, ноги и принял оскорбленный вид.
Как можно было назвать его пессимистом! Это его глубоко возмущало. Он был настолько далек от пессимизма, что, напротив того, твердо верил в близкий конец частной собственности. Он был убежден, что класс собственников погибнет от собственного разврата. Собственникам придется бороться не только против проснувшегося пролетариата, но и друг против друга. Борьба, война – вот грядущая судьба частной собственности. Гибель её неминуема. Михаелис тверда в это верил и не нуждался для подкрепления своей веры в реве возбужденной толпы, в красных флагах и т. д. Нет, один только холодный разум лежал в основе его оптимизма.
Он остановился, чтобы передохнуть, и потом продолжал:
– Не будь я оптимистом, – сказал он, – разве бы я не нашел в течение пятнадцати лет средства перерезать себе горло? В крайнем случае, я мог бы расшибить себе голову об стены камеры.
Прерывистость дыхания лишала его голос всякого огня. Его одутловатые бледные щеки свисали, как неживые; но в его синих глазах, сильно прищуренных, светилось сосредоточенное, безумное в своей напряженности, выражение твердой веры. С таким выражением в глазах он, вероятно, сидел по ночам в тюремной камере, предаваясь своим мыслям. Карл Юнт стоял перед ним, перекинув через плечо один конец своей зеленоватой накидки. Перед самым камином сидел товарищ Озипон, бывший студент медицины, главный составитель листков и брошюр издательства «Б. П.». Он вытянул ноги, повернув их пятками к огню. Пучок курчавых светлых волос торчал над его красным лицом с приплюснутым носом и толстыми губами, выдававшими его негритянское происхождение; глаза с миндалевидным разрезом светились темным блеском. над выступающими скулами. На нем была синяя фланелевая рубашка; свободные концы небрежно повязанного черного толкового галстука спускались на плотно застегнутый жилет. Он прислонялся головой в спинке стула, вытянув шею, поднес к губам папиросу, вставленную в длинный деревянный мундштук, и стал пускать в потолок клубы дыма.
Михаелис продолжал развивать свою мысль – ту мысль, которая его занимала в долгие годы заключения и превратилась у него в глубокую веру. Он говорил, обращаясь в самому себе, не думая о слушателях, и даже забывая об их присутствии, по усвоенной привычке думать вслух среди четырех выштукатуренных стен своей камеры, в гробовом молчании огромного кирпичного здания близ реки, мрачного и уродливого, как гигантская покойницкая для живых мертвецов.
Он совершенно не умел вести спор, не потому, что какие-либо выводы противника могли убедить его, а потому, что самый факт другого голоса, раздающегося рядом с ним, смущал его и спутывал его мысли. они создались в бесконечно долгие годы духовного одиночества, как бы среди безводной пустыни; ничей живой голос никогда их не опровергал, не одобрял, – и Михаэлис не умел доказывать их в живом споре.
На этот раз никто его не прерывал, и он снова изложил свое миросозерцание, которое он теперь исповедывал, как символ веры. Он говорил, что тайна судьбы всецело заключена в материальной стороне жизни, что будущее обусловливается только экономическими причинами, что в этом – источник всех идей, руководящих умственным развитием человечества и даже порывами их страстей.
Раздавшийся вдруг резкий смех товарища Озипона прервал Михаелиса на полуслове, и он не мог сразу продолжать. В его кротких восторженных главах появилось выражение растерянности. Он медленно закрыл их, как бы для того, чтобы собрать разбежавшиеся мысли. Наступило молчание. От пылающего огня камина и от двух газовых рожков над столом в комнате сделалось душно. М-р Верлок тяжеловесно поднялся с дивана, открыл дверь в кухню, чтобы впустить больше воздуха, и увидел Стэви, сидевшего спокойно за кухонным столом. Он по обыкновению чертил круги, бесконечное число кругов, концентрических, эксцентрических, целый хаос кругов, которые множеством сплетенных и повторенных кривых, множеством пересекающихся линий были каким-то отражением космического хаоса, символом безумного искусства, которое гонится за недостижимым. Художник даже не повернул головы, низко наклонившись над работой. М-р Верлок, неприятно удивленный присутствием мальчика в соседней комнате, вернулся на свое место на диване. Александр Озипон поднялся с места. Он казался очень высоким в комнате с низким потолком.
Пройдя в кухню, он стал за спиной Стэви, поглядел на его работу и, вернувшись, произнес тоном оракула:
– Очень хорошо. Очень характерно, совершенно типично.
– Что хорошо? – ворчливо спросил м-р Верлок, усевшийся снова в углу дивана.
Озипон небрежно пояснил свои слова, кивнув головой по направлению в кухне:
– Типичная форма вырождения, – я говорю о рисунках.
– Вы считаете мальчика дегенератом? – пробормотал м-р Верлок.
Товарищ Александр Озипон, по прозвищу «Доктор», был медиком без диплома, потом ездил из города в город читать лекции о гигиене с социальной точки зрения во всех рабочих союзах. Он был автором популярного полунаучного очерка (в виде дешевого памфлета, конфискованного вскоре после выхода в свет) под заглавием: «Губительные пороки среднего класса»; кроме того, он был делегатом таинственного главного комитета. Ему, вместе с Карлом Юнтомь и Михаэлисом, поручена была литературная пропаганда. Этот человек глядел теперь на тайного соглядатая, состоявшего в сношениях, по меньшей мере, с двумя посольствами, взглядом, выражавшим непоколебимую уверенность.
– Да, так его можно назвать с научной точки зрения. Очень типичный образчик этого рода дегенерации. Достаточно взглянуть на его уши. Если бы вы читали Ломброзо…
М-р Верлок, рассевшись широко на диване, стал пристально смотреть на пуговицы жилета. Щеки его слегка покраснели. В последнее время всякое упоминание чего-нибудь, относящегося в науке (слово само по себе невинное и довольно неопределенное), странным образом вызывало тотчас же в уме м-ра Верлока живой и весьма неприятный образ м-ра Вальдера. Это явление, составляющее, быть может, именно одно из чудес науки, погружало м-ра Верлока в странное состояние волнения и страха и вызывало в нем желание наговорить грубых слов, ругаться, чтобы облегчить этим душу. Но он ничего не сказал. Раздался голос не его, а Карла Юнта, неподкупного в своей прямолинейности.
– Ломброзо – осел! – выпалил он.
Товарищ Озипон взглянул на него испуганными широко раскрытыми глазами в ответ на такое богохульство. А Юнт продолжал сердитым голосом, ежеминутно схватывая губами кончик языка; он точно жевал его со злости.
– Да ведь этот идиот Бог весть что говорит! – кричал он. – Преступник для него – это заключенный в тюрьму. – Просто, не правда ли? Ну, а как относительно тех, которых сажают туда силой? Да, силой. Да и что такое преступление? Разве он знает это, ваш глупый пошляк, который прославился среди других пошляков тем, что стал рассматривать уши и зубы несчастных жертв? По его мнению, зубы и уши накладывают клеймо на преступника. А что сказать о законе, который еще яснее клеймит, – о способе клеймения, изобретенном сытыми для ограждения от голодных? Они раскаленным железом клеймят тело несчастных. Разве не слышите отсюда, как шипит под раскаленным железом живое тело? Вот как изготовляются преступники для Ломброзо и его глупостей.
Набалдашник его палки и его ноги дрожали от волнения, но его фигура, задрапированная в широкий плащ, сохраняла гордый и вызывающий вид. Он точно различал в воздухе запах жестокости, точно подслушивал чутким ухом страшные крики страдания. Чувствовалась большая сила во всем его существе. Почти умирающий ветеран динамитных войн был в свое время большим актером – актером на трибуне на тайных собраниях, в частных беседах. Он сам никогда в жизни пальца не поднимал во вред обществу. Он не был человеком действия и не был даже оратором, увлекающим потоком красноречия. Но он умел вызывать все разрушительные инстинкты в угнетенных, пробуждать озлобленность в бедняках. Он умел призывать к мятежу, и слабые остатки рокового дара все еще сохранились в нем.
Михаэлис улыбался отсутствующей улыбкой, не разжимая губ. Он понурил голову, сочувствуя словам Юнта. Он сам был в тюрьме. Его тело тоже жгли раскаленным железом, – и он теперь тихо напомнил об этом.
Товарищ Озипон, по прозванию «Доктор», оправился от первого впечатления слов Юнта.
– Вы этого не понимаете, – начал он презрительным тоном, но остановился, испуганный мертвенной чернотой провалившихся глаз, медленно повернувшихся к нему слепым взглядом. Он слегка пожал плечами и отказался от дальнейшего спора.
Стэви, привыкший, чтобы на него не обращали внимания, встал из-за кухонного стола и, взяв рисунки, направился в себе в комнату спать. Он очутился у двери лавки как раз во-время, чтобы выслушать всю образную речь Карла Юнта. Лист бумаги с нарисованными на нем кругами выпал у него из рук; он остановился как вкопанный, не сводя глаз с старого террориста. Его точно приковали к месту болезненный ужас и страх перед физической болью. Стэви хорошо знал, что если приложить раскаленное железо в телу, то от этого очень больно. Глаза его загорелись негодованием. Он ясно представил себе, до чего это больно. Он стоял, раскрыв широко рот.
Глядя неуклонно в огонь, Михаэлис снова испытал чувство уединения, необходимое для него, чтобы сосредоточить свои мысли. Из его уст снова потекли оптимистические пророчества. Он доказывал, что капитализм обречен на погибель с самой колыбели, так как родился с ядом конкурренции в крови. Большие капиталисты поедают маленьких, сосредоточивают силу и орудия производства в больших центрах, совершенствуют орудия промышленности и в безумном своем самовозвеличении подготовляют только законное наследие страдающего пролетариата. Михаэлис произнес великое слово: «Терпение», и в его ясном взгляде, поднятом в низкому потолку комнаты, отразилась ангельская твердость веры. Стэви, не отходивший от дверей, успокоился и точно впал в забытье.
На лице товарища Озипона отравилось нетерпение.
– Так, значит, нет надобности что-либо делать, – значит, лучше всего ждать, сложа руки?
– Я этого не говорю, – мягко возразил Михаэлис. – Видение истины так сильно внедрилось в него, что звук чужого голоса уже не мог его рассеять. Он продолжала смотреть в красные уголья. Нужно было готовиться в будущему, он готов был допустить, что великий переворот совершится среди взрыва революции. Но он только доказывал, что революционная пропаганда – дело, требующее чуткой совести. Революционная пропаганда, это – воспитание будущих властителей мира; оно, должно быть поэтому таким же тщательным, как воспитание королей. Нужно было, по его мнению, крайне осторожно, даже робко раскидывать сети пропаганды, так как мы совершенно не знаем, какое влияние может оказать всякое данное изменение экономических условий на счастье, нравственность, ум и историю человечества. История делается орудиями производства, а не идеями, – все меняется от изменения экономических условий – искусство, философия, любовь, добродетель – даже истина.
Уголья в камине с треском обрушились, и Михаэлис порывисто поднялся с места. Круглый, как раздувшийся шар, он раскрыл свои короткия толстые руки, как бы в безумном и неосуществимом желании обнять и прижать в груди обновленную собственным усилием вселенную. Он прерывисто дышал, отдаваясь пламенному порыву веры.
– Будущее так же установлено, как минувшее: рабство, феодализм, индивидуализм, коллективизм. Это – твердый закон, а не пустое пророчество.
Презрительная усмешка на толстых губах товарища Озипона еще яснее выдала негритянский тип его лица.
– Глупости! – сказал он довольно спокойно. – Нет никаких законов, и нельзя ничего определить заранее. Обучать – бессмысленно. Совершенно безразлично, что люди знают, хотя бы знания их были самые точные. Важны только эмоции. Без эмоций невозможно действие.
Он остановился и прибавил скромно, но решительно:
– Ведь я это говорю вам чисто научно, – научно. Что? что вы сказали, Верлок?
– Ничего, – пробормотал м-р Верлок. Услышав со своего места на диване ненавистный ему звук, м-р Верлок не мог удержаться от восклицания досады.
Старый, безгубый Юнт принялся опять шипеть. Слова его были точно пропитаны ядом.
– Знаете, каков, по-моему, современный экономический строй? Я его называю канибальским. Люди утоляют свою жадность, питаясь живым телом и теплой кровью своих ближних. Ничем другим их нельзя насытить.
Услыхав это ужасное заявление, Стэви застонал и сразу, точно в него влили быстро действующий яд, опустился и присел на ступеньки, ведущие в кухонной двери.
Михаэлис, по-видимому, ничего не слышал вокруг себя. Губы его окончательно сомкнулись и щеки отвисли, как неживые. Он оглянулся мутными глазами, ища свою круглую шляпу, и надел ее. Его заплывшее круглое тело точно плыло между стульями под острым локтем Карла Юнта. Старый террорист поднял дрожащую руку и надел широкополую фетровую шляпу. Он медленно двинулся с места и шел, на каждом шагу ударяя палкой по полу. Было довольно трудно выпроводить его из дому; он от времени до времени останавливался, задумываясь о чем-то, и не двигался с места, пока Михаэлис не подталкивал его. Кроткий апостол брал его под-руки с братской заботливостью; за ними шел, позевывая и засунув руки в карманы, коренастый Озипон. Сдвинутая назад синяя фуражка с кожаным околышем придавала ему вид скандинавского матроса, которому тоскливо после хорошей выпивки. М-р Верлок проводил своих гостей, попрощался с ними, все время держа глаза опущенными, затем закрыл за ними дверь, запер ее на ключ, задвинул засов. Он был недоволен своими друзьями. В свете теорий м-ра Вальдера они никуда не годились. А м-р Верлок должен был соблюдать определенную тактику в своих отношениях с революционерами, и не мог поэтому, ни дома, ни на больших революционных собраниях, взять на себя инициативу действия. Необходимо было соблюдать осторожность. Чувствуя негодование, вполне естественное в человеке, которому уже за сорок лет, и которому грозят отнять самое ему дорогое – его безопасность и спокойствие, – он с гневным презрением говорил себе, что ничего другого нельзя и ожидать от таких людишек, как Карл Юнт, Михаэлис и Озипон.
Остановившись в своем намерении потушить газовый рожок в лавке, м-р Верлок погрузился в бездну нравственных рассуждений. Он стал судить всю компанию. Бездельники они, в особенности Карл Юнт, которого няньчила его старая подруга. Он когда-то сманил ее от одного друга и потом много раз хотел отделаться от неё. Но, к счастью для Юнта, она от времени до времени снова к нему возвращалась. И теперь, не будь её, некому было бы помочь ему садиться в омнибус, когда он отправлялся на прогулку. Когда старуха умрет, то конец и Карлу Юнту, со всеми его разрушительными теориями. Нравственное чувство Верлока оскорблено было также оптимизмом Михаэлиса, который жил теперь на попечении одной богатой старой дамы. Она часто посылала его в свой коттэдж в деревне, и он целыми днями ходил по тенистым аллеям, обдумывая среди приятного досуга будущее человечества. И Озипон тоже умел как-то доставать деньги для жизненных удобств.
Думая о них, м-р Верлок прежде всего чувствовал зависть в их праздности. Он вдруг вспомнил о м-ре Вальдере, и зависть его в его друзьям-революционерам разгорелась еще сильнее. Хорошо им бездельничать! Они не ответственны перед ужасным м-ром Вальдером. К тому же, у них есть женщины, заботящиеся о них, а он, напротив того, имеет жену, о которой он должен заботиться.
Тут, по простой ассоциации идей, м-р Верлок вспомнил, что пора идти спать. Он вздохнул, так как знал, что ему не так-то легко будет заснуть. Уже много ночей его мучила непобедимая бессонница. Он поднял руку и затушил газовый рожок над головой.
Широкая полоса света проникла через дверь соседней комнаты в лавку, за прилавок. Ори этом свете м-р Верлок мог пересчитать выручку. Сумма была очень небольшая, и он в первый раз с тех пор как открыл лавку, задумался о коммерческой стороне своей торговли. Результат подсчета оказался весьма неблагоприятным. Он, правда, занялся торговлей не из коммерческих побуждений, а выбрал свой род торговли вследствие инстинктивного тяготения к темным промыслам, в которых деньги достаются легко. Кроме того, содержа свою лавку, он оставался в своей области, т.-е. под непосредственным надзором полиции, с которой он все равно имел тайные сношения. Все это создавало значительные удобства, но как средство в жизни этого было недостаточно.
Он вынул шкатулку с деньгами из ящика и направился уже в себе наверх, как вдруг заметил, что Стэви все еще в кухне.
«Что это он тут делает? – подумал м-р Верлок. – Чего он тут скачет?» М-р Верлок с удивлением посмотрел на мальчика, но ничего у него не спросил. Все разговоры м-ра Верлока с Стэви ограничивались тем, что он после утреннего завтрака говорил ему: «сапоги», – но не в форме приказа, а просто как сообщение факта, что он нуждается в сапогах. М-р Верлок с изумлением заметил теперь, что совершенно не знает, как говорить с Стеви. Он стоял среди комнаты и молча глядел в кухню. Он даже не знал, что могло бы произойти, если бы он что-нибудь сказал. Это вдруг показалось очень странным м-ру Верлоку, особенно в виду того, что мальчик находится всецело на его попечении и живет на его средства. С этой стороны он до сих пор никогда не смотрел на Стэви.
Он, положительно, не знал, как говорить с мальчиком, и молча смотрел, как тот что-то бормочет и сильно жестикулирует, бегая вокруг стола, как зверь в клетке. Нерешительное предложение м-ра Верлока: «Пошел бы ты лучше спать» – не произвело никакого впечатления. М-р Верлок перестал наконец наблюдать за странным поведением мальчика и пошел наверх, держа в руках шкатулку с деньгами. Он чувствовал страшную слабость, поднимаясь по лестнице, и это его беспокоило. Уж не заболеет ли он, чего доброго? Остановившись наверху лестницы, чтобы оправиться, он услышал мерный храп из комнаты своей тещи. «Вот еще и о ней нужно заботиться», – подумал он и направился в спальню.
М-сс Верлок заснула, не затушив лампы, стоявшей на столике у постели. Свет ярко падал на её лицо с закрытыми глазами и на черные волосы, заплетенные на ночь в косы. Она проснулась, услышав несколько раз громко повторенное свое имя.
– Винни, Винни! – звал муж, наклонившись над нею.
Она открыла глава и спокойно посмотрела на мужа, стоявшего у постели с шкатулкой в руках. Но когда она услышала, что брат её прыгает по кухре, она быстро соскочила с постели и надела туфли.
– Я не знаю, как с ним быть, – сказал м-р Вердок. – Нельзя оставить его внизу и не тушить света.
Она ничего не сказала и быстро выскользнула из комнаты. М-р Верлок поставил шкатулку на стол и стал ходить по комнате. Подойдя к окну, он поднял жалюзи и выглянул на улицу. За окном чувствовалась сырая, холодная ночь, грязь на улице. Дома имели неприветливый, угрюмый вид. М-ру Верлоку сделалось жутко. Ему вдруг показалось, что он и его близкие могут очутиться выброшенными на улицу среди холода и грязи, которую он видел в эту минуту перед собою. И вдруг перед его глазами мелькнуло, как в видении, лицо м-ра Вальдера; оно казалось розовым пятном среди мрака.
Мелькнувший на минуту образ был до того ясный, что м-р Верлок отшатнулся от окна, и жалюзи опустились с громким шумом. Окаменев от ужаса, что такие видения могут повториться, он увидел жену, вернувшуюся в спальню, и обрадовался присутствию живого существа. М-сс Верлок удивилась, что он еще не лег.
– Мне нездоровится, – пробормотал он, проведя рукой то влажному от пота лбу.
– У тебя голова закружилась?
– Да, мне очень нехорошо.
М-сс Верлок со спокойствием опытной женщины предложила обычные в таких случаях лекарства, но Верлок, не двигаясь с места, только отрицательно качал головой.
Наконец, она убедила его лечь в постель, чтобы не простудиться. Чтобы вызвать ее на разговор, м-р Верлок спросил, затушила ли она газ внизу?.
– Да, затушила, – ответила м-сс Верлок. – Бедный мальчик сегодня очень возбужден, – заговорила она после короткой паузы.
М-ру Верлоку не было никакого дела до возбужденности Стэви, но он так боялся темноты и тишины, которая наступит, когда потушат свет, что старался затянуть разговор. Он сказал, что Стэви не послушался его, когда он послал его спать. М-сс Верлок, попавшись в ловушку, стала доказывать мужу, что это не от непослушания, а от нервности. Стави – доказывала она – послушный и кроткий мальчик и пригоден для всякой работы; не нужно только кружить ему голову вздором. М-сс Верлок старалась уверить мужа, что Стэви – полезный член семьи, и страстное желание защитить мальчика, ж которому она чувствовала болезненную жалость с самого детства, возбуждало ее. Глаза её сверкали темным блеском, и она казалась прежней молоденькой Винни того времени, когда мать её сдавала комнаты жильцам. М-р Верлок не слушал слов её. Он был слишком поглощен собственной тревогой, и голос её доходил до него как бы из-за плотной стены. Но вид её пробуждал его от кошмара. Он был привязан к этой женщине, – и это чувство только усиливало теперь его душевные муки. Когда она замолкла, ему снова сделалось страшно и он сказал:
– Мне очень нездоровится последние дни.
Может быть, эти слова были вступлением в полной исповеди, но м-сс Верлок слишком занята была мыслью о брате, и продолжала говорить о нем.
– Он слишком много слышит того, что не следует. Если бы я знала, что они сегодня придут, я бы его услала спать, когда пошла сама. Он что-то слышал о том, что едят мясо людей и пьют их кровь, и теперь вне себя. Зачем болтать такой вздор?!
В голосе её послышалось возмущение. М-р Верлок окончательно оправился.
– Спроси Карла Юнта, – сказал он.
М-сс Верлок решительно заявила, что Карл Юнт – противный старик. Она призналась в симпатии к Михаэлису. Об Озипоне она ничего не сказала; она чувствовала что-то пугающее за его каменным спокойствием. Продолжая говорит о брате, который был в течение стольких лет предметом её попечения, она сказала:
– Ему нельзя слушать того, что здесь говорится. Он думает, что все это правда, и совершенно с ума сходит.
М-р Верлок ничего не ответил.
– Он посмотрел на меня, точно не знал, кто я. Сердце его стучало как молоток. Он не виноват, что у него такая повышенная чувствительность. Я разбудила маму и просила ее посидеть, с ним, пока он заснет. Он не виноват. Он совсем кроткий, если его оставить в покое.
М-р Верлок и на это ничего не сказал.
– Напрасно его посылали учиться в школу, – снова заговорила м-сс Верлок. – Он берет газеты из витрины и читает их. А потом у него лицо красное от возбуждения. Мы не продаем и двенадцати нумеров в год. они напрасно занимают место в витрине. А м-р Озипон приносит каждую неделю кипы брошюрок «Б. П.» и говорит, чтобы их продавать по под-пенни. А по-моему, так не стоит дать пол-пении за все. Глупое это чтение! На днях, Стэви взял одну из этих брошюрок. Там говорилось о немецком офицере, который чуть не оторвал ухо у рекрута, и за это ему не было такого наказания. В тот день я ничего не могла поделать с Стэви. Да ведь и правда: от таких историй кипит кровь. И зачем печатать такие известия? Здесь ведь не Пруссия. Какое же нам дело до них?
М-р Верлок ничего не ответил.
– Мне пришлось отнять у него кухонный нож, – продолжала м-сс Верлок уже слегка сонным голосом. – Он кричал, рыдал, топал ногами. Он не выносит никакой жестокости. Он заколол бы офицера, как поросенка, еслибы увидал его. Да и действительно, бывают люди, которых нельзя жалеть.
М-сс Верлок замолкла, и глаза её стали смыкаться.
– Тебе лучше? – спросила она слабым голосом мужа. – Не затушить ли свет?
В страхе перед наступающей темнотой и бессонницей, м-р Верлок не мог сразу ответить. Наконец, он сделал лад собой усилие.
– Затуши, – сказал он глухим голосом.
Вице-директор прошел по узкому травному переулку и, выйдя оттуда на широкую улицу, вошел в общественное здание внушительных размеров. Там он обратился к частному секретарю начальствующего лица с просьбой доложить о его приходе. Лицо молодого секретаря, розовое и безмятежное, озабоченно нахмурилось, и он стал что-то говорить о том, что его начальник утомлен и озабочен.
– Гринвичским делом? – спросил вице-директор.
– Да. Он очень на вас сердит.
Вице-директор все-таки настоял на том, чтобы о нем доложили, и чрез несколько минут очутился в кабинете начальника. Он пробыл там довольно долго и вышел из кабинета с довольным лицом. Ему удалось выполнить свой план, который заключался в том, чтобы отстранить от гринвичского дела главного инспектора Хита, неудобного ему своим желанием привлечь в ответственности Михаэлиса. Вице-директор сообщил своему главному начальнику очень сенсационные вести, рассказал про посольского агента Верлока и выяснил провокационный характер гринвичского происшествия. Начальник был крайне поражен сообщениями вице-директора, и тот умело воспользовался произведенным впечатлением. Он сказал, что сведения свои имеет от главного инспектора Хита, но что Хит выказал в этом деле некоторое превышение власти; он пользовался услугами Верлока, зная, каков его род деятельности, и не сообщая об этом по начальству. Говоря, что это, конечно, не мешает Хиту быть вполне преданным и заслуживающим доверия служащим, он все-таки предложил на этот раз отказаться от его услуг. Он сказал, что сам займется исследованием сложных обстоятельств дела и обличит Верлока, что, по его мнению, необходимо сделать для предупреждения таких же происшествий в будущем. Сваливать вину на Михаэлиса, как это собирался сделать Хит, он считал крайне несправедливым и нежелательным. Заручившись согласием начальника на свой образ действий, он сказал, что в этот же вечер отправится сам к Верлоку, конечно, изменив свой внешний вид, и поздно вечером придет сообщить о результатах своему начальнику в Вестминстере, так как в этот вечер предстояло позднее вечернее заседание.
Вице-директор медленно вернулся обратно в свой департамент и прошел в себе в кабинет. Сев у письменного стола, он позвонил.
– Главный инспектор Хит ушел? – спросил он вошедшего.
– Да, сэр. Ушел с полчаса тому назад.
Он отпустил служителя, кивнув головой, и продолжал сидеть несколько времени неподвижно, в досаде на Хита, который спокойно унес единственное вещественное доказательство. «Но, конечно, – подумал он, – лоскуток сукна с адресом – слишком драгоценная улика, чтобы оставлять ее где попало, и Хит поступил как преданный, честный слуга». Успокоившись насчет Хита, вице-директор написал и отправил жене записку, прося ее передать его извинение покровительнице Михаэлиса, в которой они были приглашены в обеду.
Отправив записку, он подошел к задернутому занавеской алькову, где стоял умывальный столик и развешано было на крюках разное платье, и переоделся там, выбрав короткую жакетку и низкую круглую шляпу. В этом виде он вышел на улицу, где сразу окунулся в мрачную сырость осеннего вечера. Остановившись на краю панели, он стал ждать. Привычно зорким глазом он заметил среди движущихся огней и теней на мостовой медленно приближающийся кэб. Он не подозвал его рукой, но когда медленно двигающийся экипаж поровнялся с ним, он быстро отворил дверцу и сел; когда он крикнул в окошечко, куда ехать, кучер был почти удивлен присутствием седока в экипаже.
Ехать было недалеко. Седок остановил знаком кучера в неопределенном месте, между двумя фонарями перед большим магазином мануфактурных товаров, протянул ему деньги через окошечко и исчез как призрак. Но возница был удовлетворен размером платы за проезд и уехал вполне довольный, не задумываясь о странном седоке, которого вез. Вице-директор вошел в маленький ресторан; это была одна из многих рассеянных по городу ловушек для голодных: маленькое помещение с зеркалами и белыми скатертями на столах, душное, без воздуху, с особым запахом плохой пищи, которая обманывает, но не удовлетворяет голод. Сев за столик, вице-директор сосредоточился на мыслях о своем предприятии, все более теряя сознание своей личности. У него было странное ощущение одиночества и свободы. Когда, заплатив за свой более чем скромный обед, он поднялся и в ожидании сдачи, поглядел на себя в зеркало, он увидел с удовольствием, что непривычная одежда изменила его вид до неузнаваемости. Для довершения перемены, он еще поднял воротник, закрутил кверху черные усы и в таком виде вышел из ресторана.
Очутившись на улице, он подумал о том, до чего итальянские рестораны в Лондоне утратили всякий национальный характер вследствие подлаживания под английские вкусы и употребления плохих продуктов. Хозяева этих ресторанов – тоже какие-то оторванные от всякой почвы люди; они как бы созданы только для своих помещений и не имеют другого места на земле. И он сам в эту минуту почувствовал себя тоже человеком без определенного места и положения. Никто бы не мог сказать, глядя на него, чем он занимается. И это сознание обрадовало его. Он энергично зашагал по грязной сырой мостовой, окутанной мглою сырой лондонской ночи.
Брэт-Стрит находилась неподалеку. Она начиналась по одну сторону открытого треугольного пространства, окруженного темными таинственными домами, храмами мелкой торговли, опустевшими на ночь. Только навес торговца фруктами на углу сверкал яркими огнями. За ним все было темно, и люди, направлявшиеся в ту сторону, исчезали, как только проходили на шаг за сверкающие груды апельсинов и лимонов. Не слышно было даже звука шагов. Отважный начальник департамента по особо важным делам с интересом следил за некотором расстоянии за этими исчезновениями. У него было легко на сердце, точно он бродил один в девственном лесу, за много тысяч миль от канцелярских столов и канцелярских чернильниц.
На фоне сияющих апельсинов и лимонов показалась фигура полисмена; он, не спеша, повернул на Брэт-Стрит. Вице-директор отошел в сторону, выжидая его возвращения.
Но он так и исчез навсегда, – очевидно, выйдя из Брэт-Стрита с другого конца.
Переждав несколько времени, вице-директор свернул на Брэт-Стрит. Там он увидел большой воз ломовика, стоявший перед тускло освещенными окнами простой кухмистерской. Ломовик ужинал, а лошади на улице тоже ели, опустив в мешки с овсом могучия головы и дальше, по другую сторону улицы, показалась другая полоса бледного света из лавки м-ра Верлока. Вице-директор остановился и стал смотреть на освещенное окно. Ошибиться нельзя было. Рядом с витриной, где выставлены были разные подозрительные предметы, полуоткрытая дверь пропускала узкую полосу света изнутри.
За спиной вице-директора воз и лошади, слившиеся в одну массу, казались чем-то живым – огромным черным чудовищем, загораживающим улицу. Яркий свет из большего трактира прямо против Брэт-Стрита на широкой людной улице как бы отталкивал мрак вглубь улицы и усугублял мрачный, зловещий вид дома м-ра Верлока.
Пользуясь своими связями среди оптовых торговцев съестными припасами, товарищей её покойного мужа, мать м-сс Верлок добилась, наконец, долгими стараниями и приставаниями места в богадельне, основанной богатым трактирщиком для бедных вдов торговцев съестными припасами.
Задавшись этой целью, старуха преследовала ее с чрезвычайной настойчивостью и скрытностью. Дочь её, Винни, даже как-то заметила мужу, что «мама тратит по полу-кроне и по пяти шиллингов в день на разъезды». Она сказала это без осуждения, а только удивляясь внезапной страсти матери к разъездам. М-ру Верлоку, занятому мыслями о более важных делах, было не до лишних пяти шиллингов, и он не обратил внимания на замечание жены.
Достигнув цели, мать м-сс Верлок решилась, наконец, открыться дочери. Она радовалась в душе своей удаче, но несколько боялась своей дочери Винни, которая в случаях неудовольствия терроризировала ее своим молчанием. Но все-таки она сообщила ей, наконец, сенсационную новость, сохраняя при этом свой внушительно-спокойный вид.
Неожиданность известия так поразила м-сс Верлок, что, вопреки обыкновению, она прервала работу, которою была занята, – она вытирала пыль в комнате за лавкой – и обернулась к матери:
– На что вам это понадобилось? – с удивлением спросила она, отрешившись от своей привычки принимать факты без расспросов, что было её силой и оплотом в жизни. – Разве вам нехорошо жилось у нас?
После этих вопросов, на которые испуганная мать не могла ответить от страха, она снова принялась за прерванную работу. Продолжая сметать пыль, сначала со стула, потом с дивана, она позволила себе среди работы предложить еще один вопрос.
– Как же вам это удалось, мама?
Так как этот допрос не касался существа дела, а относился в средствам выполнения, то любопытство молодой женщины было извинительно. Мать её обрадовалась её вопросу, который давал ей возможность рассказать все в подробностях. Она ответила дочери очень обстоятельно, называя имена богатых торговцев, друзей её покойного мужа, распространяясь с особой признательностью об одном богатом пивоваре и разных других благодетелях, которые отнеслись в её ходатайству с чрезвычайной добротой. Винни выслушала рассказ матери, продолжая свою работу, и затем спокойно вышла из комнаты без единого замечания.
Пролив несколько слез в знак радости, что дочь её выказала такую терпимость, мать м-сс Верлок стала размышлять о том, как распределить мебель, составляющую её собственность. Кое-что ей нужно было взять с собой, так как благотворительное учреждение предоставляло только голые стены в распоряжение пансионеров. Она из деликатности выбрала наименее ценные предметы, наиболее потертую мебель, но никто не оценил её благородства. Жизненная мудрость Винни заключалясь в том, чтобы не обращать внимания на суть и смысл фактов. Она предположила, что мать её взяла с собой как-раз то, что ей более всего подходило. А сам м-р Верлок был настолько погружен в размышления, что внешний мир казался ему суетным и призрачным.
Отобрав то, что ей было нужно самой, мать м-сс Верлок задумалась о распределении всего остального. Конечно, все свое имущество она решила оставить на Брат-Стрите. Правда, у Винни добрый муж и жизнь её обеспечена, а Стэви ничего не имеет и положение его – самое незавидное. Но отдать ему мебель она боялась. Это бы могло послужить ему во вред. Его спасало именно положение полной зависимости от мужа сестры. М-р Верлок был бы оскорблен сознанием, что сидит на стульях, принадлежащих брату жены, и это могло восстановить его против мальчика. Что, если ему вздумается выгнать его из дому со всеми его пожитками? Но если, с другой стороны, произвести дележ, то Винни может обидеться. Нет, лучше, чтобы Стэви так и оставался неимущим и в полной зависимости от сестры и её мужа. Поэтому в момент отъезда она сказала дочери:
– Нечего ждать моей смерти. Все, что тут – твое, дорогая моя.
Винни стояла в шляпе за спиной матери и оправляла ей воротник пальто. Она, ничего не говоря, взяла мешечек и зонтик. Наступил момент, когда в последний раз предстояло заплатить за мать три с половиной шиллинга за проезд в кэбе. они вышли из дверей лавки.
Перед дверью стоял старый, каррикатурный с виду экипаж, и возница, сидевший на козлах, имел такой жалкий, не внушающий доверия вид, что мать м-сс Верлок остановилась в нерешительности:
– Довезет ли он нас, Винни? – с некоторым ужасом спросила она. Возница ответил потоком брани на выраженное ему недоверие. В дело вмешался стоявший по близости полисмен и успокоил испуганную старую лэди ласковым взглядом:
– Он уже двадцать лет как возит публику и никогда никого не вываливал.
– Никогда никого! – крикнул возница гневным голосом.
Свидетельство полицейского успокоило умы. Собравшаяся кучка человек в семь, большей частью малолетних, рассеялась. Винни села вместе с матерью в экипаж, а Стэви полезь на козлы. Его раскрытый рот и полный отчаяния взгляд ясно выражали состояние его духа. По узким улицам кэб двигался медленно, с страшном грохотом и звоном стекол, и чахлая, хромая лошадь, у которой можно было пересчитать все ребра, подпрыгивала на каждом шагу.
Наконец, Винни сказала:
– Лошадь, кажется, не очень хорошая.
Глава её неподвижно глядели в пространство. Сидя на козлах, Стэви быстрым движением закрыл и открыл рот и произнес:
– Не бейте!
Возница сначала не обратил внимания на его восклицание. Быть может, он даже не слышал его. Только на второй взволнованный окрик: «не бейте!» он повернул к мальчику свое вздутое багровое лицо, окаймленное взъерошенными седыми волосами. Грязным концом хлыста он почесал щетинистый подбородок.
– Не смейте бить! – резко выталкивая слова, крикнул Стэви. – Ей больно.
– Вот как: не бить? – повторил вопросительным тоном возница и сейчас же хлестнул лошадь. Сделал он это не из жестокости, а потому что должен был заработать плату с седоков и довезти их до места назначения. Экипаж запрыгал на мостовой и покатился быстрее. Несколько времени дело шло гладко. Но когда они въехали на мост по пути, то опять произошел переполох. Стэви вздумал слезть с козел. Кэб остановился, раздались крики с панели, собрался народ, кучер стал браниться. Окошко кэба опустилось, и оттуда высунулось бледное лицо Винни. Из кэба раздался взволнованный голос матери: – Что с мальчиком? разбился?
Оказалось, что Стэви не разбился и даже не упал, но от волнения утратил способность говорить, как это с ним всегда бывало в таких случаях. Он только пробормотал, с трудом выговаривая слова:
– Слишком тяжело, слишком тяжело.
Винни положила ему руку на плечо:
– Сейчас же садись обратно на козлы, Стэви, и не смей сходить.
– Нет, нет. Нужно пешком. Нужно пешком.
Но объяснить, почему нужно, он уже не мог. Он не видел ничего невозможного в своем желании, так как, действительно, отлично сумел бы бежать, не отставая от тощей, едва передвигавшей ноги лошади. Но сестра изо всех сил протестовала против его выдумки, а мать в ужасе повторяла:
– Не пускай его, Винни. Ни за что не пускай: он заблудится.
– Конечно, не пущу. Это еще что за выдумки! М-р Верлок был бы очень огорчен твоим поведением.
Напоминание о м-ре Верлоке и боязнь огорчить его подействовали, как всегда, успокаивающим образом на послушного и кроткого мальчика. Он тотчас же покорно полез на козлы, и только на лице его отразилось глубокое отчаяние.
Возница успокоился, крикнул Стэви, чтобы он не возобновлял свояк глупых штук, но как-то про себя понял, после краткого размышления, что мальчик затеял возню вовсе не из озорства, и что даже, может быть, он поступил хорошо.
Выходка Стэви положила конец тягостному молчанию между матерью и дочерью. Когда кэб кидало из стороны в сторону, все равно нельзя было говорить. Теперь Винни заговорила первая.
– Ну, что ж, – сказала она. – Вы добились, чего хотели, мама, и сами на себя пеняйте, если будет нехорошо. Не думаю, что вам будет лучше житься. Разве вам было худо у нас? И что о нас подумают? Что мы за люди, если вам пришлось пользоваться чужой благотворительностью?
– Что ты, милая! – воскликнула старуха, стараясь возвысить голос над окружающим шумом. – Ты была для меня образцовой дочерью. Ну, а уж м-р Верлок…
У бедной женщины не хватало слов, чтобы выразить все благородство м-ра Верлока. Она подняла полные слез глаза вверху и потом отвернула голову, делая вид, что хочет выглянуть из окна и посмотреть, близко ли они уже в цеди. Оказалось, что они еще очень немного проехали. Их окружала грязная, мрачная ночь. Свет газовых рожков, мерцавший в окнах лавок, освещал лицо старой женщины; её желтые, морщинистые щеки покраснели, что придало им оранжевый оттенок под шляпой из темных лиловых лент. Мать м-сс Верлок почувствовала угрызения совести перед дочерью. Сидя рядом с нею и направляясь в коттэдж благотворительного общества, она вдруг поняла, что нанесла обиду своей дочери.
Она знала, что действительно люди, которых Винни имела в виду, т.-е. друзья её мужа и другие, будут внутренно осуждать её дочь и зятя. Когда она обращалась со своим ходатайством к комитету, члены его из деликатности не расспрашивали ее о причинах, побудивших ее обратиться к благотворительности. Она даже внутренно радовалась, что имела дело с мужчинами, а не с женщинами; они бы, наверное, стали расспрашивать ее, как это её дочь и зять довели ее, очевидно, нехорошим обращением до такой крайности и заставили обратиться в чужим людям. Но немедленное согласие комитета удовлетворить её просьбу именно и доказывало, что все отлично понимают её положение, её нежелание быть обузой и т. д. Член комитета, с которым она говорила, был очень поражен, когда, в ответ на выраженное им согласие и выказанное сочувствие её тяжелому семейному положению, она горько заплакала. Плакала она от действительно глубокого отчаяния и потому, что любила героической любовью и сына, и дочь. Девочек часто приносят в жертву, когда дело идет об интересах мальчиков, и в этом случае она тоже жертвовала дочерью. Утаивая правду, она тем самым клеветала на дочь. Винни совершенно самостоятельна – так она рассуждала, – ей дела нет до мнения людей, с которыми она даже никогда не встретится, а у бедного Стэви нет другой опоры в жизни, чем героическая, ни перед чем не останавливающаяся любовь его матери.
Сознание полной обеспеченности, которое было у матери Винни в первое время после замужества дочери, постепенно ослабело, и она с этим мирилась, зная, что все на свете меняется и исчезает; она понимала также, что нужно облегчать людям возможность делать добро, и уж во всяком случае не затруднять. Для одного только чувства она делала исключение; ей казалось, что любовь Винни к брату не подвержена общему закону тления, которому подчинено все земное и даже многое божественное. В это она твердо верила, и только эта вера и поддерживала ее. Но, обдумывая условия замужней жизни дочери, она не предавалась никаким иллюзиям. Она ясно понимала, что чем меньше требований предъявлять к доброте м-ра Верлока, тем дольше можно рассчитывать на действие его доброты. Он, конечно, добрый человек и любит свою жену, но несомненно предпочитает иметь в доме как можно меньше родственников жены. Лучше поэтому, чтобы все его добрые чувства сосредоточивались на бедном Стэви. И старая женщина героически решила уехать от детей, делая это из глубокой преданности и во имя житейской мудрости.
Житейская мудрость внушила ей, что положение Стэви улучшится с её отсутствием. У него будет больше нравственных прав. Бедный мальчик – добрый, полезный в доме, при всех своих странностях – не имел твердого положения в жизни. Его взяли вместе с его матерью, вместе с её мебелью и всем её имуществом, как её несомненную собственность.
«Что-то будет, – думала мать м-сс Верлок – когда я умру?» Ей было страшно при мысли, что тогда она никак не сможешь узнать, как живется её бедному мальчику. Но, передав его на попечение сестры своим уходом, она ставила его в наиболее для него выгодное положение полной зависимости. её самоотверженность имела целью облегчить судьбу сына. Ничего другого она для него сделать не могла. И способ её действия имел еще то преимущество, что она могла его проверить. Во всяком случае она не будет испытывать на смертном одре страшного чувства неопределенности. Но действовать так, как она решила, было очень-очень тяжело.
Кэб продолжал громыхать и прыгать, и сила толчков была такая, что терялось всякое ощущение движения вперед. Казалось, что их подвергают какой-то пытке, подбрасывая из стороны в сторону в укрепленном на месте аппарате, или же испытывают какое-то новое изобретение для лечения печени. Во всяком случае, ощущение было крайне мучительное и в голосе старой женщины чувствовалось физическое страдание.
– Ведь ты будешь часто навещать меня, Винни? Да, дорогая? – спрашивала она дочь.
– Конечно, – коротко ответила Винни, неподвижно глядя вперед.
Кэб подпрыгнул, проезжая мимо грязной лавки съестных припасов, ясно озаренной газовыми рожками. Мать Винни снова испустила стон.
– А бедного Стэви присылай во мне непременно каждое воскресенье. Иначе я не выдержу. Ведь он согласится ездить раз в неделю в старой матери?
– Согласится? – вскрикнула Винни. – Да ему бедному будет страшно тяжело без тебя. Ты бы хоть об этом подумала, прежде чем решиться уехать от нас.
«Подумала бы»!.. Бедная, старая женщина почувствовала, как у неё что-то сжимается в горле – точно шарик, который никак не может выскочить. Винни несколько времени сидела молча, потом, против своего обыкновения, не могла сдержаться, и стала возбужденно говорить:
– Мне с ним будет очень трудно справляться в первое время, – сказала она. – Он будет очень возбужден.
Они стали мирно обсуждать создавшееся новое положение, а кэб продолжал громыхать и подпрыгивать по мостовой. Мать м-сс Верлок выражала разные опасения. Можно ли будет пускать Стэви одного к ней? Винни утверждала, что он теперь гораздо менее рассеян;, они обе согласились, что это действительно так, и обеим стало легче. Но вдруг мать опять заволновалась. Ведь ехать в ней нужно по двум омнибусам и в промежутке еще пройти немного пешком. Это слишком сложно, и бедная женщина пришла опять в отчаяние.
Дочь стала ее усповоивать.
– Не волнуйтесь так, мама. Нужно ведь вам видеться с ним.
– Нет, милая. Я лучше обойдусь, – сказала она, отирая слезы. – Ты ведь не можешь привозить его. У тебя нет времени. А если он поедет один, он может заблудиться, и если кто-нибудь заговорит с ним строгим голосом, он забудет имя и адрес, и его уведут в больницу или в рабочий дом.
Мысль о том, что бедного Стэви заберут в городскую больницу, хотя бы даже на время, для того, чтобы навести справки, приводила ее в ужас.
Взгляд Винни сделался напряженным. Она что-то придумала.
– Сама приводить его к вам я не смогу каждую неделю, – сказала она. – Но не тревожьтесь, мама, я придумаю что-нибудь для того, чтобы он не мог пропасть надолго.
Они вдруг почувствовали страшное сотрясение. Перед окнами промелькнули кирпичные столбы, и потом вдруг прекратилась тряска, к которой они как-то уж привыкли. Что случилось? они сидели, застыв от испуга, пока не открылась дверца и не раздался резкий голос:
– Мы приехали.
Ряд маленьких домиков, каждый с одним тусклым желтым окном, окружали темную лужайку, засаженную кустами и отделенную забором от большой дороги, откуда доносился глухой отголосок шума. Кэб остановился у одного из маленьких домиков. Первою вышла мать м-сс Верлок, держа ключ в руке. Винни постояла еще на панели, чтобы расплатиться с кучером. Стэви помог внести в дом множество маленьких узлов и пакетов, затем вышел и остановился под тусклым фонарем. Возница медленно посмотрел на полученные серебряные монеты – ему заплатили как следует, вручив четыре монеты по шиллингу. Он медленно стал прятать полученное сокровище в глубины кармана. Стэви глядел на него, подняв плечи и засунув руки глубоко в карманы.
Закончив, наконец, зарывание клада в карман, кэбмен взглянул на мальчика и вспомнил недавнее происшествие.
– Ну, что, молодой господин? – проговорил он. – Запомните лошадёнку?
Стэви глядел, не отводя глаз, на лошадь, задния ноги которой казались подтянутыми вверху от худобы. Маленький хвост был точно вставлен нарочно злым шутником, а тонкая, плоская шея, похожая на доску, обтянутую старой лошадиной кожей, нагибалась к земле под тяжестью огромной костлявой головы. Уши отвисли, и вся мрачная фигура безмолвного изможденного животного дымилась от усталости.
– Ну, что, молодой господин? – сказал возница. – Как бы вам понравилось сидеть до двух часов ночи за спиной такой лошади?
Стэви безмолвно смотрел в сердитые маленькие глаза с покрасневшими веками.
– Она не хромая, – продолжал он энергичным шепотам. – Ничего у неё не болит. Так вот скажите – хотели бы вы сидеть на козлах до двух, а то и до трех и четырех часов утра, холодным и голодным, высматривая седоков, а то и пьяных?
Его багровые щеки щетинились от коротко сбритых седых волос. Как виргилиевский Силен, который, вымазав лицо ягодным соком, рассказывал про олимпийских богов невинным пастухам в Сицилии, он рассказывал Стэви о домашних делах и заботах людей, страдания которых велики, а бессмертие души далеко не обеспечено.
– Я ночной, – проговорил он с каким-то хвастливым отчаянием, – и должен довольствоваться тем экипажем, какой захотят дать на дворе. А дома у меня хозяйка и четверо ребят. Да, не легко жить на свете.
Лицо Стэви уже несколько времени все подергивалось, и наконец чувства его выразились по обыкновению в сжатой форме:
– Плохо, плохо.
Он продолжал смотреть на ребра лошади и не отводил упорного взгляда, точно боясь оглянуться на то, как плох вокруг него мир. У него было испуганное лицо, и толстый, широкоплечий возница взглянул на него острыми маленькими глазами.
– Лошадям плохо, – сказал он. – Но и такому бедняге, как я, тоже нелегко, – едва слышно пробормотал он.
– Бедный, бедный, – пробормотал Стэви, еще глубже задавая руки в карманы. Он ничего не мог сказать. Вся его жалость и нежность к тем, кому больно, все его страстное стремление утешить и лошадь, и кучера, воплотились в странное желание взять их, пригреть и уложить с собой в постель, как это делала с ним в детстве сестра Винни, когда он забивался в угол, плача от горя и обиды. Он помнил, что тогда ему становилось хорошо, как в небе. Стэви забывал часто самые простые факты, например свои имя и адреса, но у него была ясная память на чувства. Он знал, что пожалеть и укрыть у себя в постели – самое верное средство утешения, но понимал, что в широких размерах оно неприменимо. Кэбмен стал медленно готовиться в обратный путь точно забыв о существовании Стэви. Сначала он задумал-было влезть на козлы, – потом, в силу какого-то смутного побуждения, отказался от этого намерения, подошел к недвижному товарищу своих трудов и, нагнувшись, чтобы схватить уздечку, поднял большую усталую голову до высоты своего плеча одним сильным движением правой руки.
– Пойдем, – прошептал он и, прихрамывая, увел лошадь с экипажем. Так они медленно выступили из освещенного пространства перед домом в темноту. Медленная грустная процессия мелькнула еще на минуту в свете фонарей у ворот. Потом они повернули налево и исчезли.
Стэви, оставленный у фонаря перед благотворительным учреждением, стоял еще некоторое время, мрачно глядя перед собой. Руки его, засунутые глубоко к карманы, сжалась в кулаки. Когда что-нибудь непосредственно или косвенно возбуждало в нем болезненный страх перед чужим страданием, Стэви приходил в бешенство. Казалось, что сердце у него разорвется от негодования и глаза его перекашивалась Ясно сознавая свое бессилие, Стэви однако не был достаточно рассудителен, чтобы сдерживать свои чувства. Мука беспредельной жалости сопровождалась у него всегда состоянием невинного, но безжалостного гнева. Оба эти состояния проявлялась одинаковыми признаками физического возбуждения, и Винни старалась в таких случаях утешить его, не вникая в двойственность его настроения. М-сс Верлок не тратила времени на исследование сущности вещей. Это очень мудрая экономия времени и сил, а у м-сс Верлок она к тому же гармонировала с некоторою пассивностью характера.
В тот вечер, когда мать м-сс Верлок рассталась со своими детьми, геройски отказавшись от всего дорогого в жизни, Винни Верлок тоже не стала глубже вникать в психологию брата. Бедный мальчик был, конечно, очень взволнован – это она понимала. Уверив еще раз мать на дороге, что она сумеет принять меры для того, чтобы Стэви не мог заблудиться, отправляясь в матери, она ушла, взяв брата под руку. Он даже не бормотал ничего про себя, но она поняла особым инстинктом любви в брату, что мальчик действительно сильно взволнован. Взяв его крепко под-руку, под предлогом, что она хочет на него опереться, она придумывала, что бы сказать ему утешительного.
– Уж ты хорошенько оберегай меня при переходах через улицы, Стэви, – сказала она – и первый садись в омнибус. А то я боюсь, попадем ли мы, куда следует.
Обращение к нему за защитой произвело на Стэви обычное ободряющее впечатление. Он поднял голову и выпрямил грудь.
– Не бойся, Винни, попадем, – ответил он, слегка насмешливым тоном, в котором была и детская пугливость, и мужественная решительность. Он шел безбоязненно вперед, ведя сестру. Перед дверью питейного заведения на углу они увидели четырехколесный кэб. Кучер, очевидно, зашел выпить. Оба они узнали жалкий экипаж, имевший такой зловещий вид, точно это была карета смерти, и Винни, с женской готовностью жалеть лошадь (когда она сама не сидит в экипаже), сказала:
– Бедное животное!
Откинув голову назад, Стэви взглянул на сестру, видимо взволнованный.
– Бедное, бедное, – сочувственно проговорил он. – И кучер бедный. Сам мне сказал.
Он уставился на брошенную жалкую лошадь и упрямо остановился на. месте, пытаясь как-нибудь выразить свое общее страдание и к лошадиному, и к человеческому горю. Но это трудно было сделать.
– Бедное животное, бедные люди! – все повторял он. Но так как этого ему показалось мало, то он еще гневно прибавил:
– Стыдно! – Стэви не был мастер на слова, и, быть может, поэтому мыслям его недоставало ясности и точности. Но чувства его были цельные и достаточно глубокие. Маленькое слово вмещало для него все его возмущение и ужас от сознания, что одни несчастные обречены на то, чтобы мучить в силу необходимости другие, еще более жалкия существа. Его ужасала мысль, что бедный кучер бьет несчастную лошадь, как бы ради своих бедных детей. А Стэви знал, как больно, когда бьют. – Плохо на свете, плохо!
Сестра его не присутствовала при разговоре с кэбменом, и не поняла значения слова: «стыдно!». Не вникая в глубины отчаяния мальчика, она спокойно сказала:
– Идем, Стэви, идем.
Кроткий Стэви последовал за сестрой, но с смущенным видом, бормоча про себя несвязные слова. После долгого старания выразить, наконец, свою мысль, он остановился и сказал, сильно заикаясь:
– Плохой свет для бедных людей! – и тотчас же прибавил для большей убедительности: – Отвратительный!
М-сс Верлок поняла, что он очень сильно возбужден, и старалась его успокоить.
– Что делать, – сказала она, – тут никто помочь не может. Пойдем. Так-то ты оберегаешь меня!
Стэви покорно пошел более твердым шагом, желая исполнить свой долг относительно сестры. Но он был огорчен её ответом. Разве действительно никто не может изменить дело к лучшему? Он нахмурился, погруженный в глубокое раздумье, но потом вдруг просветлел. Он еще верил к общественные учреждения.
– А полиция? – спросил он.
– Полиция не для этого, – ответила м-сс Верлок, и лицо Стэви опять вытянулось.
– Не для этого? – повторил он упавшим голосом. Окь считал городскую полицию благодетельным учреждением для ограждения от зла, и относился к ней с доверием и любовью. Его поэтому сильно огорчило пояснение сестры. Зачем же они представлялись, будто желают добра людям, ееля ж самом деле это не так?
– Так на что же полиция? – продолжал он расспрашивать сестру по своей наивной привычке доискиваться смысл вещей. – На что, скажи?!
Винни не любила принципиальных рассуждений; но на этот раз она не уклонилась от разговора, так как желала главным образом успокоить мальчика. Она ответила без всякой сознательной иронии как-раз то, что в сущности и должна была ответить жена делегата революционного комитета, личного друга многих анархистов и пророка социальной революции.
– Разве ты не знаешь, на что полиция? – сказала она. – На то, конечно, чтобы неимущие ничего не отнимали у имущих.
Она нарочно не употребила слова «воровать», потому что слово это раздражало мальчика.
– А если они голодны? – возбужденно спросил Стэви.
– Все равно, – ответила м-сс Верлок со спокойствием человека, которого никогда не тревожили экономические вопросы. Она занята была высматриванием нужного им омнибуса. – И голодный – прибавила она – не должен ничего отнимать. Что об этом говорить! Ты ведь голодным никогда не был.
Она быстро взглянула на мальчика и не обратила внимания на несколько странное выражение его, как всегда, приветливо-доброго лица. Она не видела его душу, кипящую негодованием, жалостью и жаждой самопожертвования.
– Скорее, Стэви! – крикнула она. – Останови зеленый омнибус.
Стэви послушно выполнил её приказание, и через минуту они благополучно сидели в омнибусе.
Через час после этого м-р Верлок, подняв глаза с газеты, которую читал, или, во всяком случае, держал в руке, услышал, как хлопнула входная дверь, и увидел, как вошла Винни; пройдя через лавку, она пошла вверх по лестнице вместе с братом. Вид жены был приятен м-ру Верлоку, а на мальчика он не обращал внимания, слишком погруженный в последнее время в свои мрачные мысли. Он посмотрел вслед жене и ничего не сказал. В последнее время он сделался очень молчалив, и на этот раз тоже не произнес ни слова и за столом, когда жена позвала его ужинать… Он ел молча, два раза поднимался при звуке надтреснутого колокольчика, выходил в лавку к покупателю, потом также безмолвно возвращался. Во время этих отлучек м-сс Верлок особенно сильно чувствовала, как ей недостает матери, и смотрела в пространство окаменевшим взглядом. Стэви от нервности двигал ногами под столом, но когда входил м-р Верлок, он старался сидеть тихо и смотрел на мужа сестры с почтительным чувством. Винни убедила его по дороге, что м-р Верлок сидит дома грустный, и что не следует его огорчать. Стэви свято ей поверил, и печаль м-ра Верлока была для него уважительной причиной сдерживаться. Мать и сестра убедили его, из чисто практических, а не отвлеченно-этических целей, в том, что Верлок – очень добрый человек, и для Стэви этого было достаточно, чтобы отдать ему свою душу. М-р Верлок даже не знал, что Стэви считает его добрым, и что печаль и заботы доброго человека для него священны.
Стэви смотрел на м-ра Верлока с мучительным желанием помочь ему в его горе, и, чувствуя свое бессилие, сам проникся печалью, что выразилось в беспокойных движениях всего тела.
– Сиди спокойно! – сказала м-сс Верлок внушительном и в то же время нежном голосом.
Обратившись затем к мужу, она равнодушно спросила его;
– То уходишь куда-нибудь вечером?
М-р Верлок угрюмо покачал головой в знак отрицательного ответа и продолжал сидеть, не поднимая глаз с кусочка сыра на тарелке. Затем он встал и, направившись прямо к двери, вышел на улицу. Сделал он это вовсе не из желания досадить жене, а просто под влиянием охватившей его внутренней тревоги. Идти ему было некуда, но он все-таки пошел бесцельно бродить по освещенным улицам, потом вернулся домой и сел в изнеможения за прилавок. Мрачные мысли снова обступили его. Заперев дверь на ключ и затушив газ, он поднялся на верх в спальню, сопутствуемый своими тревожными думами. Жена его уже лежала в постели. У неё был спокойный характер и она не любила вдумываться в сущность вещей, но все-таки угрюмое молчание мужа за последние дни тревожило ее.
– Не ходи в одних чулках, – сказала она, – простудишься.
М-р Верлок оставил сапоги внизу и забыл надеть туфли; он ходил по комнате бесшумно, как медведь в клетке. При звуке голоса жены, он остановился и взглянул на нее пустым взглядом, от которого ей сделалось жутко. Она вспомнила, что комната матери пустая, и почувствовала сильное одиночество. Мать навсегда ушла от неё – в этом она не сомневалась и не предавалась иллюзиям. Хорошо, что хоть Стэви остался у неё. И она заговорила с мужем о волнующем ее вопросе.
– Мама действовала по собственному желанию, – сказала она. – Но я совершенно не понимаю, почему она уехала от нас. Не могла ведь она думать, что ты тяготишься ею. Как это она дурно поступила, что бросила нас!
У м-ра Верлока на минуту зашевелилось подозрение, что старуха, быть может, почуяла что-то недоброе в воздухе, и поэтому поспешила во-время уехать? Но нелепость такого предположения была слишком очевидна, и м-р Верлок не высказал его вслух.
– Может быть лучше, что она уехала, – сказал он. – М-сс Верлок ничего не ответила, но в эту ночь она была как-то особенно впечатлительна, и слова мужа поразили ее своей странностью. Почему хорошо, что мать уехала? Она не позволила себе, конечно, вдумываться в возможные причины её отъезда, так как была убеждена, что не следует вникать ни во что до конца. По инстинктивной практичности, она выдвинула самый для неё в эту минуту важный вопрос о Стэви.
– Не знаю, как я утешу мальчика в первые дни. Он будет с утра до вечера тосковать и метаться. А он такой хороший мальчик. Я бы не могла отпустить его от себя.
М-р Верлок раздевался в полном молчании, точно очутившись один в пустыне. Когда он лег в постель и тяжело опустил руки поверх одеяла, он вдруг на минуту почувствовал желание открыть жене все, что его мучило. Но он взглянул на её спокойное лицо, на волосы, заплетенные в косы на ночь, и отказался от своего намерения. М-р Верлок любил свою жену. Она была для него как бы символом святости семейного очага, и ему было страшно нарушить её покой. Зачем ее тревожить до времени? Несколько минут он молча переживал свои страдания среди ночной тиши, и наконец скат решительным тоном:
– Я уезжаю завтра на континент.
Может быть, жена не слышала его, так как ничего не ответила. Но в действительности м-сс Верлок слышала. Она лежала с открытыми глазами, и как-то все более внутренно убеждалась в том, что происходит нечто недоброе. Правда, и до того часто случалось, что муж уезжал за границу, для обновления своего запаса товаров в Брюсселе и Париже. Он часто сам ездил делать закупки, чтобы удовлетворить требования своих немногочисленных, но верных заказчиков. Он переждал несколько минут, потом скат:
– Я, может быть, пробуду в отсутствии неделю, или даже две недели… Позови м-сс Ниль. Пусть она приходит тебе помогать.
М-сс Ниль приходила помогать иногда по хозяйству. У неё был муж пьяница и много детей, и ей необходимо было искать какого-нибудь заработка. С красными руками, в переднике, она мыла полы и чистила в доме, распространяя вокруг себя атмосферу нищеты.
М-сс Верлок, следуя внушениям практической мудрости, ответила равнодушным тоном:
– Нет никакой надобности звать м-сс Ниль, я отлично справлюсь с работой без неё. Мне Стэви поможет. Можно потушить свечку? – прибавила она после короткого молчания.
– Потуши, – мрачно произнес мистер Верлок.
Вернувшись в Лондон дней через десять, м-р Верлок вошел в давку с таким же угрюмым лицом, с каким ушел, видимо не утешенный развлечениями путешествия и не достаточно обрадованный возвращением домой. Он вошел с опущенной головой и саквояжем в руках, прошел за прилавок и в изнеможении опустился на стул, с таким видом, точно пришел пешком из Дувра. Было раннее утро. Стэви, который сметал пыль с предметов, выставленных в витрине, обернулся и посмотрел на него с почтением и тревогой во взоре.
– Возьми, – сказал м-р Верлок, слегка толкнув ногой саквояж. Стэви быстро схватил саквояж и отнес с радостным видом в кухню, видимо осчастливленный тем, что мог оказаться полезным. М-р Верлок даже удивился такому чрезмерному усердию.
М-сс Ниль, которая чистила в это время камин в столовой, выглянула при звуке дверного колокольчика, и пошла доложить хозяйке о приезде м-ра Верлока. Винни подошла к дверям и позвала мужа завтракать. Он сначала махнул рукой в знак отсутствия аппетита, но потом все-таки пошел и стал есть то, что ему подали. Он ел как в ресторане, сдвинув шляпу назад, и жена, сев против него, стала деловито рассказывать ему о всем, что произошло за время его отсутствия. Таким тоном, вероятно, говорила и Пенелопа о домашних делах вернувшемуся домой Одиссею. М-сс Верлок не ткала пряжу во время отсутствия мужа, но она привела в порядок и вычистила все комнаты верхнего этажа, продала кое-какой товар и несколько раз видалась с м-ром Михаэлисом. В последний раз он ей сказал, что едет в деревню. Приходил также Карл Юнт, под-руку со своей противной экономкой. «Отвратительный старик», – прибавила она. О товарище Озипоне, которого она приняла очень нелюбезно, не выходя из-за прилавка, она ничего не сообщила, но, вспомнив о могучем, грубоватом с виду анархисте, она на минуту остановилась и слегка покраснела, прежде чем стала продолжать свой отчет. Ей захотелось скорее упомянуть о Стэви, и она сказала, что мальчик был очень расстроен в последнее время.
– И зачем это мама покинула нас! – опять сказала она.
М-р Верлок ничего не стал, и Винни продолжала говорить о брате.
– Работать-то он хорошо работает, – сказала она. – Ему точно хочется изо всех сил быть нам полезным. Точно всего еще мало.
М-р Верлок рассеянно посмотрел на Стэви, который сидел по правую сторону от него, бледный, худой, с раскрытыми бескровными губами. М-р Верлок мельком подумал, что брат его жены удивительно какое бесполезное существо в жизни. Подумал он это совершенно вскользь, не делая никаких выводов. Откинувшись на стуле, м-р Верлок снял шляпу, и прежде чем он успел положить ее на стол, Стэви подскочил и почтительно понес шляпу в кухню. М-р Верлок опять удивился.
– Ты мог бы сделать с ним что угодно, – сказала Винни. – Он для тебя готов идти в огонь и в воду. Он…
Она стала внимательно прислушиваться, повернувшись в сторону кухни. Там м-сс Нил мыла пол. При появлении Стэви она стала громко плакаться на судьбу, чтобы выманить у него для детей денег. Винни дарила ему иногда по шиллингу, и эти деньги он всегда отдавал, когда у него просили.
Ползая на четвереньках по полу в кухне, забрызганная и грязная, она начала свои причитания с обычной фразы:
– «Хорошо вам ничего не делать, как барину», – и продолжала повторять все те же жалобы, наивно путая правду с ложью и распространяя вокруг себя запах водки и мыла. Она говорила совершенно искренно и заливалась слезами, так как с утра не успела еще подкрепить себя водкой.
– Опять она плачется о своих малых детях. Наверное они уж не такие маленькие, как она говорит. Старшие должны были повырости и помогать ей. Она только злит Стэви.
Слова Винни подтвердились. Раздался удар кулаком по столу. Стэви разозлился, потому что не имел в кармане шиллинга, не мог помочь деткам м-сс Нил и чувствовал потребность как-нибудь выразить свой гнев.
М-сс Верлок поднялась и пошла в кухню «прекратить глупости». Она кротко, но твердо остановила сетования старой женщины и дала ей денег, зная, конечно, что она сейчас же пойдет выпить на них в ближайший кабачок. Но Винни на нее за это не могла негодовать.
– Может быть, и я бы на её месте поступала точно так же, – говорила она с мудрой снисходительностью.
В тот же день, когда м-р Верлок, дремавший в кресле перед камином, поднялся, наконец, и объявил, что собирается идти гулять, Винни крикнула ему из магазина:
– Возьми с собой мальчика, Адольф!
М-р Верлок в третий раз удивился за этот день. Он посмотрел несколько растерянным взглядом на жену. Она продолжала говорить свое.
– Мальчику скучно дома, – говорила она: – когда нет работы, он раздражается, и это действует на мои нервы. – Такое признание со стороны спокойной Винни казалось чем-то преувеличенным. Но действительно Стэви был невыносим, когда ему становилось тоскливо. Он садился на площадке лестницы на пол с поднятыми коленами, опираясь головой на руки, и его бледное лицо с пылающими глазами производило жуткое впечатление.
М-р Верлок готов был исполнить желание жены, но подумал о неожиданном препятствии.
– А вдруг он потеряет меня из виду и заблудится, – сказал он.
– Нет, – возразила м-сс Верлок решительным тоном. – Ты не знаешь его. Он тебя обожает и не отойдет от тебя. Но если его вдруг не окажется подле тебя…
М-сс Верлок на минуту остановилась.
– Ты продолжай идти. Не беспокойся. Он очень скоро вернется домой.
Этот оптимизм был причиной нового, четвертого в тот день изумления м-ра Верлока.
– Вернется, ты думаешь? – проговорил он с сомнением. Но, может быть, действительно Стэви не такой глупый, как ему кажется. Винни наверное лучше знает. Он бросил рассеянный взгляд на мальчика, сказал: – Ну, так пусть идет со мной, – и опять очутился в когтях мрачной заботы. Говорят, что забота любит ездить на седле за ездоком, но на самом деле она иногда ходит также пешком по пятам людей недостаточно богатых, чтобы держать лошадь, – таких, как, например, м-р Верлок.
Винни, стоя у дверей лавки, не видела роковой спутницы м-ра Верлока. Она следила за двумя фигурами, которые шля по узкой грязной улице, – одной высокой и коренастой, другой маленькой и худенькой, с тонкой шеей и слегка приподнятыми узкими плечами под большими полупрозрачными ушами. Они были в одинаковых пальто, у обоих были черные круглые шляпы.
«Совсем точно отец и сын», – подумала она, и подумала также, что м-р Верлок по-отечески относится к Стэви и что это до некоторой степени дело её такта.
В большому своему удовольствию она в течение следующих дней заметила, что м-р Верлок стал охотно брать с собою Стэви. Каждый раз, когда он собирался выходить из дому, он громко звал мальчика, как зовут с собой на прогулку любимую собаку. Сидя дома, он также иногда с любопытством поглядывал на Стэви. Он несколько изменился и хотя по-прежнему был молчалив, но уже не казался таким угрюмым; иногда он даже очень оживлялся. Стэви перестал забиваться в темные углы, а что-то постоянно бормотал про себя с угрозой в голосе. Когда его спрашивали: «Что ты сказал, Стэви?» – он только открывал рот и косился на сестру. Иногда он сжимал кулаки без всякой видимой причины, или что-то бормотал, обращаясь лицом к стене, и не касался карандаша, который ему давали для рисования кругов. Он тоже изменился, но, в противоположность м-ру Верлоку, не к лучшему. Винни, обобщавшая все его странности под общим понятием возбужденности, начала опасаться, что Стэви слушает разговоры м-ра Верлока с его друзьями, и это приносит ему вред. Наверное м-р Верлок во время прогулок встречает разных людей и разговаривает с ними. Винни знала, что это входит в какие-то его дела вне дома – дела, в которые она старалась не вдумываться. Она только боялась за Стэви и сказала об этом мужу. Все равно делу не помочь, и Стэви напрасно только волнуется.
Она сказала это мужу в то время, когда они оба сидели в лавке, и м-р Верлок ничего не ответил, хотя и мог бы возразить жене, что ей, а не ему принадлежала инициатива их совместных прогулов. Он выказал необыкновенное великодушие и ничего подобного не сказал. Он снял с полки маленькую коробочку, заглянул в нее, как бы для того, чтобы проверить, что в ней находится, и осторожно поставил ее на прилавок. Тогда только он нарушил молчание и сказал, что хорошо бы послать Стэви подышать свежим воздухом в деревню. Это бы принесло ему большую пользу. Но он высказал тут же опасение, что жена его не может обойтись без мальчика.
– Что ты! – запротестовала м-сс Верлок. – Когда дело идет о пользе для него, все другое неважно. Я отлично могу обойтись. Но куда его послать?
М-р Верлок медленно вынул лист оберточной бумаги и клубок бичевов и, укладывая коробочку для отправки по почте, пробормотал, что Михаэлис живет в деревне, в маленьком коттэдже, и что он с удовольствием приютит у себя Стэви. Там совершенно тихо. Никто не приходит и нет никаких разговоров, потому что Михаэлис пишет теперь книгу.
М-сс Верлок заявила, что Михаэлис ей очень нравится, и тут же прибавила, что терпеть не может «противного старика» Карла Юнта. Об Озипоне она ничего не сказала. Стэви, конечно, будет очень рад, – сказала она, так как м-р Михаэлис был всегда мил к нему и любил мальчика. – Стэви ведь хороший мальчик, – прибавила она. – Ты тоже, кажется, в последнее время привязался к нему.
М-р Верлок продолжал свою работу, не произнося ни слова. Затем, возвысив голос, он заявил о своей готовности повезти Стэви в деревню и оставить его у Михаэлиса. Это намерение он выполнил уже на следующий день. Стэви не протестовал, а как будто даже обрадовался. От времени до времени он удивленно поглядывал на сестру, в особенности когда она не смотрела на него, и у него было гордое, сосредоточенное выражение лица, как у ребенка, которому в первый раз дают в руки коробку спичек и позволяют самому зажечь спичку. М-сс Верлок дала последние распоряжения, сказала мальчику, чтобы он не слишком грязнил платье в деревне, и затем отправила его.
Таким образом, вследствие героического поступка матери и отправки мальчика в деревню, м-сс Верлок часто оставалась одна и во всем доме. М-ру Верлоку приходилось часто уходить по делам. Она долее обыкновенного оставалась в одиночестве в день взрыва в Гринвичском парке, так как м-р Верлок вышел в это утро очень рано, а вернулся уже под вечер. Она, впрочем, не тяготилась одиночеством. Выйти из дому ей не хотелось, погода была отвратительная и в лавке было уютнее, чем на улице. Сидя за прилавком с шитьем в руках, она не подняла глаз с работы, когда раздался дребезжащий звук колокольчика у входной двери и вошел м-р Верлок. Она не взглянула на него, когда он молча, надвинув шляпу на лоб, направился в комнату за лавкой.
– Какая ужасная погода! – спокойно сказала она. – Ты, может быть, ездил навестить Стэви?
– Нет, – мягко ответил м-р Верлок, и с неожиданной решительностью закрыл дверь из лавки.
М-сс Верлок продолжала еще сидеть несколько времени, опустив работу на колени, потом положила шитье на прилавок и поднялась, чтобы зажечь газ. После этого она направилась в кухню приготовить чай для мужа. Она не была удивлена холодностью м-ра Верлока, так как была разумной женщиной и не ожидала от мужа, после стольких лет супружества, чрезмерной нежности и особой учтивости. Но сама она соблюдала все свои обязанности заботливой жены, и направилась через комнату за лавкой в кухню с спокойно деловитым видом. Вдруг она услышала какой-то странный звук. Она остановилась среди комнаты, крайне удивленная, и зажгла газ над столом.
М-р Верлок, против обыкновения, сбросил пальто. Оно лежало на диване. Шляпа валялась тут же. Он же пододвинул стул в камину и, поставив ноги на решетку, сидел, низко опустив голову и поддерживая ее руками. У него стучали зубы и дрожь отдавалась во всем теле. М-сс Верлок сильно встревожилась:
– Ты промок, простудился? – спросила она, быстро подойдя к нему.
– Нет, – проговорил м-р Верлок и огромным усилием воли остановил дрожь. Но жена его, уверенная все-таки в том, что он схватил сильную простуду, продолжала расспросы:
– Где ты был сегодня? – спросила она.
– Нигде, – ответил м-р Верлок, тихим, сдавленным голосом. Во всей его фигуре чувствовалась или какая-то сосредоточенная тревога, или просто приступ сильной головной боли. Чувствуя неудовлетворительность своего ответа, он прибавил:
– Я был в банке.
М-сс Верлок изумилась:
– Зачем? – спросила она.
– Я взял оттуда все деньги, – ответил м-р Верлок, не поднимая глаз.
– Что это значит? Все деньги?
– Да, все.
М-сс Верлок накрыла стол скатертью, разложила приборы, я вдруг остановилась среди работы. – Зачем? – спросила она.
– Может понадобиться, – неопределенно ответил м-р Верлок, решивший остановить на этом свои намеренные признания.
– Не понимаю, что это значит, – сказала его жена совершенно спокойно, и м-р Верлок, для того, чтобы укрепит ее в её безмятежности, прибавил:
– Ты знаешь ведь, что можешь доверять мне.
– Конечно, – сказала м-сс Верлок и продолжала приготовления в ужину.
Решив про себя, что муж её утомлен и нужно его покормить посытнее, она вынула из буфета холодное мясо и пошла разогреть его в кухне. Только уже вернувшись оттуда, она опять заговорила:
– Если бы я тебе не доверяла, я бы за тебя не пошла замуж.
М-р Верлок как будто заснул, и когда чай был готов, м-сс Верлок громко назвала его по имени, чтобы разбудить. Он вздрогнул при громком звуке её голоса и, слегка шатаясь, подошел к столу. Но к еде он не притронулся. У него было сильно возбужденное лицо и красные глаза, и в общем он имел вид человека, проведшего разгульную ночь. Но так как он никогда не пил и не кутил, то вид его указывал скорее на начало болезни. Так подумала и м-сс Верлок и стала уговаривать его согреть ноги, надеть туфли и уже больше не выходить. М-р Верлок отнесся без всякого внимания к её гигиеническим советам, но просьба не выходить из дому неожиданно вызвала изложение очень широких планов. По туманным и незаконченным фразам мужа м-сс Верлок могла понять, что он собирается эмигрировать – только неизвестно, во Францию ли, или в Калифорнию. М-сс Верлок выслушала это с таким ужасом, точно он объявил ей о близости конца мира.
– Что за глупости! – сказала она, и сейчас же прибавила, быстро взглянув на лицо мужа:
– Ты схватил сильную простуду.
Слишком ясно было, что м-р Верлок был не только болен, но и сильно расстроен. Он с минуту помолчал в нерешительности, а потом проговорил что-то о необходимости уехать.
– Какая такая необходимость, – сказала Винни, сев против мужа и спокойно скрестив руки на груди. – Что тебя может заставить уехать? Ты не невольник. В наше время не бывает невольников. – Она остановилась, потом продолжала решительным голосом: – Деда идут хорошо, – сказала она, – живется нам недурно. Чего же еще?
Она окинула быстрым взглядом уютную комнату, находя, что она вполне соответствует её идеалу приятного домашнего очага. Ей недоставало в эту минуту только Стэви, гостившего у м-ра Михаэлиса. Она подошла к мужу и спросила:
– Или, может быть, я тебе надоела?
М-р Верлок не ответил ни единым звуком. Внвни оперлась на его плечо сзади и коснулась губами его лба. Вокруг них было тихо, с улицы не доносилось ни единого эвука, и раздавалось только легкое шипенье газового рожка над столом.
М-р Верлок не пошевелился при прикосновении губ жены. Когда она отошла, он отодвинул стул, встал и подошел к камину, обернувшись спиной к огню и следя глазами за движениями жены. Она спокойно убирала со стола и ровным голосом объясняла, что нелепо покидать их здешнюю приятную и удобную жизнь. В душе она при этом думала только о брате, понимая, что при его странностях трудно будет увезти его га границу. Решив это про себя, она стала говорить еще более решительно, продолжая в то же время работать и подвязав передник, чтобы заняться мытьем чашек. Возбужденная сама усиливавшейся резкостью своего голоса, она наконец сказала:
– Если ты уедешь, то уже без меня.
– Ты знаешь, что я этого не сделаю, – поспешно сказал м-р Верлок, слегка дрожащим голосом, и жена его уже раскаялась в своих словах, прозвучавших более сурово, чем она хотела. Она сказала их из какого-то внутреннего упрямства; чтобы загладить их, она взглянула на мужа с ласковой улыбкой и сказала ему тихим голосом:
– Ты бы стосковался по мне. Я знаю.
– Конечно, – громко произнес м-р Верлок и подошел к жене с таким странным выражением лица, что нельзя было понять, хотел ли он задушить или поцеловать ее. Но внимание м-сс Верлок было отвлечено от него звуком дверного колокольчика.
– Пришли в лавку, Адольф, – сказала она. – Иди ты. Я в переднике, и не могу выйти.
М-р Верлок повиновался и вышел с таким точно деревянным видом, что казался автоматом с выкрашенным красной краской лицом. Он закрыл дверь за собой; м-сс Верлок направилась в кухню и вымыла чашки, а потом только остановилась в работе, чтобы послушать, что происходит в лавке. До неё не донеслось ни единого звука. Покупатель, по-видимому, все еще не уходил. Что это был именно покупатель, она не сомневалась: будь это кто-нибудь из знакомых, Верлок привел бы его к ним в комнату. Когда она сбросила передник и вышла из кухни, м-р Верлок как-раз возвращался из лавки. Когда он выходил из комнаты, лицо его было багровое, а теперь он вернулся белый как бумага, с каким-то одичавшим, измученным лицом. Он снова подошел к дивану и посмотрел на лежавшее на нем пальто так, точно боялся дотронуться до него.
– Что случилось? – спросила м-сс Верлок, понизив голос. Через открытую дверь она видела, что покупатель все еще не ушел.
– Оказывается, что все-таки придется еще выйти сегодня, – сказал м-р Верлок.
Не отвечая ни слова, Винни направилась в лавку, закрыв за собой дверь, и прошла за прилавок. Она не посмотрена прямо в лицо покупателю, прежде чем не уселась удобно на стуле, но и при первом беглом взгляде успела заметить, что он был высокого роста, худощавый и носил закрученнве вверху усы. Из поднятого воротника виднелось длинное, худое лицо. Он был забрызган грязью. Винни его не знала, но сразу поняла, что это – не покупатель.
– Вы приехали с континента? – спросила она, спокойно оглядев его.
Высокий, худощавый незнакомец ответил ей молчаливой улыбкой.
– По-английски понимаете? – спросила м-сс Верлок, продолжая глядеть на него без особенного любопытства.
– Да, понимаю, – сказал он, и в выговоре его не было ничего, обличающего иностранца, кроме некоторой медленности речи.
– Вы, может быть, не надолго в Англию? – спросила она, и он опять ответил молчаливой улыбкой, покачав головой и с несколько печальным видом, как ей казалось.
– Мой муж устроит вас, но первые дни вам лучше всего провести у синьора Джульяни. Там спокойно и безопасно. Муж мой сведет вас туда.
– Хорошо, – сказал незнакомец, и взгляд его сделался более суровым.
– Вы и раньше были знакомы с м-ром Верлоком? – продолжала расспрашивать Винни, и незнакомец неопределенно ответил ей, что знал его только по наслышке. Наступала пауза, которую незнакомец прервал вопросом:
– Может быть, муж ваш уже вышел я ждет меня на улице?
– Как так? – с изумлением спросила м-сс Берлог. – У нас только один выход – вот этот на улицу, – пояснила она.
Винни подождала еще с минуту, сидя за прилавком, потом поднялась и заглянула в дверь. После этого быстро открыла дверь и исчезла за нею. М-р Верлок был уже в пальто. Но почему он наклонился над столом, опустив голову на руки, точно ему было дурно, – этого она никак не могла понять.
– Адольф! – громко позвала она его, и когда он поднялся с места, торопливо его спросила: – Ты знаешь этого человека?
– Слышал о нем, – ответил с каким-то беспокойством м-р Верлок.
В спокойных глазах его жены мелькнуло злобное чувство.
– Наверное, кто-нибудь из приятелей Карла Юнта, – проговорила она. – Противный старикашка!
– Нет, нет, – возразил м-р Верлок и стал искать шляпу.
– Он ждет тебя, – сказала м-сс Верлок. – Послушай, Адольф, – прибавила она, – он, может быть, пришел из посольства, с которым у тебя были неприятности?
– Неприятности с посольством? – спросил м-р Верлок с изумлением и испугом. – Кто тебе говорил о каком-нибудь посольстве?
– Да ты сам. Ты часто говоришь со сна в последнее время, – прибавила она в объяснение. – Я не могла понять в точности, в чем собственно дело, но только видела, что тебя что-то тревожит…
М-р Верлок надвинул шляпу на лоб и, раскрасневшись от гнева, стал ходить по комнате. Когда он несколько успокоился, то краска гнева сошла с его лица и оно опять сделалось мертвенно-бледным. Чтобы не терзаться какими-то необъяснимыми пугающими тайнами, м-сс Верлок решила, что все это у него от нездоровья.
– Послушай, – сказала она: – прежде всего отделайся от этого человека, кто бы он ни был, и возвращайся домой. Тебе нужно поберечься несколько дней.
М-р Верлок несколько успокоился и с выражением решимости на бледном лице открыл уже было дверь, когда жена шепотом отоевала его назад.
– Скажи пожалуйста, что это ты говорил о деньгах, которые взял из банка? они у тебя в кармане? Ты бы лучше…
М-р Верлок поглядел, ничего не соображая, на протянутую руку жены, потом пробормотал:
– Ах, да, деньги. – Он вынул из жилетного кармана маленький кожаный портфель и передал его без слов жене.
Миссис Верлок взяла портфель и стояла неподвижно, пока не захлопнулась входная дверь за её мужем и странным гостем. Потом только она заглянула в портфель, пересчитала банковые билеты и стала с недоверчивым видом оглядываться вокруг себя в комнате. Она не находила взглядом ни одного подходящего места, чтобы укрыть деньги. Все. шкапы и ящики казались ей специально соблазнительными для воров. Она быстрым, решительным движением расстегнул лиф и засунула в платье отданные ей на хранение деньги. В эту минуту как-раз раздался звук колокольчика у входной двери, и она поспешила навстречу входящему покупателю, приняв обычное застывшее выражение лица. Среди лавки стоял человек и оглядывался вокруг себя быстрым, холодным и внимательным взглядом. В одну секунду он осмотрел стены, потолок, пол, и улыбнулся, как старый знакомый. М-сс Верлок показалось, что она его уже видел когда-то. Она поняла, что это не покупатель. Он подошел, к ней с несколько таинственным видом.
– Муж дома, м-сс Верлок? – спросил он.
– Нет, вышел.
– Жалко. Мне нужно было кое о чем его спросить.
Это была правда. Главный инспектор Хит вернулся домой и собирался уже надеть мягкия туфли и сесть отдохнуть у камина, как вдруг почувствовал, что не может успокоиться после разговора с начальником, и решил пойти к Верлоку и собрать новые сведения, которые могли бы оказаться ему полезными. Направляясь в лавку на Брэт-Стрите, он старался не попадаться на глава никому из полиции. В кармане у него был лоскуток сукна, найденный им на месте катастрофы. У него не было, однако, ни малейшего намерения показать свою находку м-ру Верлоку. Напротив того, важно было выведать у Верлока то, что он согласен сказать добровольно; Хит надеялся, что добудет у него обвинительный материал против Михаэлиса. Ему было очень досадно, что он не застал м-ра Верлока дома.
– Я бы его подождал, если бы он скоро вернулся.
М-сс Верлок ничего не ответила, и он добавил:
– Мне нужно от него достать некоторая сведения частного характера. Вы понимаете, ведь, что я хочу сказать? Вы же знаете, куда он пошел?
– Не знаю, – холодно ответила м-сс Верлок и принялась расставлять коробки на полках. Главный инспектор Хит задумчиво поглядел на нее.
– Вы ведь знаете, кто я, – сказал он, и, удивленный её холодностью, прибавил:
– Ведь вы знаете, что я служу в полиции?
– Я в это не вхожу, – сказала м-сс Верлок, и снова нанялась прибиранием вещей на полках.
– Мое имя – Хит. Главный инспектор Хит, из департамента по особо важным делам… Так ваш муж вышел четверть часа тому назад? – спросил он, раздраженный непроницаемо-холодным видом м-сс Верлок. – Он не сказал вам, когда вернется?
– Он вышел не один, – сказала м-сс Верлок.
– С кем-нибудь из знакомых?
М-сс Верлок оправила сзади прическу, которая была и без того в порядке. – Нет, с каким-то чужим, – сказала она.
– А, я понимаю. Каков он был с виду? Опишите его, пожалуйста.
И когда главный инспектор Хит услышал, что незнакомец был худощавый брюнет, с длинным лицом и поднятыми вверху усами, он сильно взволновался и воскликнул:
– Чорт возьми, он однако не потерял времени!
Он был возмущен поведением начальника, не брезгавшего ролью простого сыщика. Но у него пропала охота ждать м-ра Верлока. Он не знал, куда они пошли, но было возможно, что они вернутся вместе, а встреча с начальником в лавке Верлока совершенно не входила в планы главного инспектора Хита.
– Мне, к сожалению, некогда дожидаться вашего мужа, – сказал он, и м-сс Верлок выслушала это заявление с полным равнодушием. Главного инспектора Хита заинтриговала её холодность.
– А знаете, – сказал он, пристально глядя на нее, – вы могли бы, если бы хотели, дать мне очень ценные сведения о том, что происходит.
– А что же происходит? – спросила м-сс Верлок.
– Я говорю о деле, относительно которого пришел поговорить с вашим мужем.
В этот день м-сс Верлокв, как всегда, прочла газету утром. Но потом она целый день не выходила из дому, а газетчики не заглядывают в Брат-Стрит, и туда не доносятся даже их оглушающие крики с людных улиц, так что вечерних газет она не видала. Муж её тоже не принес газеты. Она ничего не знала и с удивлением спросила, о чем он говорит. Хит не поверил ни на минуту, что она не знает, и довольно резким тоном сообщил самый факт.
М-сс Верлок отвела глава.
– Вот нелепость! – сказала она. – Мы здесь не рабы, и нет надобности действовать такими средствами.
Главный инспектор Хит стал выжидать дальнейших суждений, но она больше ничего не сказала.
– Ваш муж ничего вам об этом не сказал, когда вернулся? – спросил Хит.
М-сс Верлок покачала головой в знак отрицательного ответа. Наступило молчание. Главный инспектор Хит был странно возбужден, точно чувствуя, что напал на какой-то след.
– Есть тут еще одно обстоятельство, о котором я хотел поговорить с вашим мужем, – сказал он намеренно небрежным тоном. – У вас в руках оказалось, кажется, украденное пальто.
М-сс Верлок, занятая в этот день мыслями о ворах, инстинктивно нащупала бумажник на груди.
– У нас никакого пальто не украли, – сказала она спокойно.
– Вот странно! – продолжал Хит. – Я вижу, вы держите чернила для метки.
Он взял маленькую бутылочку чернил и поднял ее в свету газового рожка.
– Красные? – сказал он, снова поставив бутылочку на прилавок. – Повторяю, очень странно. На пальто, о котором я говорю, есть на подкладке воротника нашивка, помеченная такими чернилами, как эти.
Мсс Верлок нагнулась над прилавком, слегка вскрикнув:
– Так, значит, это пальто коего брата!
– А где ваш брат? Могу я его видеть? – взволнованно опросил Хит.
– Его нет дома. Он не здесь. А надпись я сделала сама.
– Где же теперь Ваш брат?
– В деревне у одного знакомого.
– Пальто было на человеке, приехавшем из деревни. А как имя вашего знакомого?
– Михаэлис, – произнесла м-сс Верлок с ужасом, и главный инспектор даже свистнул от изумления.
– Вот как! – Чудесно! Скажите: ваш брат – коренастый брюнет?
– Нет, – быстро запротестовала м-сс Верлок. – Это, вероятно, вор таков. А Стеви – блондин, очень худенький.
– Хорошо, – сказал главный инспектор одобряющим тоном. В то время как м-сс Верлок смотрела на него с удивлением и инстинктивным испугом, он стал выведывать у неё разные нужные сведения. Он узнал, что растерзанные останки, которые он с таким ужасом рассматривал в это утро, принадлежали юноше, очень нервному, рассеянному, странному, и что женщина, которая с ним говорила, опекала этого юношу с детства.
– Он легко терял самообладание? – спросил он.
– Да, легко. Но не понимаю, как это у него могли украсть пальто.
Инспектор Хит опустил руку в карман. Он вынул сначала вечернюю спортивную газету, засунутую туда, а затем уже лоскуток сукна, доставшийся ему в подарок от щедрой судьбы, и передал его м-сс Верлок.
– Вы узнаете? – спросил он.
Она машинально взяла лоскуток в руки я взглянула на него. Глава её все более широко раскрывались.
– Конечно, узнаю, – прошептала она, и затем, подняв голову, отступила назад.
– Почему этот лоскуток оборванный? – едва слышно проговорила она.
Главный инспектор выхватил у неё лоскуток, а она тяжело опустилась на стул. Для него все было ясно. В ту же минуту он понял еще нечто другое, более поразительное: второй человек был Верлок.
– М-сс Верлок, – сказал он, – вы, кажется, больше знаете об этом деле, чем подозреваете сами?
У м-сс Верлок кружилась голова, и она ничего не могла сообразить. Она так вся застыла, что была не в состоянии повернуть голову, когда раздался колокольчик у дверей. Главный инспектор Хит быстро повернулся к двери как-раз в тот момент, когда вошел м-р Верлок, и они взглянули друг другу в лицо. М-р Верлок, не глядя на жену, подошел в главному инспектору, который обрадовался, видя, что Верлок вернулся один.
– Вы здесь? – пробормотал м-р Верлок. – Кого вы разыскиваете?
– Никого, – тихим голосом сказал главный инспектор Хит. – Но мне нужно сказать вам пару слов.
– Пойдемте сюда, – сказал м-р Верлок, который вернулся домой все еще бледный, но уже более спокойный. Однако он все еще не поднимал глаз на жену.
Он провел Хита в комнату за лавкой, и как только закрылась за ними дверь, м-сс Верлок вскочила со стула и подбежала в двери; но она не открыла ее, а опустилась на колени и приблизила ухо в замочной скважине.
Она услышала голос главного инспектора и только не видела, как он ткнул пальцем в грудь её мужа.
– Это вы – второй человек, Верлок. В парк вошли два человека.
– Так возьмите меня! – раздался голос м-ра Верлока. – Кто вам мешает? Вы имеете право.
– Нет. Раз это дело взял в свои руки мой начальник, так пусть сам и справляется. Но вы-то знайте, что изобличил вас я, а не он.
После того она услышала несколько времени только неясное бормотание. Хит, очевидно, показал м-ру Верлоку лоскуток воротника Стэви, потому что сестра мальчика услышала громкий возглас мужа:
– Я понятия не имел, что она придумала такую штуку.
Опять до м-сс Верлок долго доносилось одно только бормотание, все-таки менее кошмарное для неё, чем страшное содержание громко произнесенных слов. Затем, главный инспектор Хит возвысил голос:
– Вы обезумели, что-ли, решившись на такое дело?
Голос м-ра Верлока ответил с каким-то мрачным бешенством:
– Да, около месяца я был безумным. Но теперь я не безумен. Все кончено. Теперь все выйдет наружу.
Он заговорил упавшим голосом, потом опять возвысил его.
– Вы знаете меня несколько лет, – сказал он, – и относились ко мне хорошо. Я прежде всего прямой человек.
Хиту, очевидно, было неприятно воспоминание о старом знакомстве.
– Не очень-то верьте – сказал он с угрозой в голосе – обещаниям, которые вам дают. Я бы на вашем месте бежал. Ловить вас мы бы не стали.
– Конечно, – сказал м-р Верлок со смехом. – Вы надеетесь, что другие избавят вас от меня? Нет, не бывать этому. Я слишком честно относился к этим людям, и теперь все должно выйти наружу.
– Так пусть выйдет, – равнодушно согласился главный инспектор Хит. – Но скажите мне, как вы оттуда выбрались?
– Я был близ Честер-Фильд-Уока, – услышала м-сс Верлок голос своего мужа, – как вдруг раздался взрыв. Тогда я бросился бежать. Был густой туман, и я никого не встретил до самого конца Джордж-Стрита.
– Удивительная удача! – проговорил с удивлением инспектор Хит. – Вас удивил звук взрыва?
– Да, он раздался слишком рано, – признался м-р Верлок мрачным голосом.
М-сс Верлок прижалась ухом в замочной скважине. У неё посинели губы, руки были холодны как лед, и среди бледного лица глаза казались двумя черными провалами. Голоса за дверью опять понизились, и до неё доносились только отдельные слова. Наконец, она услышала опять целую фразу, произнесенную главным инспектором:
– Он, вероятно, споткнулся о корень дерева.
Опять голоса понизились до шепота, и затем Хит, отвечая на какой-то вопрос, отчетливо сказал:
– Конечно. Разорван на клочки: куски тела и кости перемешались с песком и камнями. Пришлось подбирать лопатой, говорил я вам.
М-сс Верлок вдруг вскочила и, заткнув уши, убежала за прилавок и стала метаться между прилавком и полками у стены. Увидав газету, оставленную на столе Хитом, она пробовала развернуть ее, потом бросила на пол.
– Так, значит, ваша защита будет заключаться в полном признании? – спрашивал за дверью м-ра Верлока главный инспектор Хит.
– Да, я расскажу все до конца.
– Вам не поверят.
Главный инспектор погрузился в раздумье. Раскрытие этого дела вовсе ему не улыбалось. Михаэлис остался бы в стороне, обнаружилась бы только деятельность профессора, разбита была бы вся система тайного надзора и поднялся бы бессмысленный шум в газетах.
– Может быть, и не поверят, – сказал Верлок, – но зато многое будет изобличено. Я прямой человек и буду действовать прямо.
– Если вам не помешают, – сказал со смехом главный инспектор: – на вас будут оказывать разные влияния, а потом вы будете сами поражены приговором. Я бы на вашем месте не доверял господину, который с вами разговаривал до меня. Мой совет – как можно скорее исчезнуть отсюда. Ведь многие у нас уверены, что вас нет на свете.
– Неужели? – проговорил м-р Верлок. Вернувшись из Гринвича, он провел весь день в маленьком кабачке и не ожидал такого благоприятного оборота дела.
– Да, таково общее мнение. Удирайте, исчезните…
– Куда? – проговорил м-р Верлок. Он поднял голову и, глядя на запертую дверь, проговорил:
– Заберите меня с собой сейчас же. Я не буду сопротивляться.
– Я не сомневаюсь, – иронически согласился главный инспектор, следя за направлением его взгляда.
У м-ра Верлока выступил пот на лбу. Понизив голос, он заговорил конфиденциальным тоном: – Мальчик ведь был ненормальный, неответственный за свои поступки. Суд бы его оправдал, понимая, что он годится только в сумасшедший дом… Самое худшее, что ему сделали бы…
Главный инспектор, уже держась за ручку двери, прошептал, глядя прямо в лицо м-ру Верлоку:
– Мальчик-то, может быть, не совсем нормальный, но вы так прямо сумасшедший. Что вас так сбило с толку?
М-р Верлок, помня о м-ре Вальдере, – сказал, не стесняясь: Все это наделал один посольский негодяй. По-вашему, впрочем, он, может быть, джентльмен.
Главный инспектор кивнул головой, в знак понимания, и открыл дверь.
М-сс Верлок, может быть, и не заметила, как он вошел в лавку. Она сидела выпрямившись за прилавком, а у ног её валялся скомканный лист розоватой бумаги. Она судорожно прижала обе руки к лицу, надавливая кончиками пальцев на висок. На лице её была точно маска, которую она не хотела сорвать. В её неподвижности сильнее выражалось её страшное горе, чем если бы она испускала крики и билась головой об стену. Хит только вскользь взглянул на неё, проходя мимо, и когда он вышел при звоне надтреснутого колокольчика, вокруг м-сс Верлок воцарилась глубокая тишина. Темные полки с товарами поглощали весь свет, и в полутьме только сверкал золотой ободок обручального кольца на пальце м-сс Верлок, как неистребимый блеск остатка сверкающего сокровища, брошенного в сорную яму.
Вице-директор попал в Вестминстер вовсе не около полуночи, как предполагал, а очень рано, в самом начале вечернего заседания. После разговора с личным секретарем, который интересовался исходом затеянного предприятия и понял по таинственным ответам вице-директора, что тому удалось нечто весьма важное и ответственное, вице-директора впустили в кабинет начальника, сидевшего за столом в задумчивой позе. Начальник не выразил ни удивления по поводу преждевременного появления своего подчиненного, ни любопытства, ни вообще каких-либо чувств. Ничто не изменилось в его задумчивом взгляде. Но голос его не был при этом усталый или сонный.
– Ну, что? – спросил он: – что вы узнали пока? Напали на что-нибудь неожиданное?
– Несовсем неожиданное, сэр Этэльред, – сказал вице-директор. – Я напал на психологическое состояние.
– Говорите, пожалуйста, понятнее, – попросил начальник.
– Да это совершенно понятно. Вы знаете ведь, что преступники чувствуют непреодолимое желание раскрыть свою тайну кому бы то ни было – часто даже полиции. И вот, Верлок, которого главный инспектор Хит считает столь непричастным к этому делу, оказался именно в таком состоянии. Он, говоря образно, бросился во мне на грудь, и мне стоило только шепнуть ему, кто я, и прибавить: я ведь знаю, что вы тут главное действующее лицо, – чтобы этим вызвать его признание. Ему казалось чудом, что мы уже знаем, но он все-таки поверил. Мне оставалось тогда только предложить ему два вопроса: кто вас толкнул на это дело, и кто бросил бомбу? Он дал точные ответы. Прежде всего я узнал, что бросил бомбу брат его жены, мальчик, полу-идиот, и узнал также, что Михаэлис никакого касательства к этому делу не имеет, хотя, действительно, мальчик был у него в деревне до восьми часов утра сегодня. Возможно, что Мяхаэлис еще ничего не знает до сих пор… Верлок с утра отправился туда и взял мальчика с собой как бы на прогулку. Так как это было не в первый раз, то Михаэлис не мог подозревать ничего дурного. Ну, а затем оказывается, что Верлок совершенно обезумел от удивительно сыгранной с ним комедии, которую мы с вами ни на минуту не приняли бы в серьёз, но которая оказала сильное воздействие на Верлока.
Вице-директор рассказал все, что Верлок передавал ему о характере и образе действия мистера Вальдера…
– Мне это кажется совершенно фантастичным, – сказал начальник.
– Не правда ли? Прямо, какая-то жестокая шутка. Но Верлок, по-видимому, отнесся к этому совершенно серьезно. Ему казалось, что вся его карьера рушится. В прежнее время он был в прямых сношениях с Стот-Вартенгеймом, и считал свои услуги незаменимыми. Отрезвление было очень неожиданное, и он, видимо, потерял голову. Ему, очевидно, представлялось, что посольство может не только отказаться от его услуг, но каким-то таинственным образом погубить его.
– Сколько времени вы провели теперь с ним? – спросил начальник, прерывая вице-директора.
– Мы провели минут сорок в номере какой-то подозрительной гостиницы. Он был в состоянии реакции после преступления. Его нельзя назвать закоренелым преступником. Он не хотел смерти несчастного мальчика, брата своей жены, и теперь в полном ужасе, – я это ясно видел. Может быть, он даже любил мальчика. Во всяком случае, он надеялся, что мальчик не попадется, и что невозможно будет узнать, кто собственно совершил дело. Притом для мальчика никакого риска не было: его бы сейчас же объявили невменяемым.
Вице-директор остановился на минуту и задумался.
– Как он, однако, надеялся в таком случае выгородит себя – этого я не понимаю, – продолжал он, не зная, до чего Стэви был предан «доброму» м-ру Верлоку, и как он умел молчать, когда считал это нужным.
– Впрочем, он, может быть, не думал об этом, – прибавил вице-директор. – Он теперь в глубоком отчаянии, как человек, который совершил самоубийство, чтобы покончить со всеми заботами, и уже потом убедился, что ничуть не помог этим делу.
– Что же вы теперь с ним сделали? – спросил начальник, улыбнувшись в ответ на оригинальное сравнение вице-директора.
– Так как он очень торопился к жене в лавку, то и отпустил его.
– Как? Ведь он может убежать.
– Простите, я этого не думаю. Куда ему бежать? Ему грозит опасность и со стороны товарищей. Он занимает тут определенный пост. Под каким предлогом он бы, оставил его? Но даже если бы ничто не помешало его свободе действий, он бы все-таки ни на что не мог решиться в своем теперешнем состоянии. А если бы я задержал его, мы были бы уже обязаны определенно действовать. А я хотел сначала узнать ваше намерение.
– Я повидаю сегодня прокурора и завтра утром пошлю за вами. Что вы еще имеете мне сказать?
– Ничего, сэр Этельред, если вы не желаете знать подробности…
– Нет, пожалуйста, без подробностей, – сказал начальник, и протянул вице-директору на прощанье руку. – И вы говорите, что этот человек женат? – спросил он еще.
– Да, женат законным браком. Он говорил мне, что после разговора в посольстве хотел-было все бросить, продать лавку и уехать, но он знал, что жена его и слышать не захочет об отъезде за-границу. Лучшее доказательство прочного супружества, – прибавил он злобно, вспомнив, что и его жена тоже не хотела уезжать из Англии. – Да, – повторял он, – настоящая жена и настоящий брат жены. Тут – целая семейная драма.
Вице-директор засмеялся, но, видя, что начальник уже погрузился в другие мысли о важных государственных вопросах, незаметно вышел из комнаты.
Он медленно направился домой, раздумывая о деле, которое живо его интересовало, как предлог начать полезную общественную кампанию. Придя домой, увидев, что в гостиной темно, он прошел наверх, чтобы переодеться и поехать за женой, которая была на обеде у знатной лэди, покровительницы Михаэлиса.
Он знал, что там будут рады его приходу. Войдя в меньшую из двух гостиных, он увидел жену среди большой группы у рояля. За ширмой подле хозяйки сидели на двух креслах рядом какой-то господин и дама. Хозяйка протянула руку вошедшему.
– Я уж и не надеялась видеть вас сегодня. Энни мне сказала…
– Я сам не думал, что так скоро освобожусь, – ответил вице-директор и прибавил в полголоса: «Могу сообщить вам, к вашему и моему удовольствию, что Михаэлис не причастен к этому делу.»
– Еще бы! – с негодованием воскликнула покровительница Михаэлиса. – Неужели у вас там были настолько глупы, чтобы заподозрить его?..
– Не настолько глупы, – почтительно возразил вице-директор, – а настолько умны и ловки.
Наступило молчание. Господин, сидевший на кресле у кушетки, перестал разговаривать с дамой около него, и поглядел с легкой улыбкой на вице-директора.
– Я не знаю, знакомы ли вы, – сказала хозяйка.
М-р Вальдер и вице-директор учтиво поклонились друг другу.
– Он все пугает меня, – заявила вдруг дама, сидевшая около м-ра Вальдера, кивая головой на последнего. Вице-директор был знаком с этой дамой.
– У вас вовсе не испуганный вид, – сказал он, взглянув на нее и думая про себя, что рано или поздно в этом доме можно встретиться с кем угодно.
– Во всяком случае, он пробовал меня пугать, – сказала дама.
– Это уж по привычке, – сказал вице-директор.
– Он угрожает обществу всякими ужасами, – продолжала лэди: – из-за взрыва в Гринвиче, говорит, что мы должны дрожать, пока этих людей не истребят всех до конца. А я и не знала, что это так серьезно.
Мистер Вальдер, делал вид, что не слышит, и, наклонившись к кушетке, говорил что-то в полголоса хозяйке. Но он ясно слышал, как вице-директор сказал:
– Я не сомневаюсь, что м-р Вальдер имеет совершенно точное представление об истинной важности этого дела.
М-р Вальдер спрашивал себя, какая собственно цель у этого назойливого полицейского? Закончив фразу, обращенную к хозяйке, он повернулся в кресле и сказал:
– Вы хотите сказать, что мы лучше знаем этих людей, чем вы? Это верно. У нас сильно от них пострадали, а вы почему-то – он улыбнулся с искусственно-недоумевающим видом – охотно терпите их в своей среде.
Вице-директор ничего не ответил, и м-р Вальдер тотчас же попрощался. Как только он повернулся спиной к кушетке, вице-директор тоже поднялся.
– Я думала, что вы еще останетесь и отвезете домой Энни, – сказала хозяйка.
– Оказывается, что у меня сегодня есть кое-какая работа.
– В связи…?
– Да, до некоторой степени. Дело это может оказаться очень громким, – сказал он, когда хозяйка спросила его на прощанье, действительно ли все это так ужасно.
Он быстро вышел из гостиной и застал м-ра Вальдера еще в передней. Он старательно обматывал шею широким шолковым шарфом. За ним стоял лакей, подавая ему пальто, а другой в это время отворял дверь. Вице-директор быстро надел пальто и сразу вышел. Но, выйдя из подъезда, он остановился, как бы раздумывая, в какую сторону ему направиться. Увидав это в открытую дверь, м-р Вальдер еще постоял в передней, закурил сигару и потом только медленно вышел. Но все-таки он еще застал перед домом «проклятого полицейскаго» и, в ужасе подумав, что тот, может быть, поджидает его, стал искать глазами свободный кэб. Но такового не оказалось; у подъезда стоял ряде собственных экипажей. М-ру Вальдеру пришлось пройти пешком, и «проклятый полицейский» шел рядом с ним. М-ру Вальдеру сделалось не по себе. – Чертовская погода! – сказал он.
– Вовсе уж не такая плохая, – спокойно возразил вице-директор, и, помолчав несколько времени, сказал: – Мы захватили некоего Верлока.
М-р Вальдер не отшатнулся и даже не изменил шага, но не мог удержаться от восклицания: – Что? – Вице-директор не повторил своих слов.
– Вы его знаете, – сказал он.
М-р Вальдер остановился. – Почему вы думаете? – спросил он.
– Я не думаю. Это Верлок сказал.
– Врет, собака, – сказал м-р Вальдер, но внутренно он был поражен проницательностью английской полиции. Ему сделалось не по себе; он бросил сигару и пошел дальше.
– Эта история мне приятна тем, – продолжал медленным тоном вице-директор, – что она – удобный предлог для очень важного дела, за которое нужно взяться как можно скорее. Нужно очистить страну от иностранных шпионов. Они – гнусный и опасный элемент в обществе. Каждого из них в отдельности трудно выискивать. Нужно, чтобы самое их занятие опостылело их нанимателям. Дело становится позорным и опасным.
М-р Вальдер опять остановился. – Что вы хотите сказать? – спросил он.
– Суд над Верлоком выяснит публике и опасность, и неприличие шпионства.
– Кто же поверит такому человеку? – презрительно сказал м-р Вальдер.
– Обилие самых точных подробностей в достаточной степени всех убедит, – мягко сказал вице-директор.
– Так вы серьезно намереваетесь это сделать? Ведь вы этим действуете только на руку негодяям революционерам. Зачем вы хотите поднять скандал? Из нравственных соображений – или каких-нибудь других?
М-р Вальдер был, очевидно, очень взволнован, и это еще более убедило вице-директора в правде сообщений Верлока. Он прибавил равнодушным тоном:
– Есть и практические соображения. У нас достаточно хлопот с действительными анархистами – вы не можете упрекнуть нас в недостаточной зоркости в этом отношении. Но мы не допустим ни под каким предлогом, чтобы нам еще навязывали поддельных.
– Я не разделяю ваших взглядов, – возразил м-р Вальдер надменным тоном. – Вы рассуждаете слишком эгоистично, не думая об интересах других европейских стран.
– Другие страны не могут пожаловаться на отсутствие у нас бдительности, – сказал добродушным тоном вице-директор. – Вы видите, в течение двенадцати часов мы установили личность человека, разорванного на куски, отыскали организатора взрыва и даже знаем, кто стоит, за его спиной. Мы могли бы пойти и дальше, но не хотим превысить свои права.
– Вы полагаете, что преступление было задумано вне Англии? – спросил м-р Вальдер.
– Да, в иносказательном смысле слова, – ответил вице-директор, намекая на то, что посольства считаются территорией той страны, которую собой представляют. – Но это подробности. Я с вами об этом заговорил, потому что ваше правительство более всего недовольно нашей полицией. Вы видите, мы не так уж плохи. Мне хотелось сообщить именно вам о нашей удаче.
– Очень вам благодарен, – пробормотал м-р Вальдер.
– Здешних анархистов мы всех по пальцам знаем, – продолжал вице-директор, точно цитируя слова Хита. – А теперь нужно только отделаться от провокаторов, и тогда можно жить спокойно.
М-р Вальдер поднял руку, останавливая проезжающий кэб.
– А вы не зайдете сюда? – сказал вице-директор, указывая на внушительных размеров здание с ярко освещенным подъездом, перед которым они стояли. Это был фешенэбельный клуб, и м-р Вальдер состоял его почетным членом. Но в эту минуту вице-директор подумал, что едва-ли м-ру Вальдеру придется часто бывать здесь в будущем. Он взглянул на часы. Было половина одиннадцатого. Вечер проведен был не без пользы.
После ухода инспектора Хита, м-р Верлок стал ходить по комнате и от времени до времени смотрел на жену через открытую дверь. «Она знает», – думал он, глубоко ее жалея, но все же с некоторым чувством облегчения. Самое ужасное было бы именно сообщить ей страшную весть, и от этого инспектор Хит избавил ее. М-р Верлок никак не ожидал, что придется сообщать ей именно о смерти брата, так как отнюдь не ждал и не желал его смерти. Напротив того, мертвый Стэви становился источником гораздо больших бед, чем живой. М-р Верлок рассчитывал на благополучный исход, полагаясь не на собственную сообразительность мальчика, а на его слепое послушание, так как знал, с каким доверием и с какой слепой преданностью мальчик его во всем слушался. Он надеялся, что Стэви уйдет из стен обсерватории живом и невредимым и нагонит его за парком. Четверть часа – совершенно достаточное время даже для самого глупого человека, чтобы положить снаряд и уйти. Стэви, очевидно, наткнулся на что-нибудь, и взрыв произошел через пять минут. М-р Верлок предвидел все, кроме этого. Он думал, что Стэви мог заблудиться, не нагнав его, и что его где-нибудь арестуют. Этого он не боялся, уверенный, что мальчик его не выдаст. Он ему достаточно говорил, во время их долгих прогулок вдвоем, о необходимости молчания. Гуляя со Стэви по улицам Лондона, он сумел совершенно изменить взгляд мальчика на полицию, и мальчик сделался его покорным, преданным сообщником. М-р Верлок искренно полюбил его за это. Но что жена его пришьет адрес на подкладке пальто – это ему не приходило в голову. Так вот что она имела в виду, когда говорила, что нечего беспокоиться, если Стэви и потеряется на улице. Она уверила его, что мальчик наверное вернется домой. Да, он вернулся, – чтобы жестоко отомстить.
М-р Верлок вошел за прилавок. Он внутренно решил, что во всем виновата жена, не предупредившая его о принятой ею мере предосторожности. Но он все-таки не чувствовал злобы против неё, так как был фаталистом, и решил, что бывает только то, что должно быть. Теперь все равно делу не помочь. Он подошел в ней и сказал:
– Я не хотел погубить мальчика.
М-сс Верлок вся вздрогнула при звуке его голоса, но не отняла рук от лица и не произнесла ни звука. М-р Верлок чувствовал настоятельную потребность поговорить с ней.
– Это болван Хит так тебя ошеломил. Разве можно так сразу все сказать женщине! Я целые часы сидел в кабачке, все обдумывая, как тебе сообщить это. Ведь ты сама понимаешь, что я не желал зла мальчику.
Тайный агент Верлок говорил правду. Он действительно прежде всего ужаснулся за жену, когда раздался взрыв.
М-сс Верлок снова вся вздрогнула, но так как она продолжала сидеть, закрыв лицо руками, то он решил, что лучше всего оставить ее в покое, и ушел в комнату за лавкой. Увидев на столе приготовленную для него еду, он отрезал себе кусок мяса и стал есть. Он только теперь вспомнил, что за весь день ничего не ел, и в эту минуту почувствовал острее всего остального физическое чувство пустоты в желудке. Он стал медленно есть, поглядывая из-за двери на жену, потом снова вошел в лавку и близко подошел к Винни. Он не мог выносить вида этой скорби с закрытым лицом. Он ожидал, конечно, что жена его будет страшно потрясена, но надеялся все-таки на её опору в новых обстоятельствах, с которыми сам уже почти примирился со свойственным ему фатализмом.
– Ничего не поделаешь, – мрачно сказал он. – Нужно подумать о завтрашнем дне, Винни. Когда меня заберут, ты должна будешь действовать толково.
Опять ни звука, кроме судорожного вздымания груди. М-р Верлок начал даже слегка возмущаться. – Взгляни хоть на женя, – сказал он несколько резким тоном.
– Я никогда больше на тебя не взгляну, – раздался глухой ответ.
М-р Верлок отнесся со снисходительностью доброго мужа к восклицанию, явно вызванному чрезмерною скорбью. Тяжело же она приняла свое несчастье! Всему виной Хит, который не сумел сказать как следует. Но, конечно, ради неё же самой, нельзя ей позволить слишком предаваться своим чувствам.
– Нельзя тебе тут оставаться в лавке, – сказал он с напускной суровостью, в которой звучала нота действительной досады на жену. Нужно было до ночи обсудить много важных вопросов, а она все тормозила своим упрямством. Но как он ее ни убеждал разными доводами, она продолжала сидеть неподвижно.
– Ну, да будь же, наконец, благоразумна, Винни, – сказал он. – Что же было бы с тобой, если бы погиб я?
Он был уверен, что этот довод заставит ее вскрикнуть, но она не двинулась с места и по-прежнему не отнимала рук от лица. Нельзя говорить с человеком, когда не видишь его лица. М-р Верлок попытался силой отнять у неё руки от лица, но тогда она вдруг вырвалась от него, пробежала через всю лавку и скрылась в кухне. Он только на минуту увидел её лицо, и убедился, что она не взглянула на него.
Можно было подумать, что между ними происходила главным образом борьба из-за стула, так как в ту же минуту, как вышла м-сс Верлок, место её занял её муж. Он не закрыл лицо руками, но лицо его омрачилось тяжелыми мыслями.
Он знал, что ему не избежать тюрьмы, но не особенно этого боялся. Тюрьма укроет его во всяком случае от беззаконной мести, которой он мог опасаться с разных сторон. Он предвидел сравнительно скорое освобождение и затем жизнь за-границей. Обидно было только то, что неудача его постигла в тот самый момент, когда он мог рассчитывать на полное торжество. Ему казалось, что он блестяще доказал м-ру Вальдеру свою силу и могущество, и его престиж в посольстве сделался бы огромным – если бы только не несчастная мысль жены, вздумавшей пришить адрес к воротнику Стэви. Строго обдуманный, доведенный почти до конца план разбился из-за ничтожного обстоятельства, как бывает, что ломаешь ногу, поскользнувшись об апельсинную корку.
М-р Верлок все-таки не питал в эту минуту злобы против жены. Он думал о том, каково ей будет, когда его заберут, как она будет первое время тосковать по Стэви, и как тяжело ей будет оставаться совершенно одной во всем доме. Если бы хоть мать была с нею. Он чувствовал, что нужно обо всем серьезно потолковать, но понимал, что ни о каких делах разговаривать в этот вечер нельзя. Он поднялся, спокойно запер входную дверь, затушил газ в лавке и, отделив себя таким образом от внешнего мира, пошел к жене. Она сидела у стола, у которого обыкновенно сидел бедный Стэви за рисованием, опустив на руки голову. М-р Верлок не знал, с чего начать с ней разговор. Он никогда не говорил с ней о себе, так как она не любила вникать ни во что, что не касалось её непосредственно, и начать вдруг теперь, в трагических обстоятельствах, открывать ей душу – было бесконечно трудно. Нужно было объяснить страшное гипнотизирующее влияние Вальдера, толкнувшего его на преступление.
М-р Верлок ходил взад и вперед по комнате, потом остановился в дверях и, глядя в кухню, сказал, сжав кулаки:
– Ты не можешь себе представить, с каким негодяем я имел дело… Как он обошелся со мной!.. – продолжать м-р Верлок, чувствуя наконец силу открыть свою душу. – Ведь я рисковал головой в этой игре. От тебя я, конечно, все скрывал. Зачем было доставлять лишнее беспокойство! За семь лет нашего супружества, я не раз подвергался опасности жизни, – а он вздумал грозить мне… Мне, которому обязаны своим спасением величайшие люди в государстве!
Он заметил, что жена его подняла голову. Он смотрел на нее сзади, точно мог судить о действии свояк слов по движению её спины.
– За последние одиннадцать лет не было ни одного заговора, к которому я бы не был причастен. Скольких я, посылал на то, чтобы их ловили на границе. Старый барон знал, чего я стою. И вдруг является наглец, который осмеливался вызывать меня к себе в одиннадцать часов утра! Ведь если бы кто-нибудь увидел меня входящим в посольство, мне бы не снести головы. Какое негодяйство – подвергать опасности такого человека, как я!
М-р Верлок подошел к крану, подставил стакан и выпил один за другим три стакана воды, чтобы утолить душившее его пламя бешенства.
– Если бы не мысль о тебе, я бы схватил его за горло и сунул бы его голову в камин. Мне не трудно было бы справиться с этим розовым бритым негодяем.
М-р Верлок в первый раз в жизни открывал свою душу этой равнодушной женщине. Личное озлобление кипело в нем так сильно, что он совершенно забыл о судьбе Стэви. И когда он поднял глаза на жену, он был поражен неожиданностью её выражения. Она смотрела не обезумевшим и не рассеянным взглядом, а скорее взглядом, сосредоточенным на чем-то за м-ром Верлоком. Впечатление это было до того сильно, что м-р Верлок оглянулся; но за ним была только белая стена и больше ничего.
– Я бы схватил его за горло, – продолжал он, снова повернувшись в жене. – Если бы не ты, я бы не постеснялся. А ведь он бы даже не посмел обратиться в полиции. Ты понимаешь, почему не посмел бы?
Он подмигнул жене с лукавым видом.
– Нет, – глухо ответила м-сс Верлок, не поднимая на него глаз – О чем это ты говоришь?
М-ра Верлока охватило чувство полной безнадежности и усталости после страшного напряжения дня, закончившегося неожиданной катастрофой. Его карьера рушилась самым неожиданным образом, но во всяком случае он, может быть, наконец, будет в состоянии проспать целую ночь. Поглядев да жену, он, однако, в этом усомнился. Она была какая-то непонятная, чужая.
– Пряди же, наконец, в себя, – сказал он. – Пойди, ляг в постель. Тебе нужно выплакаться как следует.
Как и большинство, м-р Верлок думал, что лучший всход для женской печали – слезы. И, может быть, действительно, если бы Стэви умер на её руках, м-сс Верлок нашла бы облегчение в обильных словах. Она обрела бы в себе достаточно смирения, чтобы принять с покорностью все естественное в человеческой судьбе. Но ужасные обстоятельства смерти Стэви осушили сразу источник слез, точно ей провели по глазам раскаленным железом, а сердце превратилось в кусок льда. Черты её застыли, а в неподвижной голове носился рой мыслей. Вся жизнь пронеслась в её памяти, и она видела в ней только одну центральную заботу – о брате. Все обусловливалось только мыслью о нем. Она вспоминала все мелочи его детских лет, как она его мыла и причесывала, как ограждала его от ударов отца; который ругал его идиотом, а ее – чертовкой. Она точно слышала теперь звук этих слов. А потом пред нею проносились картины жизни в меблированных комнатах матери, бесконечное беганье по лестницам с завтраками жильцам, подсчет грошей, постоянная работа по дому, в то время как мать, едва ступая распухшими ногами, варила обед в темной кухне, а бедный Стэви, бессознательный центр их вабот, чистил сапоги жильцам. Среди этих воспоминаний промелькнул образ красивого молодого человека, который мог бы быть ей желанным спутником жизни. Но Винни со слезами на глазах отказала ему, отдав предпочтение м-ру Верлоку, очень милому и приветливому жильцу, у которого всегда звенели деньги в кармане. Он казался менее приятным, но более надежным товарищем в жизни, так как мог быть опорой для всей её семьи.
М-сс Верлок вспоминала семь лет беспечной живии Стэви в доме мужа. В ней самой укрепилось мирное чувство преданности домашнему очагу. Чувство её в мужу было глубокое, как стоячий пруд, поверхность которого изредка только шевелилась от мимолетного появления товарища Озипона, красивого, коренастого анархиста, с дерзкими глазами.
И еще одно, очень недавнее воспоминание пронеслось в памяти м-сс Верлок. Не прошло еще двух недель, как её муж и бедный Стави вышли вместе из лавки. М-сс Верлок так отчетливо видела их в эту минуту перед собой, что, воссоздавая иллюзию действительности, пробормотала побелевшими губами:
– Точно отец и сын!
М-р Верлок остановился и, повернув в ней овабоченное лицо, спросил:
– Что ты сказала?
Не получив ответа, он стал снова ходить по кухне. Потом, погрозив кому-то кулаком в воздухе, он снова заговорил.
– Я им отомщу, этим посольским… – кричал он. – Жизни не рады будут. Все расскажу. Все выйдет наружу. Ничто не может теперь меня остановить.
Давая волю бешенству этими словами, он однако остановился среди потока слов и снова посмотрел на жену, которая сидела неподвижно и глядела на стену перед собою. её молчание смущало его. Он знал её несловоохотливость. Их взаимно-доверчивые отношения и были основаны на том, что она не вмешивалась в его дела, а он ей ничего не рассказывал, но всегда был уверен в ней, как в верной, преданной жене. На этот раз, однако, молчание её было какое-то странное и зловещее. Ему хотелось бы, чтобы она высказала то, что думала в эту минуту.
М-сс Верлок, может быть, и сама была бы рада говорить вслух, но она не владела голосом в эту минуту. Она могла бы или громко кричать, или молчать, – и инстинктивно предпочла второе. А мысленно она повторяла все только одну фразу:
– «Он увел с собой мальчика, чтобы его убить! Он увел с собой мальчика, чтобы его убит!» Эта сводившая ее с ума фраза наполняла все её существо. Рыдания, которые не могли вырваться наружу, душили ее. Она вся дрожала и глаза её горели пламенным бешенством. По своей натуре Винни вовсе не была покорным существом. Она любила брата воинствующей любовью, – и мысль, что она сама позволила увезти его на заклание, сводила ее с ума. А этот человек посмел потом вернуться домой к жене!..
– Я еще боялась, что он дрожит от простуды, – пробормотала м-сс Верлок, глядя на стену.
Услышав эти слова, м-р Верлок понял их буквально и поспешил успокоить жену.
– Пустяки, – сказал он. – Я был только расстроен. – расстроен из-за тебя.
М-сс Верлок медленно перевела взгляд на мужа, который быстро опустил глаза.
– Ничего не поделаешь, милая, – сказал он. – Возьми себя в руки. Ведь ты сама навлекла на нас полицию. Так уж теперь, веди себя как следует. Я тебя не обвиняю, – прибавил он великодушно. – Ты не могла знать.
– Не могла знать, – повторила м-сс Верлок, и казалось, что эти слова произнес труп.
– Я и не обвиняю тебя. Но я им отплачу. Когда я буду под замком, я смогу говорить с полной свободой. Считай, что меня не будет с тобой два года. За это время ты должна будешь вести дела сама. Ты будешь продолжать держать лавку, пока я не дам знать. И вообще нужно будет соблюдать большую осторожность. Никто не должен знать, что ты собираешься сделать. У меня нет ни малейшего желания, чтобы меня пырнули ножом, как только я выйду на свободу.
М-р Верлок был всецело занят будущим, и думал только о том, чтобы оградить себя от ожидавших его впереди опасностей, – что было, конечно, совершенно понятно в таких критических обстоятельствах. Повторив еще раз, что он вовсе не желает смерти от рук революционеров, он прибавил с нежностью:
– Я хочу жить для тебя.
Легкий румянец набежал на неподвижное, бескровное лицо м-сс Верлок. Покончив с видениями прошлого, она теперь вполне понимала и – слышала слова мужа. Они точно душили ее своим несоответствием её чувствам. Она знала только одно – что этот человек, который был её мужем семь лет, увел с собой мальчика, чтобы убить его. А м-р Верлок, не подозревая, в каком она состоянии, продолжал ходить по комнате и развивать свои планы. Ему начинало казаться, что он избегнет мстительной руки революционеров, и он стал даже успокаивать жену. Тон его сделался самоуверенным, и это еще более усиливало ужас Винни. Она следила мрачным взглядом за человеком, который так заботился теперь о безнаказанности – после того как увел из дому Стэви, чтобы убить его. Он опять заговорил о том, что они уедут куда-то далеко-далеко, неизвестно, в Испанию ли, или в Южную Америку. М-сс Верлок хотелось машинально спросить: а как же с Стэви? Но потом она опять все вспомнила, и сразу сделала вывод, который очень бы удивил м-ра Верлока. Она вдруг поняла, что ей незачем оставаться с этим человеком, если нет мальчика. Она поднялась с места, точно ее кто-то толкнул. Она почувствовала себя свободной. М-р Верлок взглянул за нее.
– Ты куда? Наверх? – спросил он.
В силу долголетней привычки м-сс Верлок обернулась на этот привычный голос и слегка кивнула головой.
– Ну, и отлично, – сказал он. – Пойди, приляг. Я тоже сейчас приду.
М-ру Верлоку было неприятно, что жена так и ушла, не сказав ни слова. Он так нуждался в её нравственной поддержке. Вздохнув от чувства одиночества и пожалев о Стэви, м-р Верлок снова подошел к столу, на котором стоял еще остаток мяса. На него напал неутолимый голод, который часто сменяет слишком сильное напряжение нервов. Его удивило, что в комнате наверху тихо, и он с ужасом подумал, что Винни сидит за кровати и глядит в темноту. Мысль, что он застанет ее в таком состояния, отняла у него аппетит. Он отложил кухонный нож, которым собирался отрезать кусок мяса.
Но вскоре он услышал шаги жены и успокоился. Она прошлась по комнате и потом села. Но он понял по доносившимся звукам, что она надела ботинки и, по-видимому, одевается, чтобы выйти из дому. М-р Верлок не ошибся. Жена его почувствовала себя свободной женщиной, и еще не знала, что сделает с своей свободой. Она открыла окно в спальне, и выглянула на улицу – точно с желанием позвать кого-нибудь за помощь. Но пустынная улица была союзницей её мужа, уверенного в своей безнаказанности. Очевидно, никто не придет к ней на помощь. Тогда она оделась как на прогулку, не спеша и аккуратно, не забыв даже надеть вуаль, и сошла вниз.
М-р Верлок, заметив, что она держит в руке маленький саквояж, решил, что она собирается к матери, и внутренно оскорбился за такое невнимание в себе. Но этого личного чувства он не высказал, а постарался воздействовать на жену не сентиментальными, а разумными доводами. Он сказал, что слишком поздно ехать к матери, так как уже половина девятого, и Винни не успеет съездить туда и обратно в тот же вечер.
М-сс Верлок и в голову не приходило идти к матери. Ей только хотелось уйти из дому и хотя бы пробродить всю ночь по улицам – лишь бы не быть в этих стенах. Но, слишком обессиленная, она остановилась перед первым же препятствием и покорно опустилась на стул, продолжая сидеть в шляпе и вуали, точно гостья.
– Послушай, Винни, – начал внушительном голосом её муж. – Твое место сегодня дома. Ты навлекла на нас полицию. Я не браню тебя. Но все-таки ты во всем виновата. Да сними же шляпу. Я не пущу тебя никуда.
М-сс Верлок ясно расслышала только эти слова. Конечно, он ее не пустит, этот человек, который убил Стэви. Мысль её быстро заработала в этом направлении, уклоняясь от всякой логики. Она могла бы, думалось ей, выскользнуть в дверь и побежать, но он ее схватит и вернет обратно. Она может отбиваться, кусаться, пырнуть его ножом, но ножа у ней нет.
– Да скажи же что-нибудь! – сказал м-р Верлок, раздраженный в конец её молчанием; он не представлял себе, какой оборот приняли её мысля. – И прежде всего – сними вуаль. Не могу я с тобой говорить, не видя лица.
Протянув руку, он сам снял вуаль со шляпы и снов подошел в камину. Ему в голову не приходило, что жена хочет его покинуть. Он опять заговорил, убеждая ее.
– Разве я в чем-нибудь виноват? – говорил он, убежденный теперь сам в своей невинности. – Я искал, как только мог, кого-нибудь другого, но не нашел достаточно безумного или достаточно голодного человека. По-твоему, я хотел, что-ли, смерти мальчика? Убийца я, что-ли? Но теперь кончено. Его нет. Все его печали кончены, а наши только-что начинаются – именно потому, что он себя взорвал. Я тебя не обвиняю. Но пойми, что это была случайность – чистая случайность – такая, как если бы его переехал омнибус.
Он остановился и, наконец, видя, что его великодушие не производит должного впечатления, не мог долее сдерживаться.
– А ведь знаешь, – ты в этом больше виновата, чем я. Да, да. Мне и в голову не приходила мысль о мальчике. Это ты, как нарочно, все навязывала его мне как-раз, когда и не знал, как выпутаться из беды. Ну, так теперь и молчи. Я не пущу тебя сегодня к матери; ты бы стала говорить ей небылицы про меня. Так и знай: если, по-твоему, я убил мальчика, то уж, во всяком случае, убийца скорее ты, а не я.
Когда м-р Верлок произнес в припадке глубокого возмущения эти ужасные слова, м-сс Верлок, ничего не ответив, встала со стула в кофточке и шляпе, как гостья, которая собралась уходить, и подошла в мужу с протянутой рукой, как бы желая с ним проститься. Но когда она подошла к камину, м-ра Верлока уже там не было. Он направился к дивану, страшно измученный, и бросился на диван, сбросив шляпу, которая полетела под стол.
Все его силы истощились, и ему хотелось прежде всего отдохнуть.
«Кончила бы она скорее свои глупости, – подумал он. – Это прямо невыносимо».
Было что-то странное в чувстве вновь приобретенной свобода, которое охватило м-сс Верлок. Вместо того, чтобы направиться к двери, она прислонилась спиной в камину, как путник прислоняется для отдыха к забору. На лице её появилось какое-то новое дикое выражение. Она точно чего-то выжидала.
– Хоть бы я никогда не видел Гринвич-Парка! – пробормотал м-р Верлок. Когда эта фраза долетела до слуха м-сс Верлок, глаза её странным образом расширились. Слова мужа наполнили какое-то пустое место в памяти м-сс Верлок. Гринвич-Парк! Там был убит мальчик. Она теперь только вспомнила все подробности, рассказанные Хитом, и точно увидела перед собой картину сваленных ветвей, осыпавшихся листьев и разорванного на куски тела брата, перемешанного с песком и камнями. Останки собирали лопатой – вспомнила она. М-сс Верлок закрыла глаза, и когда она их снова открыла, то уж никак нельзя было назвать её лицо каменным. В ней светилась сосредоточенная решимость, и мысли её были всецело подчинены её воле. М-р Верлок ничего не заметил. Чрезмерная усталость настроила его оптимистически, и её молчание показалось ему благоприятным. Он прервал его тихим голосов.
– Винни! – подозвал он жену.
– Иду, – покорно ответила свободная женщина Винни. Теперь она управляла своим голосом, владела каждым своим движением, все ясно видела и сделалась хитрой. Она преднамеренно сейчас же отозвалась на зов мужа, потому что хотела, чтобы он не менял очень удобного для её цели положения на диване. И она своего достигла. Муж её не сдвинулся с места. Но она не сразу подошла к нему, а продолжала стоять, небрежно прислонясь в камину, как отдыхающий на пути странник. Лицо её было ясное. Она не видела лица и плеч м-ра Верлока, скрытых от неё спинкой дивана. Она устремила глаза на его ноги и продолжала стоять, пока не раздался снова голос м-ра Верлока, подзывавшего ее подсесть к нему на край дивана. В голосе его звучала и властность, и призывная нежность.
Она послушно направилась к нему, точно продолжала быть верной женой. Правая рука её слегка задела стол, и когда она прошла мимо стола, большой нож исчез, с него. М-р Верлок успокоился, услышав её шаги, и поджидал ее. Он лежал на спине, подняв глаза в потолку, и вскоре увидел на потолке и отчасти на стене движущуюся тень руки с зажатым в ней ножом. Тень и движения её были достаточно медленны для того, чтобы м-р Верлок узнал и руку, и нож. Он успел понять, что жена его обезумела, и решил, что может одолеть сумасшедшую, вооруженную ножом; но, прежде чем он успел действительно двинуть рукой или ногой, нож глубоко сидел в его груди. Тайный агент Верлок, слегка повернувшись на бок, умер, едва успев пробормотать в виде протеста: «Оставь!» Удар был нанесен со всей силой сосредоточившихся в полубезсознательной руке наследственных инстинктов мести.
М-сс Верлок выпустила нож и облегченно вздохнула – в первый раз за все время после того, как инспектор Хит показал ей оторванный лоскуток от пальто Стэви. Она прислонилась к дивану не для того, чтобы взглянуть на труп м-ра Верлока, но потому что комната вокруг неё кружилась, точно она очутилась на море в бурю. Она была при этом совершенно спокойна, чувствуя полноту свободы, не оставляющую ничего желать, ничего делать. Она не двигалась, не думала.
И в комнате долго царила тишина, пока она вдруг не услышала странный звук явственного тиканья. Звук этот ее удивил. Она ясно помнила, что часы на стене шли тихо, без тиканья, и вывела заключение, что звук этот исходит не из часов. Она опустила глаза на тело мужа; он лежал спокойно, точно спал. Лица его она не видела. Но глаза её, следя за направлением звука, вдруг увидели что-то плоское, слегка приподнимающееся над краем дивана. Это была ручка кухонного ножа… Странного в ней было только то, что она высовывалась над жилетом м-ра Верлока и что с неё что-то медленно капало на пол, производя звук тиканья часов. Наконец, она поняла: это была кровь.
При таком неожиданном открытии, м-сс Верлок вся встрепенулась и, быстро подобрав юбки, бросилась в двери. По пути ей встретился стол; она его толкнула с такой силой, что он опрокинулся, и блюдо с мясом полетело на пол.
Потом все стихло. Дойдя до двери, м-сс Верлок остановилась.
Винни Верлок, вдова м-ра Верлока, сестра разорванного на куски Стэви, отбежала только до дверей, испугавшись струйки крови, и там остановилась. Она сразу отрезвилась, но вместе с тем прошло и чувство облегчения и свободы. На нее напал страх. Она не боялась взглянуть на труп м-ра Верлока, так как вообще не боялась мертвых. Она не питала к нему теперь уже никаких чувств. Он уже не был для неё убийцей бедного Стэви. Он был ничем. Но если придут за м-ром Верлоком, то убийцей окажется только она одна… Вот что наводило на нее страх. Она нанесла удар, ни о чем не думая, с единственным желанием дать исход накопившейся в ней муке. А теперь она очутилась в страшном положения убийцы. Она, избегавшая всю жизнь вглядываться в сущность вещей, теперь вдруг должна была это сделать – и увидела перед собой в уме не тень, глядящую на нее с упреком, а нечто реальное – виселицу. Это было слишком страшно. От этого нужно было во что бы то ни стало спастись. Все, что угодно, только не это. Она сразу решила броситься в реку с ближайшего моста, быстро завязала вуаль и очутилась вся в черном с головы до ног, кроме нескольких цветов на шляпе. Она направилась с величайшим усилием к двери. Прошло всего несколько минут с той минуты, когда она нанесла роковой удар, но у неё было чувство протекшей вечности. Она с усилием отворила дверь; ей страшно было выйти на улицу, так как улица вела или на виселицу, или в Темзу. На улице было сыро, и ей казалось, что она уже опускается в воду. Винни вдруг почувствовала себя совсем одинокой. Она не забыла о том, что у неё была мать, но смерть Стэви точно порвала связь между ними; да и слишком далеко было к ней. М-сс Верлок постаралась забыть про мать. Медленно подвигаясь, обезумев от страха смерти, она схватилась за фонарный столб, не будучи в состоянии дотащиться до моста. Потом опять сделала несколько шагов и опять чуть не упала, как вдруг почувствовала, что ее поддерживают. Подняв голову, она увидела вглядывавшегося в её лицо товарища Озипона. Она тихо назвала его по имени, и он от изумления чуть не дал ей снова упасть на землю.
– М-сс Верлок? – воскликнул он.
У неё был вид пьяной женщины. Но предположить, что она действительно выпила лишнее, он никак не мог. На всякий случай, верный своей манере обращаться с женщинами, он попытался прижать ее к себе, и был поражен отсутствием сопротивления с её стороны.
– Вы узнали меня? – проговорила она, когда он почтительно отступил, не доверяя благосклонности судьбы.
– Конечно, – ответил Озипон. – Я боялся, что вы упадете, и подбежал, чтобы поддержать. Я бы вас узнал везде: слишком много я о вас думаю.
– Вы шли в лавку? – нервно спросила м-сс Верлок, не слушая его.
– Да, – ответил Озипон. – Как только я прочел в газетах, я поспешил к вам.
На самом деле, товарищ Озипон уже два часа как бродил вокруг Брет-Стрита, не решаясь войти в лавку. Ему очень хотелось наведаться к вдове Верлока, которого он, после разговора с профессором, считал жертвой взрыва, но вместе с тем он боялся показаться на глаща полиции, а был уверен, что за лавкой Верлока полиция в настоящее время следит.
– Куда вы идете? – спросил он тихим голосом.
– Ах, не спрашивайте! – крикнула, вздрогнув, м-сс Верлок. Все её существо восставало против смерти. – Не все ли равно, куда я иду?
Озипон понял, что она очень возбуждена, но совершенно трезва. Она постояла с минуту, потом, к удивлению Озипона, взяла его под-руку. Не зная, как быть в таком деликатном деле, он только слегка прижал её руку к своей. В это время он почувствовал, что она тянет его вперед, и пошел, повинуясь ей. Было совершенно темно.
– Что бы вы сказали, еслибы я вам созналась, что шла к вам? – спросила м-сс Верлок, крепко ухватившись за его руку.
– Я бы сказал, что нет на свете человека, более готового помочь вам в вашем горе, – ответил Озипон, чувствуя, что действует очертя голову.
– В моем горе? – медленно сказала м-сс Верлок. – Разве вы знаете, в чем мое горе?
– Через десять минут после того, как я прочел вечернюю газету, – стал с жаром объяснять Озипон, – я встретил человека, которого вы, может быть, видели раз или два к лавке. После разговора с ним, у меня не было никаких сомнений. Я сейчас же направился сюда, – ведь я вас полюбил с первого взгляда, – сказал он, точно был не в силах владеть своими чувствами.
Товарищу Озипону казалось, что всякая женщина хоть отчасти да поверит такому признанию. Он только не знал, что м-сс Верлок приняла его слова с жадностью, как утопающий хватается за возможность спастись. Он был для неё вестником жизни.
– Я это знала, – тихо проговорила м-сс Верлок.
– Конечно, – с жаром подхватил Озипон: – от такой женщины, как вы, нельзя скрыть столь горячей любви, как моя. – Он старался, говоря это, отвлечься от прозаических размышлений о ценности лавки и о том, сколько мог оставить Верлок наличного состояния. Он старался думать о романтической стороне дела. Его смущал слишком быстрый успех, но он продолжал все-таки свои признания.
– Я не мог скрывать своих чувств, – сказал он. – Вы всегда были так сдержанны…
– Я была честная женщина, – вырвалось вдруг у м-сс Верлок. – Пока он не сделал меня тем, что я стала.
– Он не был достоин вас, – продолжал Озипон. – Вы заслуживали лучшей участи. Но мне казалось, что вы с ним счастливы, и вот почему я всегда робел и не решался вам признаться.
– Вы думали, что я его любила? – с бешенством вскрикнула м-сс Верлок. – Я была ему верной женой, но любить я его никогда не любила. Я вышла за него, чтобы обеспечить судьбу матери и брата, особенно брата. Он был для меня как сын… Вам этого не понять.
В памяти её промелькнул образ молодого сына мясника, с болью оживший в сердце, трепещущем от страха смерти.
– Был юноша, которого я любила, – продолжала вдова м-ра Верлока. – Но отец его выгнал бы из дому, еслиб он женился на девушке, у которой немощная мать и брат идиот. Я его очень любила, но нашла в себе силу закрыть перед ним дверь – и выйти за муж за другого. Он казался добрым. Мы семь лет прожили вместе. Я ему была доброй женой. Он любил меня. Семь лет. А вы знаете, кто он был? – дьявол.
– Нет, я не знал, – сказал Озипон, стараясь представить себе, что Верлок мог сделать такого ужасного своей жене. Но он на всякий случай стал выражать ей соболезнование. – Бедная моя! – говорил он, гладя её руку. – Но теперь его, слава Богу, нет в живых, – прибавил он в знак высшего утешения.
М-сс Верлок крепко схватила его за руку.
– Вы догадались, что его уже нет? – пробормотала она обезумевшим голосом. – Вы поняли, как я должна была поступить? Должна была.
В голосе её звучало торжество. Не вникая в смысл слов, он только старался понять причину её странного возбуждения. Может быть, гринвичский взрыв объясняется обстоятельствами семейной жизни Верлока? Может быть, как это ни мало вероятно, Верлок избрал этот род самоубийства, и этим объясняется вся бессмысленность его поступка. Верлок ведь должен был знать, как всякий другой революционер, что теперь было самое неподходящее время для анархической манифестации. А что, если он просто надсмеялся над всей Европой, над революционерами и над полицией и даже над столь уверенным в себе профессором. Озипон теперь был даже твердо убежден, что так именно дело и обстояло. Бедный Верлок! Озипон подумал, что дьявол в этой семье, быть может, не муж, а жена.
Озипон искоса посмотрел на м-сс Верлок. Его в эту минуту интересовало узнать, откуда она обо всем знает? По газетам неизвестно, кто погиб в Гринвичском парке, и трудно было, с другой стороны, представить себе, что Верлок предупредил жену о своем намерении.
Они в это время, после долгого обхода, снова подходили в Брэт-Стриту с другой стороны.
– Как вы узнали? – спросил он, и она вся затряслась с головы до ног, прежде чем ответить ему.
– От полиции. Пришел главный инспектор Хит. Он показал мне… его вед лопатой собирали. Подумайте, Том, – жалобно говорила она, называя уже Озипона именем, которым его звали товарищи. – Он показал мне лоскуток пальто… «Вы узнаёте?» – спросил он.
– Хит? – воскликнул Озипон. – Что же он сказал?
М-сс Верлок опустила голову. – Ничего, – ответила она. – Полиция на его стороне. Потом еще другой приходил. Из посольства, кажется. Чужой.
– Какое посольство? О каком посольстве вы говорите?
– Да там, на Чешэм-Сквере. То, которое он все проклинал. Да я не знаю, не спрашивайте.
– Хорошо, не буду, – нежно сказал Озипон, не потому, что был тронут её жалобной просьбой, а потоку, что совершенно запутался в этом таинственном деле. Полиция, посольство… Главное, что эта женщина ухватилась теперь за него и не отпускала. После всего, что он слышал, ничто уж его не удивляло. И когда м-сс Верлок стала доказывать ему, что необходимо им сейчас же бежать на континент, он даже не протестовал… Он только сказал, что нет поезда до утра и, остановившись у фонаря, посмотрел ей внимательно в лицо. Нужно было решить, что эта женщина знает, какие у неё связи с полицией и с посольствами? Во всяком случае, если она хочет бежать, то не ему ее останавливать. Он сам рад бы уехать и жить спокойно где-нибудь вдали. Но как достать деньги?
– Спрячьте меня где-нибудь до утра! – сказала она с отчаяньем в голосе.
И когда он стал объяснять, что не может взять ее к себе, потому что живет с приятелем в одной комнате, она стала продолжать умолять его спасти ее во имя его любви в ней.
– Конечно, можно найти, где укрыться, – сказал, наконец, Озипон. – Но у меня, к сожалению, нет денег. Мы, революционеры, народ не богатый. Я не знаю, как мне уехать завтра.
Она постояла, не испуская ни звука и совершенно растерявшись. Но вдруг она схватилась за грудь, точно почувствовала там острую боль.
– Есть деньги, – проговорила она. – Денег довольно, Том. Только уедем.
– А сколько у вас? – спросил он, будучи человеком осторожным.
– Все деньги у меня, говорю я вам. Все.
– Как все? Все деньги из банка? – спросил он с удивлением, но готовый принять от судьбы все подарки, которые она вздумает послать ему еще.
– Ну, да, все, – нервно сказала она.
– Как же вы их уже достали?
– Он мне их дал все, – пробормотала она, вдруг вся задрожав. Товарищ Озипон решил ничему не удивляться.
– В таком случае, – медленно произнес он, – едем.
Она бросилась ему на грудь. – Ты спасешь меня, Том? – шептала она, крепко ухватившись за него. – Спаси, спрячь меня. Не отдавай, не отдавай им. Раньше убей меня. Сама я не могу, не могу.
Он никак не мог понять её состояния.
– Да чего вы боитесь? – спросил он несколько рассеянно, занятый другими мыслями.
– Неужели ты не догадался, что мне пришлось сделать? – вскрикнула несчастная женщина. Она была уверена, что все открыла, и почувствовала даже облегчение от исповеди, понимая по-своему каждую фразу Озипона, говорившего о другом.
– Скорее, скорее, догадайся сам! – продолжала она. – Главное – обещай убить.
– Все, кроме этого…
Он сказал ей, что нет надобности ни в каких обещаниях с его стороны, и старался не противоречить ей, понимая, что она говорит вздор. Он был занят другими мыслями. Ее в пору запереть в сумасшедший дом, – подумал он, и занялся припоминанием часов, когда отходят поезда. Вдруг он вспомнил, что есть ночной пароход из Соутгамптона в Сан-Мало в полночь, и что они могут еще попасть на поезд в половине одиннадцатого.
– Идем на вокзал – на станцию Ватерлоо, – сказал он.
Но вместо того, чтобы направиться в вокзалу, м-сс Верлок потянула его обратно на Брэт-Стрит. – Я забыла закрыть дверь, уходя, – прошептала она в страшном волнения.
Товарищ Озипон перестал интересоваться лавкой, и ему казалось совершенно лишним возвращаться туда. Но он не хотел спорить, думая про себя, что, может быть, деньги не при ней, а дома.
Лавка казалась совершенно темной и дверь была раскрыта настежь. Прислонившись у входа, м-сс Верлок прошептала:
– Никто не приходил. Вот… вот свет в столовой. Поди, потуши – или я с ума сойду.
Он не стал протестовать против так странно мотивированного желания.
– А где деньги? – спросил он.
– На мне. Иди скорее, затуши… Иди же! – крикнула она, схватив его за плечи и сильно толкнув вперед. Озипон чуть не свалялся от неожиданности, но пошел, внутренно возмущенный её капризами. Он спокойно пошел в комнату за лавкой, чтобы потушить свет по желанию м-сс Верлок, – я вдруг увидел м-ра Верлока, спокойно лежащего на диване.
Сотрясение от. этой неожиданности было так велико, что он как бы окаменел на месте и не мог двинуться. Что это – бред, кошмар, или же его заманили в ловушку? Верлок и его жена хотят его убить? За что? Или все это устроила полиция? Только спустя несколько времени, взгляд Озипона упал на шляпу «спящаго» мистера Верлока. Шляпа лежала на полу. Следя взглядом за шляпой, Озипон увидел отодвинутый стол, разбитую тарелку и заметил, что глаза м-ра Верлока не были вполне закрыты, а голова его свесилась. Наконец, Озипон увидел ручку ножа, сразу понял, что тут совершено убийство, и бросился бежать. У дверей на него налетела м-сс Верлок и шепнула, обезумевши, ему на ухо:
– Полицейский! Он видел меня…
Он понял, что не может оттолкнуть ухватившуюся за него женщину, и они вдвоем прислушивались к приближающемся шагам. Но тревога была ложная. Полицейский, делавший обход, не заметил ничего странного в доме м-ра Верлока и прошел мимо. Они стояли в лавке вдвоем, не двигаясь с места. Затем Озипон прислонился в прилавку. Ему было очень нехорошо. М-сс Верлок снова стала умолять его, чтобы он пошел затушить свет, но он отказывался войти еще раз в комнату, где лежал мертвый.
– Так закрой газометр там в углу. – На это Озипон отважился, и через минуту в комнате, где лежал м-р Верлок, сделалось темно.
Озипон обратился в м-сс Верлок, которая стояла посреди лавки и повторяла, дрожа с головы до ног:
– Только чтоб меня не повесили… Я не хочу, не хочу…
– Тише! – остановил ее Озипон. – Неужели ты это сделала сама? – проговорил он, придав своему голосу твердость, которая успокоительно подействовала на м-сс Верлок.
– Да, – прошептала она, веря в эту минуту, что он ее защитит. – Спаси меня от виселицы, Том, уведи меня отсюда. Я буду твоей рабой. Я буду любить тебя, работать на тебя. У женя нет никого на свете, кроме тебя. – Думая только об одном – о тоненькой струйке крови, стекающей с рукоятки ножа, – она готова была на все. – Я не буду требовать, чтобы ты венчался со мной! – крикнула она, забыв свое прошлое честной женщины, воспитанной в строгих правилах. Она пододвинулась к нему на шаг, и ему сделалось страшно. Он бы не удивился, еслиб у неё в руках очутился нож, предназначенный для него, и наверное даже не испугался бы. Он нечувствовал в себе никакой сила воздействовать на нее, и мог только спросить глухим голосом:
– Он спал, когда…
– Нет, – крикнула она. – Он доказывал мне, что всеему сойдет с рук. Это он доказывал мне, после того, как, увел мальчика, чтобы его убить. Моего мальчика! Я хотела, бежать, куда глаза глядят, чтобы не видать его. А он подозвал меня в себе, чтобы приласкать… после того, как он сказал, что я помогала ему убить мальчика. Слышишь, Том? Он подозвал меня, вынул из меня сердце, чтобы бросить, его в грязь. Кровь и грязь… как с моим мальчиком…
Озипон вдруг понял. Так, значит, в парке погиб не Верлок, а полоумный мальчик?
– Подозвал меня в себе… – опять раздался голос м-сс Верлок. – Подумай, меня! И я подошла – с ножом.
Озипон глядел на нее с ужасом. Эта сестра полоумного мальчика сама казалась ему безумной, способной на все.
– Помоги, Том, помоги! Спаси от виселицы! – кричала она. Он хотел оттолкнуть ее, но повалил на земь, и она потянула, его за собой. – Не оставляй меня, не оставляй! – продолжала она кричать, обвив его руками. Он чувствовал невозможность, отделаться от неё и убежать. Она бы побежала за ним и своими криками привлекла бы полицию. А потом она, быть может, свалила бы всю вину на него. Ему сделалось еще более страшно. Он чувствовал себя навеки связанным с нею. Им придется скрываться где-нибудь в глухом месте в Испании или Италии, и потом его найдут когда-нибудь зарезанным, как м-ра Верлока. Вдруг на него нашло вдохновение. Он заговорил спокойным голосом. У него был готов план в голове.
– Скорее, – сказал он, – нам пора в поезду.
– Куда же мы поедем, Том? – робко спросила она. М-сс Верлок перестала быть свободной женщиной.
– Дай пока добраться до Парижа, а там увидим. Пойди сначала, посмотри, свободна ли улица. – Она послушалась, вышла за дверь и, вернувшись, прошептала:
– Могло идти.
Они вышли, и в последний раз зазвенел дребезжащий дверной колокольчик, как бы тщетно стараясь уведомить покоящегося м-ра Верлока об окончательном отъезде жены в сопровождении его друга.
Они скоро достали кэб, и по дороге на воздал Озипон, сидевший еще со страшно-бледным лицом, стал давать точные указания своей спутнице. Он уже успел обдумать все подробности своего плана.
– Когда мы приедем, – сказал он странным, однообразным голосом, – ты выйди первая, не оглядываясь. Мы будем как чужие, на случай, если кто-нибудь следит. Я суну тебе билет в руку. Потом пройди в дамскую комнату и выйди на платформу только за десять минут до отхода поезда. Я буду на платформе. Войди в вагон, не оглядываясь на меня. Тебя одну не заметят, а меня знают, и, увидав тебя со мной, поймут, что мы бежали. Поняла?
М-сс Верлок кивнула головой, думая о чем-то другом, страшном.
– Дай мне деньги, – прибавил он, помолчав.
Она быстрым движением раскрыла корсаж и передала ему маленький бумажник. Он взял его и без слов засунул в карман. Только через несколько времени он снова заговорил и стал расспрашивать ее.
– Послушай. Ты не знаешь, держал ли он деньги в банке на свое или на какое-нибудь другое имя? Это очень важно звать. В банке записаны нумера билетов. Если деньги были выплачены ему под его собственным именем, то когда узнают о его смерти, нас по этим деньгам проследят. Других денег у тебя нет?
– Никаких, – сказала она.
– Значит, нужно было бы принять особые меры. Нам пришлось бы потерять почти половину при промене на другие деньги. Но если деньги лежали на другое имя, – скажем, Смита, – то деньгами можно пользоваться. Понимаешь? Банк не может знать, что Смит и Верлок – одно и то же лицо. Ты понимаешь теперь, как это важно? Так скажи, знаешь ли ты что-нибудь относительно этого.
– Знаю, – сказала она сосредоточенно и спокойно. – Он мне говорил, что деньги лежат на имя мистера Позера.
– Ты в этом уверена?
– Вполне.
– Ну, тогда отлично… Мы приехали. Выходи. Постарайся держаться спокойно.
Она вышла, а он медленно расплатился за проезд из своего кошелька. План его, по-видимому, удавался. Когда м-сс Верлок, с билетом первого класса в Сен-Мало, вошла в дамскую комнату, товарищ Озипон вошел в буфет и в несколько минут выпил три стакана коньяку с кипятком, чтобы «вылечить простуду», как он объяснил продавщице, стараясь скорчить улыбку. Он поднял глаза на часы. Теперь как раз время. Он остановился.
М-сс Верлок вышла на платформу со спущенной вуалью, вся в черном, и пошла вдоль вагонов. Озипон сзади коснулся её плеча.
– Сюда.
Она вошла в вагон, а он остановился на платформе, оглядываясь вокруг себя. Увидав кондуктора, он подошел к нему, что-то сказал, и тот ответил: «Хорошо, сэр», приложив руку к козырьку. Вернувшись в м-сс Верлок, Осипов сказал:
– Я сказал ему, чтобы никого не впускать в наше купе.
Она сидела, слегка наклонившись вперед. – Ты обо всем думаешь, – сказала она. – Ты спасешь меня, Том? – спросил она с безумной тревогой, подняв вуаль, чтобы взглянуть на своего спасителя. На прозрачно-белом лице большие сухие, потухшие глаза казались двумя черными провалами.
– Опасности больше нет, – сказал он, пристально глядя на нее, и м-сс Верлок, убегавшей от виселицы, казалось, что взгляд этот полон нежности. Она была так тронута, что лицо её уже не выражало такого ужаса. Но товарищ Озипон глядел на нее не глазами влюбленного, а глазами человека, который верил в науку больше, чем в правила этики. Он вспоминал её брата – полуидиота с явными признаками вырождения. Взывая мысленно в Ломброзо, как итальянский крестьянин взывает к своему любимому святому, он рассматривал теперь щеки, глаза, уши м-сс Верлок. Никакого сомнения… Преступный тип. Среди этих научных наблюдений он совершенно не думал о душе и её правах.
– Очень любопытный был твой брат, – сказал он. – Ясно выраженный тип.
Он говорил научно, а она понимала его слова как теллую память о брате и благодарила его за прежнее доброе отношение в мальчику.
– Какое между вами двумя огромное сходство! – продолжал Озипон, едва скрывая свой ужас, вызванный именно этим сходством.
С легким криком, м-сс Верлок, наконец, разрыдалась и долго плакала, чувствуя облегчение от слег. Она теперь свободно, с сознанием минувшей опасности, обвиняла себя в трусости, в том, что не сумела покончить с собой.
– Я теперь буду жить для тебя, Том, – говорила она.
Поезд тронулся.
– Пройди на другую сторону купэ и не выглядывай на платформу, – сказал заботливым тоном Озипон. Он посадил ее, чувствуя, что приближается вторичный приступ рыданий. Раздался свисток. Озипон инстинктивным движением сжал губы с решительным видом. Когда поезд медленно тронулся, м-сс Верлок ничего не видела и не слышала. Спаситель её Озипон постоял с минуту, слушая её громкия рыдания, потом медленно прошел в другой конец вагона и, открыв дверь, выскочил из поезда.
Он вышел в самом конце платформы. Но решимость его выполнить задуманный план была так велика, что он каким-то чудом успел даже захлопнуть дверь за собой. Потом только он скатился кубарем. Когда он поднялся с земли, то был страшно бледен, разбит и едва мог перевести дыхание. Но он все же оставался спокоен и сохранил достаточное присутствие духа, чтобы дать нужные объяснения собравшимся вокруг служащим.
Он сказал, что жена его поехала в Бретань в умирающей матери, в страшно расстроенном состоянии, и что, стараясь утешить ее, он не заметил, как тронулся поезд. В ответ на общий вопрос, почему он лучше не доехал до Соутгамптона, чем рисковать жизнью, он ответил, что дома осталась с детьми молоденькая невестка, которая была бы вне себя от ужаса; он сказал также, что выскочил необдуманно, и, что, конечно, во второй раз такой глупости не сделал бы. Выйдя из вокзала, он не взял, однако, кеба, несмотря на то, что был богаче, чем когда-либо в жизни.
– Я лучше пройдусь, – сказал он с улыбкой предлагавшему свои услуги кэбмену.
Он долго, долго шел по улицам, скверам, площадям и, наконец, дошел до маленького мрачного с виду дома, перед которым расстилался маленький палисадник. Вынув из кармана ключ, он открыл дверь и вошел.
Он бросился, не раздеваясь, на кровать и пролежал с четверть часа. Потом он вдруг сел на кровать и, подняв колени, обхватил их руками. В таком виде он сидел до рассвета. Так же, как он умел блуждать часами, не выказывая усталости, так он умел и сидеть часами, не двигаясь. Когда в комнате стало совсем светло, он откинул голову на подушку. Глаза его обратились к потолку, потом вдруг закрылись. Товарищ Озипон заснул при ярком солнечном свете.
В большой, чистой, но убогой с виду комнате, где единственным предметом был большой шкап, с огромным замком – шкап, купленный профессором по случаю за гроши, – сидел у деревянного стола подле окна товарищ Озипон, обхватив голову руками. Профессор, в грязном, поношенном пиджаке и в истоптанных туфлях, шагал по комнате, засунув руки в карманы, и рассказывал о своем посещении Михаэлиса.
– Он, конечно, и понятия не имел о смерти Верлока. Он ведь никогда не читает газет. Я вошел к нему. В доме ни души. А он один сидит и пишет, окруженный кипой бумаг. На столе стоял остаток завтрака – несколько сырых морковок и немного молока. Он только этим и питается. И при этом – ангельские чувства. Убогость мысли поразительная. Не умеет логически рассуждать. Биографию свою он разделил на три части, под заголовками: вера, надежда, жалость. И теперь он разрабатывает идею мира, устроенного как большой красивый госпиталь, с садами и цветами, в котором здоровые и сильные будут ухаживать за слабыми. Подумайте, какое безумие. Слабые – источник зла; их нужно истреблять – вот единственный путь прогресса. Прежде всего, нужно уничтожить всю толпу слабых, а потом недостаточно сильных. Поняли? Сначала слепых, глухих и немых, потом хромых и так дальше. Все слабости, все пороки должны исчезнуть.
– Что же останется? – спросил Озипон сдавленными голосом.
– Я останусь, я достаточно силен, – сказал маленький профессор, и его большие торчащие тонкие уши вдруг побагровели.
– Мало ли я страдал от слабых? – проговорил он. – И все-таки я сила, – продолжал он. – Дайте мне только время проявить себя.
– Пойдемте выпить пива со мною к Силенусу, – предложил Озипон, и профессор согласился. Надевая сапоги и готовясь в уходу, профессор стал спрашивать Озипона, почему он сделался таким мрачным?
– Что с вами? – спросил он. – Вы уж даже приходите развлечься ко мне. Говорят, что вас часто видят в кабаках. Что же это? Отказались от женщин? Или, может быть, какая-нибудь из ваших жертв убила себя? Или, быть может, вам мало ваших успехов? Только кровь прикладывает печать в величию и победе. Это показывает история.
– Оставьте глупости, – сказал Озипон, не поворачиваясь к нему.
– Почему? Ну, да вас-то, Озипон, я презираю: вы бы мухи не убили.
Они сели на империал омнибуса и поехали по длинным улицам, глядя на толпы людей у своих ног.
– Конечно, нелепо превращать мир в госпиталь, – сказал Озипон, – как мечтает Михаэлис. Но в будущем все-таки править миром будут доктора. Люди хотят одного: жить. Вот вы все требуете, чтобы вам дать время примирить себя. А еще считаете себя сильным, потому что имеете в кармане средства отправить и себя, и еще двадцать людей в вечность. Но вечность – бездна. А вам нужно время. А если вы встретите человека, который сможет дать вам наверное еще десять лет жизни, вы охотно признаете его власть.
– Я ничьей власти не признаю, – сказал профессор в то время, как они спускались с омнибуса.
– Подождите, пока будете лежать, не будучи в силах двигаться. Посмотрите, что тогда заговорите.
Они сели за маленький столик у Силенуса и продолжали начатый разговор.
– Смешное у вас представление о человечестве, – сказал профессор. – Точно оно постоянно показывает язык и глотает пилюли по предписанию нескольких шутников с серьезными лицами. Не стоит пророчествовать такой вздор.
Он отпил пива и стал думать о том, как трудно действительно истребить несчетное количество людей, живущих на свете. Шум разрывающихся бомб проходит незамеченным среди идущей своим чередом жизни.
Озипон вынул из кармана смятую газету. Профессор поднял голову.
– Что это за газета? Что в ней есть?
Озипон имел вид внезапно пробужденного лунатика.
– Ничего, совсем ничего. Газете уже десять дней. Я, верно, забыл ее в кармане.
Но он не бросил старую газету. Прежде чем положить ее обратно в карман, он быстро пробежал последние строчки какого-то сообщения. В них сообщалось именно следующее: «Непроницаемая тайна навсегда, по-видимому, окутала этот странный акт безумия или отчаяния». А заголовок сообщения был такой: «Самоубийство путешественницы при переправе через канал».
Товарищ Озипон глубоко задумался над словами «непроницаемая тайна». Для человечества это останется тайной, но для него тайна эта была совершенно ясной. Он отлично знал все обстоятельства, знал, что пароходный служащий заметил около полуночи даму всю в черном, стоящую у пристани перед отплытием; она стояла в нерешительности; он спросил, едет ли она с этим пароходом, и провел ее на пароход, видя, что она совершенно не знает сама, что ей делать. Затем, служительница при дамской каюте, видя, что она беспомощно стоит посреди каюты, уговорила ее прилечь. Дама в черном не произносила ни слова. Видно, было, что она удручена страшным горем. Потом ее заметили в кресле на палубе, сидевшую с широко раскрытыми глазами, и вид у неё был такой, что служащие на пароходе стали за нею наблюдать и решили, по приезде в Сен-Мало, обратиться к консулу и вызвать её родных из Англии. Затем пошли отдать приказание, чтобы снести ее с палубы вниз, потому что лицо у неё было как у умирающей. Но товарищ Озипон знал, что за этой маской отчаяния скрывалась отстаивавшая себя страстная жажда жизни. Это знал он, но не пароходные служители. Когда они вернулись через пять минут за странной дамой, её уже не было: она исчезла. Через час спустя, на месте, где она сидела, найдено было обручальное кольцо с выгравированной датой. «Непроницаемая тайна окутала навсегда»… Товарищ Озипон поднял свою красивую голову. Профессор поднялся, собираясь уходить, но Озипон его остановил.
– Подождите, – сказал он. – Скажите, что вы знаете о безумии и отчаянии?
Профессор провел кончиком языка по сухим тонким губам и сказал поучительным тоном:
– В наше время таких чувств не бывает. Безумие и отчаяние – сила. А люди стали теперь мелкими, слабыми и неспособны на сильную страсть. Сила – преступление в глазах слабых людей, управляющих миром. Вы все – мелкие. Вы сами – мелкий человек. И Верлок, делом которого полиция не сумела воспользоваться, тоже мелкий. Безумие и отчаяние! Дайте мне эти два рычага, Озипон, и я сдвину с места мир. Но вы все неспособны на то, что жирный буржуа называет преступлением. Силы нет у вас.
Он остановился и прибавил с иронической улыбкой:
– И я должен вам сказать, что маленькое наследство, которое вы, говорят, получили, не сделало вас умнее. Вот вы сидите за пивом, как автомат. Прощайте.
– Хотите, чтобы я отдал вам все наследство? – спросил вдруг Озипон, взглянув на своего собеседника с бессмысленной улыбкой.
Неподкупный профессор только улыбнулся. На нем было отрепанное платье, стоптанные сапоги, пропускавшие воду. Он сказал:
– Я вам пришлю завтра маленький счет за очень нужные мне завтра химические составы. Заплатите за них, пожалуйста.
Озипон медленно опустил голову. Он был один. В уме его вертелась одна фраза: «безумие или отчаяние?»
Механический рояль проиграл какой-то задорный вальс и потом смолк.
Товарищ Озипон, по прозвищу «доктор», вышел из пивной. Газета с известием о самоубийстве дамы на пароходе лежала у него в кармане.
Он шел по улице, не глядя, куда, и хотя у него назначено было свидание с какой-то женщиной, но он пошел как-раз в противоположном направлении. Ему было противно подумать о какой бы то ни было женщине. Все ему опротивело, – работа, еда, развлечения. Он перестал спать и мог только пить. Но пил он теперь с какой-то надеждой на близость конца… «Безумие или отчаяние?» – неотступно мелькало у него в мозгу. Он шел могучий, здоровый, владеющий состоянием, унаследованным от тайного агента Верлока, – и ничто его не спасало. В уме неотступно носилась одна единственная фраза: «отчаяние или безумие»…
А неподкупный профессор шел своим путем, не глядя на ненавистную ему толпу людей. У него не было ничего впереди. Он все презирал. Он был только силой. Силой разрушения. Он шел слабый, невзрачный, в жалком, потертом платье, и страшный по простоте своих мыслей, призывающих отчаяние и безумие, как силы, которые должны возродить мир. Ни это на него не смотрел. Он проходил, неведомый и смертоносный, как чума, по улице, заселенной людьми.