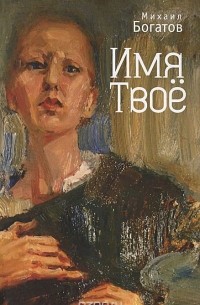Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Вступление
в котором мы знакомимся с Марфой и узнаем о том, как непросто она засыпает
И когда Марфа засыпает, мечтать она принимается не сразу. А когда она начинает, то даже не понимает почему мечты её разворачиваются в приятные общем-то картины, в коих она принимает самое внимательное участие, почему разворачивается то через вздох усталости и разочарования даже, ставшего уже обыденным, ведь и в самом деле, день закончился и вроде бы она жива и здорова, и сестра её в порядке, сестре свойственном, и маменька, и папенька живы и внешне даже являют благополучие для взгляда родственного, ближнего или просто завистливого стороннего, да и она, Марфа, не желает ничего особенного, научившись желать исполняемого лишь, о недостижимом даже не помышляя, и уютно, и тепло в постели ей её, но тем непонятнее, тем сильнее действует на неё грусть отрешающая, оказывает влияние своё неблаготворное, и лучшее её самое перед сном вдруг окрашивается в тона мрачные вздоха тяжёлого, и звучит всё с эхом тоски будто, даже самое фантастическое мечтание её укутывается в тени печальные, и чем диковиннее, тем ярче кайма обрамляющая мрака, чем ярче цвета в середине, тем натуральнее по краям тоскливое обрамление, не понимает Марфа что же с нею такое, и корила прежде себя за натуру свою, недовольство неблагодарное хранящую, но то прежде, а ныне стали отвращать её от мечтаний её тени тоски и печали невнятные, и вместо того, чтобы мечтать беззаботно, размышляет Марфа теперь: почему мечтать даже не смеет ныне о приятном беззаботно, и себя понять в отношении этом стремится вечер каждый, на безнадёжность усилий этих и безрезультатность повсеместную, утром блекнущую до глупостей вчерашних хандрических, несмотря;
и когда Марфа засыпает, не в царство грёз погружается она думами своими девичьими, а к грусти, все-все мысли её сопровождающую подспудно, нисходит она и из под спуда совлечь чары её желает, и намерения собственные, но себе же тайные на свет очей собственных вывести, и причины к состояниям своим меланхолически беспричинным отыскивает, но не верит в них зато, а в то что причин быть не может или неподвластны ей они, не думает даже, увлекаясь, и причины не отыскивая, внимание на всякой подворачивающейся мелочи сосредотачивая, зато зная уже наверное, и вечером подтверждается то непременно, что хандра её вечерняя не такая уж и вечерняя, она и днём никуда не девается, так лишь, задремлет под лучами солнечными, зато днём Марфа не помнит даже этого о хандре вечерней повсеместной, не распознаёт её нигде и вечером кажется ей, будто днём она просто забывает самое существенное в себе, а днём кажется, будто по вечерам она краски себе намеренно сгущает от делать нечего или вовсе об этом не вспоминает, а днём-то делать есть что всегда, и не может иначе разобраться Марфа с этим, знает лишь, что дневная деловитая и вечерняя печальная уживаются в ней завсегда, а кто из них главная и кого из них кому подчинить, не гадает даже уже, ведь дневная всегда отмахивается от вечерних печалей вчерашних как от старья отсыревшего перед лицом дня всегда нового и всерьёз ничего не принимает, а вечерняя решений принятых не помнит утром, и остаётся теперь, ко сну уходя, третья, недавно появившаяся, которую обе прежних приняли сразу, та остаётся, которая знает: не решить этого спора печали и забвения никак, и жить с ним приходится, и что ужасное самое: дальше придётся тоже и может быть хуже, и оттого как удерживается эта третья во все времена суток, немного странно ощущает себя Марфа, и догадываться начинает вполне уже о том, что же именно третья изначально в себе внесла в жизнь её расколотую надвое: и первая вечерняя, и вторая дневная, обе суть одно, и были и есть и будут до смерти её, и одно это зовётся третьей, а вот о последней ничего сказать нельзя и вопроса ей не поставить, говорит и вопросы задаёт только она сама, и ничего не поделать с этим уже, такая вот безысходность, и с нею спать приходится так верно, как ни с каким мужем жена никакая ни разу ещё не;
и когда Марфа засыпает, не видит она, как в мечтаниях прежняя ненужность её для людей других сказывается, и каждое мечтание из ненужности этой в растения диковинные и экзотичные вырастает, и цветами оргазмическими раскрывается само собой будто, да и как Марфе это увидеть, ежели так хороша она собой, что никто не называл её уродливой или дурной, кроме случаев, редких впрочем, когда сказывающие такое теми словами в бессилии её красоту завоевать признавались лишь, и так поражение своё отмечали нестыдно для друзей, а к ней, напротив, не относилось это тогда никак, и для неё, и для подруг её дневных комплимент это был и не иначе, и говорящий это знал, яростнее ещё распаляясь, и кожа Марфы гладкая и упругая, настолько, чтобы даже знающий Марфу хорошо как сестру, такой кожи коснувшись, возжелал её будто незнакомую, и тело её страстно настолько, что кажется ей иногда, будто никто телу такому не нужен сторонний, и само собой оно довольствоваться умеет, а именно такие тела самое бурное желание со стороны и вызывают, и груди её небольшие такие, что рука любая, их коснувшись, тут же воли супротив не отпустит ни за что, знает это Марфа о себе всё, но не замечает каким всё это негодным в одиночестве хламом делается, все желания эти к ней, все прикасания и взгляды, среди людей будто назойливые мухи, успевай лишь отмахиваться то и дело, и Марфа отмахивается и в отмахивании таковом поднаторела, и редко кто цели достигает, но в одиночестве любое касание цели достигшего чуть ли не чудом вспоминается завсегда, и знает Марфа о себе людской желанной и неприступной, и догадываться уже начинает о себе одинокой и ненужной, и не может примирить этих двух, людская неприступная воли супротив в кокетствах игривых расплывается, одинокая ненужная хоть о ком, о любом, мечтает нежном, но неприступная смеётся на людях над ненужностью девичьей, а ненужная до того бессилием наполнена, что даже и не помышляет до себя боль свою донести и лишь жалеет неприступную ненужная, и себя в ней оплакивает, и сказать при всех не может, как никакая красота её ни на что не годится, и сыта ею не бывает она в одиночестве, а давится лишь, как ничтожны все эти ужимки и уловки, к себе заманивающие, оттолкнуть чтобы лишь сразу же, как они самоубийственны и унижают одинокую, и плодят лишь ненужность её, а одиночество гордостью не насытить, и самоудовлетворением не удовлетворить, и неприступностью перед одиночеством не похвалиться, аргумент жалкий, и пора бы уже не думать о том как о тебе другие подумают, коих в одиночестве рядом никогда не оказывается, а вот ненужность потоком нескончаемым во все поры кожи красивой и тела желанного другими наполняет Марфу, и ко дну печали безысходной тащит, а на дне том много рытвин и ухабов, и надежд затонувших и мечтаний детских несбывшихся, тайн и страхов собственных обретается, и не сказать желанной людьми себе дневной: пойдём со мной хоть раз, на дно наше, одинокая одна Офелией там бродит, всё чаще и чаще, и вновь и вновь узнаёт знаемое, и рыдает в подушку, от маменьки своей обряд нехороший сей перенимая, в то время как людская дневная всё более хохочет, глазки строит прекрасные умело и миленькие улыбочки всем подряд раздаёт;
и когда Марфа засыпает, начинает она охотиться за той дивной людской, ей вечерней одинокой не внимающей, и находит её тут как тут в мечтания диковинные погружённую: идёт Марфа дневная по Лос-Анджелесу какому-нибудь в туфлях красивых на каблуке высоком, по залитому солнцем непыльному тротуару, и в руке держит пакет бутиковый, где пеньюар нежнейший цветочный только что купленный обретается, идёт она к машине своей и во взглядах встречаемых людей даже зависти не усматривает: настолько она счастлива в безмятежности своей, настолько другие тоже счастливы и красивы счастьем своим, ей подобно, и никакого намёка на несчастье и бедность и злость от нищеты нет во взглядах их, её взгляд и их, встречных, все открыто смотрят и улыбаются, они все как одно целое, и она с ними там же, отзывчивые и благотворительные, но здесь они лишь покупают вещи красивые и дорогие для любви своей, и лишь если кто из них о помощи попросит, они все, и она тоже, поможет ему, конечно, бедолаге, но все знают и верят в то, что никто здесь в помощи не нуждается, и оттого легче на других глядеть, и оттого счастливее каждый здесь делается, а затем путь на машине с верхом открытым, когда ветер тёплый волосы ей развевает, нежно щекотит по шее обнажённой волосами её шелковистыми, и по плечам под тканью тончайшей, а машина вдоль побережья с левой стороны морского гладью солнечно-бирюзовой сверкающего разворачивается, и по эту сторону тротуар людьми беззаботно загорелыми и не специально красивыми полнится, они ей приветливо машут, и она им в ответ улыбается, очки тёмные на кончик носа сдвинув слегка, по правую сторону магазины с вещами дорогими, но красивыми, и с кафе под зонтиками пёстрыми для купающихся, где пьют они коктейли прохладные и о любви говорят на свиданиях долгожданных или случайных, и никакой России чтоб убогой здесь не мелькнуло, и дом на холме белый тогда встретит её воротами автоматическими, и снова вежливый пожилой садовник, отца ей её напоминающий, снова восхищённо скажет, что госпоже лучше всё-таки пользоваться услугами шофёра, на что она ответит, весело смеясь, это такое ритуальное приветствие между ними, ответит, что предпочитает сама водить машину, что ей это нравится, и садовник в шутку упрекающе закивает головой, молча поклонится и отойдёт снова вглубь сада её великолепного, а она душ примет, прохладных апельсинов выжмет в сок себе освежающий, и теперь время в бассейне поплавать, в саду расположенном, из коего вид открывается на гладь морскую бесконечную, но тут Марфа одинокая себя прерывает и, кажется, рушится всё;
и когда Марфа засыпает, она спрашивает у так мечтающей: а как же я, и не говорит ничего больше, и досаду испытывает, и в молчании длительном, в комнате, сумраком окутанной, в постели, теплом уютным пододеяльным согретая, неизвестно кто уже, какая из них, говорит: быть знаменитой и любимой, что в этом плохого, но ответа нет, и тогда поправляется Марфа: быть богатой и любимой, что в этом плохого, а любимой и небогатой, будто спрашивает тишина комнатная с изредка доносящимися из окошка издалека проезжающими машинами, тогда всё как в России будет, а я не хочу как в России, а что там нет бедных, не в России, хорошо, сдаётся на милость молчания, давящего своим упрямым сопротивлением и клонящего неизвестно к чему, мне всё равно где, но быть любимой так, чтобы бедность не мешала любви моей, и теперь молчание долгое, и не спрашивает уже ни о чём вовсе, и даже не кажется, будто спросить желает, но Марфа не вытерпливает, отвечает: нет, любовь не может длиться изолированно, но почему она не может, ведь любовь может всё, нет не может она всего, если Бог, Бог любовь, то Он может всё, а сама по себе безбожная она ничтожна, слышишь, Марфа, ничтожна, но Марфа не желает слушать, хотя и знает, что это правда, и что дневная в мечтах солнце тем ярче представляет, чем яростнее от одинокой хочет избавиться и заглушить её вопросы, и каблуков таких она никогда не надевала, да и надеть не сможет на людях реальных, лишь вымышленных;
и когда Марфа засыпает, она продолжает мечтания свои без энтузиазма прежнего, она в новом пеньюаре и входит в спальню к ней Он, и она даже не хочет видеть Его лица, и знать о Нём ничего-ничего не желает, кроме двух вещей, Он пришёл к ней, потому что её любит, и это именно Он, а не кто-то другой, но если Он здесь она и так это всё уже видит исполненным, всё это уже сложилось, если уж она это знает и лежит здесь, и потому она к Нему спиной лежит, и это здорово, что можно вот так вот быть здесь себе спокойной и затаённой одновременно, а там, позади, Он глядит на неё с желанием и некоторым опасением отказа, но желание побеждает, и Он к ней приближается, она Его не видит, и хотя ждёт, но всё равно неожиданным оказывается вдруг Его касание к плечу её;
и когда Марфа засыпает, она сама не ведая как, начинает под простынёй ласкать себе грудь, сначала двумя руками, но она этого не памятует, а затем уже одной рукой, потому как другая водится сама собойно по живота её глади и вниз готова спуститься уже вроде, но теперь Марфа останавливает себя не без трепета, а со стороны ещё и усмешку даже на лице своём клейко нацепленную видит будто: считаешь это недостойными фантазиями, спрашивает тишина Марфина у Марфы, а какие фантазии достойны были бы внимания твоего высочайшего, быть богатой глупой романтичной дурой плохо, хорошо, но быть не дурой лучше почему, скажи мне, почему, не потому ли, что все вокруг глядя на тебя дуру скажут: дура, а глядя на не дуру, скажут: не дура, да, но ни дуре, ни не дуре до окружающих дела нет особого, первая занята своими глупостями, вторая своими умностями, а ты, если ты думаешь об этом и себе сама мешаешь, не мнишь ли ты себя выше ума и выше глупости, или даже вне, по ту сторону, так сказать, но что это за сторона, знаешь, нет, чего же молчишь, а;
и когда Марфа засыпает, странно сменяются её мысли о фантазиях недостойных самими фантазиями недостойными, а руки её и тело её то удовольствие извлечь взаимно устремляются, а то покоятся как ни в чём ни бывало, и ежели кто спросит Марфу, мечтает ли она сейчас, и да и нет можно сказать, ласкает ли себя она, и да и нет можно сказать, и если кто спросит Марфу первое или второе, то в ответ она либо спящей притворится, либо ответит: а вам какое дело, и это зависело бы от того, кто именно спросит, и она снова о таком именно Нём мечтает уже, и ласкается, и вопросы неприятные задаёт, но помнит пока ещё, что никто не спросит её ни ласково, ни грубо, ни нежно, ни площадно, ни лирично, ни комически, а потому мечты её хоть и завлекают, да снова в тенях мрачных за светом их манящим маячат тоски унылые фигуры, но не смотрит она на них, и видит она их, и всё это сразу же;
и когда Марфа засыпает, в мечтаниях её Он именно и никто другой касается, а мечты прерванные вопросами неуместными, со стороны тишины шелестящими, выглядят уже не увлекательно, будто запах какой из мира исчез насовсем, а всё прежним осталось, и никто в мире всём о запахе том исчезнувшем не ведает и не ведал никогда, а кто ведал, тот не заметил, упустил невнимательно, и одна лишь Марфа по миру этому бродя, о запахе исчезнувшем помнит, и не исчезни запах этот, она до старости почётной и смерти спокойной через жизнь всю о нём не вспоминала бы, и даже не ведала о том бы, что жизнь её спокойна оттого, что в мире где-то есть что-то пахнущее так-то, а теперь, когда это исчезло, жизнь обеспокоилась, стала угнетать себя, и вроде ничего бы, всё как и прежде, ан нет, нет где-то этого запаха и вещи этой нет, и потому о ненужности этой постоянно помнить приходится, и необходимости черты она приобретает, и манит уже невыносимо, и тяжким делается всё остальное, прежде надобное, а ныне избыточное, и тогда понимает Марфа, что дело не в запахе этом поганом, ведь это запах мочи кошачьей быть мог, скажем, нет, не в запахе дело всё, а в полноте этого всего, и любая мелочь несущественная и ненужная полноту эту собой крепит, и какие глупые те, кто желает мир этот улучшить, от лишнего чего-то его избавив, об этом иногда перед сном Марфе тоже мысли приходят, но теперь фантазии остановленные мыслями, вернуться в них если, вдруг оказываются как бы запаха этого мочи кошачьей лишены, и хоть в фантазиях даже не было намёка на кошачье присутствие, и намёка не было на наличие отходов жизнедеятельности кошачьей, а мир фантазий распадается прямо-таки, и всё то в нём и не то уже, и тогда Марфа усложняет мир этот, возгоняет воображение и руки свои в интенсивность приводит, как раз от утраты силы фантазий возбуждающих, а не от возрастания оной, появляются любые элементы новые, лишь бы целостность вернуть былую, вопросами испорченную и печалями затенённую, как утром встаёшь, сон хороший прервав, который сам по себе снился, и силишься его вернуть, снова улёгшись спать, и не можешь, и всё, само собой что приходило во сне, насильно туда пихаешь, а запихнуть уже не удаётся, и не может также Марфа в мир фантазий своих вернуться, ибо целость его не она придумывала, не в силах она к тому и никто, кроме Бога не в силах, она лишь оказывается там случайно, но во всём сразу готовом, и единственное, на что способна она, это портить целость не ею созданную намерениями и вопросами своими, сомнениями и даже тишиной своею, и говорит Марфа вслух, хотя и тихо: всегда я всё порчу, всегда у меня всё так, и вздыхает тяжело, и фантазию искусственно выглядящая, ныне ещё бледнее делается оттого, и ещё больших спецэффектов требует, и в тягость она уже невероятную Марфе, а сна нет, и разрешения ещё не наступило хоть какого;
и когда Марфа засыпает, царапать принимается, что сил имеется, воображение своё, под гнётом другой Марфы изнывая, и кажется Марфе засыпающей будто та, другая Марфа, глядит на неё, эту: руки на груди скрестила и усмехается, и говорит она себе: ну почему ты всегда мне всё портишь, почему я себе сама всё порчу, и стыдно становится ей за фантазии свои, из-под надзора романтического ушедшие невесть куда, и теперь в доме её идиллическом, на берегу океана который, уже неразбериха начинается какая-то, даже непотребщина рода всякого: хотят её ныне не Один и Тот Самый, а множество случайных, хватают они её за тело повсюду, и уворачивается она от них, извивается покуда сил достаёт, но они не отступают, насилуют её по-разному, другую Марфу отгоняя, игнорируя взгляд её укоряющий; разрешается Марфа оргазмом от бремени ласк обременительных ставшими, и тут же преображается весь строй мыслей её, и, хотя тело распалённое жаждет продолжения, но нет, Марфа теперь не такая уже;
и когда Марфа засыпает, говорит она себе: нет, я готова продолжать диалог с Марфой другой укоряющей, но нет никого здесь, одна лежит она, и не было никого с начала самого; ну и замечательно, со вздохом говорит Марфа, не без удовольствия в голосе, тем не менее, я и была одна всегда;
и когда Марфа засыпает, молитву читает она про себя: отче наш, и старается ни о чём более не думать, да святится имя, глаза закрывает она и на бок поворачивается, да приидет царствие, и думает о Боге она тогда, даждь нам днесь, ничего не прося у Него, остави нам долги наша, но лишь благость в Нём усматривая, себе самой достаточную, не введи во искушение, и перед тем как в сон провалиться: не постепенно войти, будто в чертог ей уготованный, но с обрыва невысокого в воду тёмную реки какой прыгнуть, дна не ведая, ибо Твоё есть царство, во имя Отца, чудится ей: никакая она не Марфа, во имя Сына, и кто она такая не ведает она уже, во имя Духа Святого, и быть она может кем угодно, и жутко и спокойно ей делается от молитвы этой ею же досочинённой, аминь, но спит она уже; и когда Марфа засыпает, начинают ей сны снится.