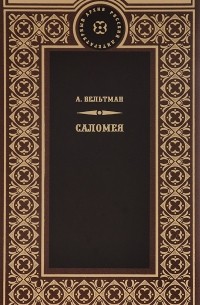Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Часть девятая
Кому любопытно знать дальнейшие приключения бедного Прохора Васильевича, Авдотьи Селифонтовны и Лукерьи Яковлевны, тому предстоит читать следующее:
Вы помните, что случилось с Авдотьей Селифонтовной? На другой день, чем свет, снова послышался визг Авдотьи Селифонтовны. Нянюшка всполошилась бежать к ней на помощь, но девушки остановили ее.
– Ну, куда вы бежите, Афимья Ивановна?
– Нянюшка, нянюшка! – раздалось из спальни, и вслед за этим криком послышался стук в двери девичьей.
– Сударыня, что с тобой? – спросила испуганная няня, отворив дверь.
Авдотья Селифонтовна, как полоумная, бросилась к няне.
– Господи, да что с тобой?
– Нянюшка, – проговорила Авдотья Селифонтовна, дрожа всем телом, – нянюшка! кто-то чужой лежит там, охает да стонет, говорит что-то страшное… Ах, я так и обмерла…
– Голубушка моя, Дунюшка, помилуй, бог с тобой! Откуда чужой взялся? Не узнала своего Прохора Васильевича!
– Ах, что ты это, какой там Прохор Васильевич! Это бог знает кто!..
– Пойдем, пойдем!..
– Нет, я ни за что не пойду!
– Кому же быть, как не Прохору Васильевичу?
– Да, да, посмотри-ко, ты увидишь.
– Ах, молодец, как он нализался… сам на себя не похож!.. кто бы подумал! – проговорила про себя старуха, посмотрев на лежащего Прохора Васильевича.
Он горел, как в огне; глаза навыкате, что-то шепчет да ловит кого-то руками.
– Вот тебе и графчик, – проговорила опять старуха про себя.
– Ох, надо сказать поскорей Василью Игнатьевичу.
– Куда? Нет, я тебя не пущу!
– Ах, мать моя, да что же мне делать? Надо позвать Василья Игнатьевича… Эй, девки!
– Нянюшка, поедем домой! Меня обманули!..
– Эй, девушки. Где тут слуга-то его. О, господи, божье наказание!
Старуха металась во все стороны, но ее дитятко, Авдотья Селифонтовна, повисла ей на шею и ни шагу от себя. Плачет навзрыд и молит, чтоб ехать домой.
– Помилуй, сударыня, что ты это, бог с тобой!
– Меня обманули! – вопит Авдотья Селифонтовна, – это какой-то оборотень.
– Ах, да вот, Матвевна! Матвевна, подь-ко сюда!
– Что это такое, сударыня, Авдотья Селифонтовна, что с вами? – сказала сваха, испугавшись, – в чем дело? О чем это вы?
– Меня обманули! – повторяла Авдотья Селифонтовна.
– Смотри-ко, какой грех, что делается с Прохором-то Васильевичем, – сказала старуха няня, – сам на себя не похож, так что барыня моя отказалась от него, твердит себе, что это не он.
– Да, таки не он: это черт, а не он. Ах, господи, господи! Что со мной будет!
– Что это с ним сделалось? – проговорила Матвевна, стоя над Прохором Васильевичем, скрестив руки. – Ох, кто-то испортил его, совсем таки не похож на себя!..
– Неправда! меня не обманете! Это не он! – повторила Авдотья Селифонтовна.
– Вот уж, кому ж другому быть, сударыня, – сказала Матвевна, покачивая головою.
– Ах, что-то ты страшное говоришь, Триша! – произнес вдруг Прохор Васильевич и повел кругом неподвижный взор. – Лукерьюшка… Тятенька не убьет меня?
– Бог его знает, что с ним сделалось, и не признаешь… Кажется, вчера был здоров, – сказала Матвевна, продолжая качать головою.
– Ну, уж, угостила графчиком, Матвевна! Уж я вчера догадалась, что он мертвую чашу пьет! Как тянул, как разносили шампанское-то… так и опрокинет в рот сразу… вот-те и графчик!
– Ах, мать моя, да я-то чем виновата? наше дело товар лицом показать; а кто ж его знает, какие художества за ним водятся, – отвечала Матвевна.
А между тем не прошло нескольких минут, около Прохора Васильевича набралась тьма народу. Сбежалась вся дворня посмотреть на испорченного. Конон стоял тут же, дивился, как будто ничего знать не знает, ведать не ведает. Начались толки шепотом, аханья, кто советовал вспрыснуть водицей с уголька, кто послать за Еремевной: она, дескать, отговаривает порчу, а дохтура-то, дескать, в этом деле ничего не смыслят; оно, дескать, не то что какая-нибудь простая болесть господская, мигрень, али что; нет, тут без заговору не обойдешься.
Авдотья Селифонтовна во все время ревом ревела и упрашивала нянюшку ехать домой; но нянюшка, как смышленый человек, говорила, что это не приходится.
Между тем ключница Анисья побежала к Василью Игнатьичу.
– Батюшка, Василий Игнатьич, – крикнула она, всплеснув руками, – с Прохором-то Васильевичем что-то приключилось.
– Что такое? – спросил он, уставив на нее глаза.
Василий Игнатьич только что протер глаза и сидел в своем упокое, в халате.
– А бог его ведает, – отвечала Анисья.
– Что ж такое? – повторил он.
– Подите-ко, посмотрите!
– Да ты говори! Что мне смотреть-то? Не видал, что ли, я его? – крикнул он, – ну, что тут могло приключиться?
– Ох, сударь… его испортили!
– Испортили?
– Как в огне лежит, и узнать нельзя. Страшно смотреть!
– Ой ли? Что ж это такое? – проговорил Василий Игнатьич, не двигаясь с места и снова уставив глаза на Анисью.
– Да что вы уставили глаза-то, прости господи! Подите к нему.
– Да пойду, пойду.
И Василий Игнатьич с некоторой досадой, что его потревожили, погладил бороду, крякнул и пошел.
– Это что за народ собрался? – крикнул было он, входя в спальню, где в самом деле набралось и своих и чужих смотреть на диковинку, как испортили молодого; но все перед ним расступились. Василий Игнатьич вздрогнул, взглянув на сына, и онемел: на его доброе здоровье и на воображение слова мало действовали, он понимал только то, что было очевидно.
Прохор Васильевич лежал, как пласт, с открытыми неподвижными глазами. Внутренний жар раскалил его.
– Что, брат Прохор, – начал было Василий Игнатьич, но остановился в недоумении: ему показалось, как говорится очень ясно по-русски: «что-то не тово». Но что такое это было, он сам не понимал.
– Что ж это такое? – проговорил он, продолжая всматриваться в Прохора Васильевича.
– Ох, испортили, испортили! – проговорила сваха Матвевна, положив голову на ладонку и подперев локотком, – да и Авдотья-то Селифонтовна что-то не в себе: словно полоумная вопит, что это вот не Прохор Васильевич, а чужой, говорит. Господи ты, боже мой, говорю я ей: грех так не признавать супруга своего; ты, сударыня моя, привыкла видеть его все в немецкой одеже, а в своей-то и не узнаешь.
– Да и я говорила, – прибавила стоявшая подле Матвевны баба, – и я говорила: ступай, дескать, сударыня, поплачь лучше над ним; а то, вишь, к здоровому липла, а от больного прочь!.. Да еще кричит: домой да домой!
Долго Василий Игнатьич стоял над сыном в недоумении; наконец, наклонился над ним и сказал:
– Что с тобой, брат Проша? а?… А где ж молодая-то? – спросил он, вдруг спохватившись.
– Да ушла, ушла в другие упокой, и быть здесь не хочет: боится, что ли, или одурела; говорит, вишь, что это не Прохор Васильевич, а чужой.
– Вот!.. что она, с ума спятила? Уж я сына не признаю!.. Черт, что ли, какой меняет лицо… вот родинка на груди… Ох, господи, да что ж это с ним такое?…
– Известно что!.. порча! – отвечала Анисья. – Послать бы еще за Еремевной, что ж это она нейдет?… Расспросили бы вы, Василий Игнатьич, молодую-то, как это все вдруг приключилось: кому ж знать, как не ей.
– Где она! подавай ее!
– Где! ушла да вопит, ни за што сюда нейдет.
– Вот! – проговорил Василий Игнатьич, – где ж она?
– Да в девичей: домой да домой!
Василий Игнатьич пошел в девичью. Там Авдотья Селифонтовна сидела на коленях у своей нянюшки, обхватив шею ее руками и приклонив на грудь голову.
– Что ж это такое, Авдотья Селифонтовна? – сказал Василий Игнатьич.
Авдотья Селифонтовна, вместо ответа, всхлипывала.
– Василий Игнатьич пришел, сударыня, – сказала няня.
– Что ж это такое, Авдотья Селифонтовна, каким же это манером?… – повторил Василий Игнатьич.
– Да отвечай же, сударыня… Ох, да уж и не спрашивайте ее: она до смерти перепугалась; сама не знает, что приключилось Прохору Васильевичу.
– Как бы не так! – проговорила, всхлипывая, Авдотья Селифонтовна.
– Так изволь же сказать, что такое случилось с моим Прохором?
– Обманули меня, вот и все! – крикнула Авдотья Селифонтовна, приподняв голову с сердцем, – черта на подставу взяли, да меня не обманете!
– Что ты это говоришь, сударыня! Ох-о-хо, кто-то испортил свадьбу!
Василий Игнатьич почесал в голове и вздохнул.
– Наказание божеское! – проговорил он, – ох-о-хо! за кем бы послать?… Послать разве за Селифонтом Михеичем и Марьей Ивановной?…
– Да за дохтуром-то бы послали, – сказала няня, – прописал бы лекарствица Дунюшке; сердце так и колотит, и голова словно горячий уголь.
– За дохтуром? – спросил Василий Игнатьич, – за дохтуром!.. Боюсь, совсем уморит!..
Василий Игнатьич был совершенно растерзан. Голова ли у него болела от заздравного вина на свадьбе сына, или перепугала его болезнь Прохора Васильевича, только он был весь не свой, и как назло, покуда послал за доктором и успел дойти до спальни, где лежал больной, случилась новая беда, точно как deus ex machina154, столь обыкновенный в море житейском.
Мы уже сказали, что и домашняя челядь и все соседки, сбежавшиеся смотреть на свадебную порчу, решили общим сове-том послать скорее за Еремевной. Ее ждали с нетерпением.
– Поди-ко-сь кто-нибудь, посмотри, не идет ли Еремевна, – повторяли по очереди то Анисья, то Матвевна.
У ворот скопилась целая толпа посланных встречать ее.
– Вот, вот, не она ли идет, торопится? – крикнули девушки, увидав подходящую женщину в шелковом, но уже стареньком холоднике155, с накрытою платком головой.
– А что, голубушки, – спросила она, – это, что ли, дом Василья Игнатьича Захолустьева?
– Это, это! – крикнули в голос девушки, – пожалуйте сюда!
– А сынок-то его, Прохор Васильевич, здесь?
– Здесь, здесь! Давно уже вас ждет.
– Ой ли? Ах, голубчик!
– Бог весть что сделалось с ним: говорят, порча.
– Ах, что вы это говорите!.. Что с ним? Где он, где, голубчик мой! – вскричала женщина, побледнев как смерть.
– Сюда, сюда пожалуйте.
– Где он, где? – повторяла женщина, вбегая в спальню. Толпа раздалась перед нею.
– Прохор Васильевич! голубчик мой! – вскричала она и бросилась на больного почти без памяти.
Все стояли молча, как будто в ожидании чуда. Несколько мгновений продолжалась тишина.
– Что ж это такое она делает? – спросила, наконец, Анисья соседку Ивановну.
– А вот постой, – отвечала та.
– Еремевны-то нет дома, – сказал запыхавшись приказчик, Евсей Савельич, вбежав в спальню.
– Tс! Она уже здесь.
– Прохор Васильевич! душенька! – вскрикнула женщина, приподняв голову и взглянув на больного. – Душенька! ты ли это? Что с тобой? что с тобой? – И она снова обвила Прохора Васильевича и начала страстно целовать его, заливаясь слезами.
– Дарьюшка, что это она, с ума, что ли, сошла?
– А вот постой, постой, молчи!.. вишь, приласкать хочет сперва.
– Ах, мать моя, да это не Еремевна! Еремевну-то я знаю; это какая-то другая.
– Да ты знай молчи уж, послушай, что она причитывает. Между тем Василий Игнатьич послал за доктором, который жил через дом.
Доктор немедленно явился.
– Пожалуйте, – повторял Василий Игнатьич, провожая его в комнату сына, – пожалуйте!
– Что такое сделалось с ним? – спросил медик, расталкивая толпу.
– Да вот, – проговорил Василий Игнатьич.
– Душенька! – вскрикнула снова женщина.
Прохор Васильевич пошевелил головою, открыл глаза и вздохнул.
– Позвольте! – сказал медик, подходя к постели, – позвольте! – повторил он, взяв женщину за руку.
– Эх, батюшка, Василий Игнатьич, к чему вы призвали лекаря-то, – сказала вполголоса Анисья, – ведь вот уже лекарка почти отговорила его, смотрите-ко, уж очнулся.
– Голубчик ты мой, душа моя, взгляни-ко ты на меня! Ведь я с тобой! Узнаешь ли ты свою Лукерьюшку?… Прохор Васильевич!
– Позвольте! – повторил медик, – отведите, пожалуйста, эту женщину: она только тревожит больного.
– Да кто ж ее отведет? – сказала одна из соседок, – она, чай, свое дело знает; делает, что нужно… Не мешать бы ей, так лучше бы было… на порчу-то нет лекарства!..
– Позволь, милая!.. – сказал медик с сердцем. – Поди, пожалуйста, прочь!..
– Я прочь от него? Нет!.. – сказала Лукерья Яковлевна, оглянувшись на медика, взором полным слез.
– Что это, жена больного? – спросил медик.
– Разумеется, что жена, – отвечала она жалобно, – кому ж быть-то мне, как не жене его? Кто будет умирать-то над ним, как не я?… Прохор Васильевич, голубчик, душенька!
– Это что же такое, – спросил Василий Игнатьич, совсем растерявшись, – Матвевна! Это Авдотья Селифонтовна?
– Ох, бог с вами, что вы это, Василий Игнатьич!
– Это какая-то безумная, что ли; смотри, пожалуй! Величает себя женой Прохора Васильевича! Да кто ее привел сюда?
– А бог ее знает, кто-нибудь да привел.
– Позволь, моя милая, – начал опять медик, – ему надо поскорей помочь; а не то ведь он умрет.
– Умрет?… Ах, господь с вами!.. – вскрикнула Лукерья Яковлевна, – да вы кто такой? Лекарь, что ли?
– Лекарь, милая.
– Так помогите! помогите, пожалуйста, уж это не в первый раз с ним; о великом-то посте тоже с месяц без памяти пролежал…
– Да ты кто такая, голубушка? – спросил вдруг Василий Игнатьич, как будто очнувшись и дернув за рукав Лукерью Яковлевну.
– Да жена же его, – отвечала она смиренно, отирая рукавом глаза, – с год пролежал больной, поправился немного, да и вздумал идти сюда: пойду, говорит, к тятеньке; да и пошел… а я осталась; жду день, другой – нет! Я и перепугалась…
– Ах ты, господи! да это что такое! Поди-ко, поди, пошла нон!.. – крикнул Василий Игнатьич, – вишь, со всех кабаков пода сбежались!.. Вон! Гони, Евсей, всех их!
– Да что ты, господин, с чего ты взял, что я пойду от мужа?…
– Ну, ну, ну! вон! Евсей, вытолкай ее!
– Меня вытолкать? Да с чего ты взял, разбойник! Чтоб я оставила мужа на чужие руки!
– Смотри, пожалуй! Ах ты паскудная! Да откуда она взялась? Ведь это черт принес какую-то безумную! Смотри, пожалуй, что она говорит! Да вытолкайте ее!. Ну, ну! вон! – повторял Василий Игнатьич.
– Прохор Васильевич! голубчик! Смотри-ко, выгоняют меня!.. Нет, уж этого не будет! – И Лукерья Яковлевна, отбившись от Евсея, который потащил ее за руку, бросилась снова на кровать и обхватила больного.
– Да что ж это за женщина? – спросил медик.
– Безумная какая-то, черт ее принес!.. – сказал Василий Игнатьич, – тащи ее, тащи ее, Евсей, вон!
– Да кто с ней сладит!.. Черт! потревожишь только больного Прохора Васильевича, – отвечал Евсей.
– Да ты сбегай скорей за будочником: скажи, что какая-то пьяная али безумная затесалась да подняла тревогу, – навела на ум Матвевна.
Лукерья Яковлевна, ни на что не обращая внимания, села на кровать и смотрела в глаза Прохору Васильевичу, обливаясь слезами. Только что он пошевельнется, охнет, откроет глаза и пыхнет внутренним одолевающим его жаром, «Родные мои, подайте водицы, испить ему!.. – начнет молить она ко всем стоящим подле кровати, – ох, я бы сама побежала, принесла, да боюсь… отнимут тебя у меня!.. Дайте ему водицы во имя Христа господа!»
Но ее мольбы прерваны были приходом хожалого с будочниками.
– Где она?… – крикнул хожалый.
Напрасно Лукерья Яковлевна вцепилась в Прохора Васильевича: ее потащили вон из комнат, потом к воротам…
– Эй! извозчик! подавай сюда!
И вот взвалили беспамятную Лукерью Яковлевну на калибер156, и повезли в часть.
– Господи, господи, что это такое творится в доме! – повторяли, скрестив руки, Матвевна и Анисья, рассуждая между собой и со всей остальной челядью.
Все ахали.
Медик решил, что у Прохора Васильевича воспаление, прописал рецепт, пожал плечами, выслушав рассказ, как все случилось; попробовал пульс Авдотьи Селифонтовны, сказал, что «ничего, просто испуг, пройдет!..», прописал успокоительное и уехал.
Василий Игнатьич долго ходил по комнатам, как потерянный, пришел было в себя, когда явился приказчик с деньгами с почты, занялся было счетами; но доложили, что пожаловали Селифонт Михеич и Марья Ивановна.
Начались рассказы, ужасы, аханья, слезы Авдотьи Селифонтовны, вопли, что ее обманули, что она не хочет здесь оставаться, что она умрет, если ее не возьмут домой.
Селифонт Михеич стоял, слушал, гладил бороду, потирал лоб и молчал, а перепуганная Марья Ивановна повторяла на вопли Дунечки: «Что ты, что ты это, Дунечка! Бог с тобой! Пригодно ли такие вещи говорить!»
Когда все пошли в комнату к больному, Авдотья Селифонтовна сказала, что ни за что не пойдет; но отец грозно проговорил:
– Это что?
– Ступай, сударыня, не гневи родителей, – сказала ей няня.
– Господи! как вдруг переменился! – проговорила Марья Ивановна, взглянув на Прохора Васильевича, который лежал в забытьи.
– Что ж, матушка, известное дело: болезнь хоть кого переменит, – сказал Селифонт Михеич.
– Вестимо, что здоровый не то, что больной; я сам как будто поусомнился, диво ли, что Авдотья Селифонтовна не признала.
– Вот, уж не признала; ведь она так только говорит, Василий Игнатьич; вы не извольте обижаться, – сказал Селифонт Михеич, – кто ж отрекается от живого человека.
– Да! отрекается!.. Черт это! – проговорила вполголоса Авдотья Селифонтовна, спрятав свою голову почти под мышку матери.
– Tс!.. Полно!.. – шепнула ей Марья Ивановна. – Ох, бедный, бедный!.. – прибавила она вслух, – в самом деле словно другой человек!
– А я так рассуждаю, – сказал Василий Игнатьич, – что здоровый-то человек не то, что больной. Вот я теперь ведь и нижу, что это Прохор, вылитый Прохор; а как возвратился он из чужих краев да понабрался французского духу, так, признательно вам сказать, ей-ей, не узнал, поусомнился: Прохор, думаю, или нет? Вот что значит, сударь мой, манера-то французская! Совсем ведь другой человек! Истинно скажу! И походка-то не своя, и говорит-то как будто на чужой лад, и ходит-то не так, как люди; да словом, изволили бывать в театре?
– Никак нет, Василий Игнатьич, – отвечал Селифонт Михеич, – ох, уж до театра ли!
– А вы, Марья Ивановна?
– Не привел бог!
– Жена! сказала бы ты: избавил бог! Бог, что ли, водит смотреть на эту дьявольщину?
– Эх, Селифонт Михеевич! Да ведь это только так представляется. Ну, да что об этом! Так вот, я и говорю: и Проша-то словно актер; кажется, русский человек; а как нарядится да прикинется немцем али французом, и черт не узнает! Примерно сказать Живокини157: как нарядится китайцем – китаец да и только! ей-ей!.. То же и с моим Прошей было; так подделался, собака, под французскую стать – графчик, да и всё тут. Я так рассуждаю: что человека-то меняет французская манера; а вот как болезнь-то прихватит, знаете, так оно и мое почтение-с! Куда денется и французская дурь. Так ли, Селифонт Михеич? как вы думаете?
Селифонт Михеич стоял и думал: «Что тут думать-то? Божеское наказанье, и тебе, да и мне тут же!»
– А? вот оно что: я и сам смотрю на Прохора да дивлюсь.
– Ох, Василий Игнатьич, – сказал Селифонт Михеич, – бог посылает и беду и недуг на исправление человеку. Дай-то бог, чтобы и Прохору Васильевичу послужило это в науку. Оно, знаете, и хорошо, павлиные-то перья, да… Что тут говорить! Не наряжали бы в них вы сынка, а я дочку, так дело-то было бы лучше… Да вот еще что, сударь: сынок-то ваш, проговорилась мне жена, купил французское поместье да хочет туда переселиться… Нет… уж, извините, я дочери не дозволю ехать туда, не дозволю!
– Что так, то так, Селифонт Михеич. Проша приценился к поместью, а я и деньги дал в задаток; поместье наше, – сказал Василий Игнатьич, поглаживая бороду, – французское поместье, сударь, не то что расейское. У нас степь, поле, – хорошо, как есть что посеять да бог уродит, а там, сударь, всякой продукт сам собою родится; что год, то благодать и изобилие плодов земных; примерно, хоть виноград; а как явится комета с хвостом, так такой урожай, что удивление; да еще первого сорту, самое лучшее вино. Самим вам известно кометное шампанское – по сю пору тянется; а комета-то когда была? В одиннадцатом году! А по нашему календарю опять будет комета, да еще две; так оно и тово, сударь, выгодно купить французское поместьице; да еще, с вашего позволения, с графским достоинством!.. Нет уж, батюшка Селифонт Михеич: упустить такой благодати нельзя, да и не следует… А что вам дочку не угодно отпустить туда с сыном моим, так это мне крайне ощутительно, Селифонт Михеич!
Слова Василья Игнатьича были прерваны внезапным воплем Авдотьи Селифонтовны.
– Дунечка, Дунечка, душа моя, что с тобой? – спросила ее Марья Ивановна, крепко прижав к сердцу.
– Что ты, матушка моя, голубушка моя, – заговорила к ней и няня, гладя ее по голове и целуя в голову, – ну, о чем ты плачешь? Будет здоров твой Прохор Васильевич… Смотри-ко, смотри, он взглянул на тебя!..
– Убирайся ты с ним! – крикнула Авдотья Селифонтовна, оттолкнув няню, и еще горчее зарыдала, закинув голову назад.
– Христос с тобою! – проговорила испуганная Марья Ивановна, обхватив дочь обеими руками, – Дунечка, милочка, что с тобою?…
– Дуняша! не годится так реветь! что, тебя режут, что ли? – сказал Селифонт Михеич.
– Режут! – крикнула Авдотья Селифонтовна.
– Глупая, глупая! приходится ли так огорчаться, убивать себя! – сказала мать.
– Да, убивать себя, – проговорила Авдотья Селифонтовна, всхлипывая, – если бы я знала, лучше бы умерла!..
– Ох-о-хо, не гневи бога, Дунечка! – сказала, вздыхая, Марья Ивановна, – не отпевай до времени! Прохор Васильевич выздоровеет, даст бог.
– А что мне в том, что выздоровеет! – заговорила Дунечка, – тятенька не хочет отпускать меня в Париж ехать… а я не хочу здесь оставаться… Экая радость!.. Поди-ко-сь! Чтоб все смеялись надо мной: вот, хвалилась, дескать, хвалилась!..
– Дура!.. Ах ты, господи! Вот, воспоили, воскормили да вырастили горе! – сказал Селифонт Михеич и вышел по обычаю своему – удалиться от зла, от слез, от крику и глупостей.
Марья Ивановна не знала, что говорить; ей только больны были слезы дочери. Ей всегда казалось, что тот прав, кто плачет.
– Полно, полно плакать, Дунечка, – повторяла она, – все перемелется, мука будет.
– Успокойтесь, Авдотья Селифонтовна, – сказал и Василий Игнатьич, – уж будьте в том удостоверены, что будете графиней, дайте только Проше выздороветь… Доктур сказал, что мо ничего, что скоро будет здоров. Вместе поедем, ей-ей вместе поедем!
– К чему ж тятенька говорит, что не пустит? – спросила Дунечка.
– Да мало ли что он говорит, – отвечала Марья Ивановна дочери, – ну, статошное ли дело не отпускать тебя? Власть-то теперь над тобой не наша, а мужнина; куда хочет, туда и везет.
Авдотья Селифонтовна, не хуже многих иных, жила чувствами, не размышляя; и потому что коснется до чувств приятным или неприятным образом, то и вызывает наружу радость или горе. Кстати или не кстати, умно или глупо, лепо или нелепо – это дело другое: дайте сперва накричаться, нажаловаться на судьбу, выплакаться хорошенько, всех собой перетревожить, а потом уж подумать… да и не подумать, а так, по новому впечатлению чувств, быть довольной или недовольной.
– Лекарство принесли, – сказала Анисья, входя со стклянкой в руках, – да я не знаю, как давать-то его; на ярлыке, вишь, написано.
– Прочти-ка, Дунечка.
Авдотья Селифонтовна помотала отрицательно головой, взглянув с содроганием на Прохора Васильевича.
– Поедемте, маменька, – сказала она матери.
– Куда это, куда тебе ехать?
– Я здесь ни за что не останусь, – отвечала Авдотья Селифонтовна.
Марья Ивановна прикрикнула на дочь, но это не помогло; она снова залилась слезами, завопила, что ее морочат, что подставили ей вместо Прохора Васильевича бог знает кого.
– Нет, уж вы этого не извольте говорить, Авдотья Селифонтовна, – сказал Василий Игнатьич, – не извольте говорить, что бог знает кого подставили! на подставку Прохору у меня нет никого; а я вот что смекаю: вас обоих испортили!..
– Ох, так, так! – проговорила, вздохнув глубоко, старая няня Авдотьи Селифонтовны, – кто-нибудь сглазил!
– Чего доброго! – прибавила Матвевна, – и сомнения никакого нет!..
– Ох, господи, что вы это говорите! – вскричала встревоженная словами Анисьи и Матвевны Марья Ивановна, – ужели Дунечку мою испортили? Да чем же, чем?… Дунечка, душа моя, ты что ж такое чувствуешь, скажи мне? Головка, что ли, болит?
– А бог знает, что такое, – проговорила Дунечка жалобным голосом, – я ни за что здесь не останусь, в чужом доме.
– Какой же чужой, сударыня моя, – начал было Василий Игнатьич; но слова его были прерваны докладом, что в зале его ожидает квартальный.
– Какой квартальный? – спросил с испугом Василий Игнатьич.
– Нашей части.
Крякнув, Василий Игнатьич пошел в залу.
– Мое почтение, батюшка Иван Федотович… как вас бог милует?… покорнейше просим!..
– Василий Игнатьич, – начал квартальный, присев вместе с хозяином, – дело-то не ладно…
– Что такое, батюшка Иван Федотович? – спросил с испугом Василий Игнатьич.
– Да вот что: ко мне привели женщину, которая доказывает, что она жена вашего сына.
– Помилуйте! да это, сударь, здесь ее и взяли; какая-то пьяная или полоумная… подняла такой крик…
– Я, конечно, сам поусомнился; подумал, что, может статься, Прохор Васильевич и имел с ней знакомство, так… когда-нибудь… понимаете? Обещал, может статься, и жениться на ней, да бросил потом, знаете… все это вещи обыкновенные… так она, может статься, и с ума сошла – бывает. Я слушал, слушал, вижу, очень не дурна собой; только гиль несет: говорит, что в Переяславле у нее брат, что там Прохор Васильевич познакомился с ней в прошедшем году.
– Помилуйте, Иван Федотович! – воскликнул снова Василий Игнатьич.
– Позвольте; это еще все возможное дело, все может статься…
– Да помилуйте, Иван Федотович, в прошлом году Прохор был в Немечине!..
– Позвольте, Василий Игнатьич, я ведь не говорю, чтоб это так точно и было, да ведь кто ж ее знает, может статься из всего этого возникнет дело…
– Господи! – проговорил Василий Игнатьич, – вот послал бог наказание со всех сторон!
– Позвольте; ведь как возьмешься за дело? Я, конечно, не поверю какой-нибудь бабе; притом же она говорит, что будто Прохор Васильевич в Рохманове лежал больной, а дня с четыре тому назад отправился к вам.
– Экой сумбур! Да что ж ее и слушать, Иван Федотович! мало ли что наговорит сумасшедшая; сами вы знаете, что Прохор уже месяц как возвратился из чужих краев, а вчера была свадьба. Женили, сударь, его на Авдотье Селифонтовне; да вдруг вот заболел, бог его знает…
– Оно так, действительно, Василий Игнатьич: да ведь мы обязаны снять допрос. Оно, может статься, и ничего, пустяки, мало ли мошенниц бывает; да дело-то пойдет в огласку… и вам запросцы и Прохора-то Васильевича на личную ставку потребуют… Так я уже и не знаю, как тут быть?… Оно, конечно, может статься, что она в беспамятстве и не помнит, что говорит; да ведь хуже-то всего вот что…
Квартальный вынул из кармана бумагу.
– Извольте-ко посмотреть.
– Что это?… паспорт Прохора?…
– Да-с; он у нее был.
– Ах ты, владыко, царь небесный! да она украла его! – покричал Василий Игнатьич.
– Оно может статься; да кто ж ее знает; а ведь это все приложится к делу.
– Ну! уж этого я и не понимаю!..
– Прощенья просим! – сказал Селифонт Михеич, выходя из гостиной.
– Куда ж это вы, Селифонт Михеич?
– В город, Василий Игнатьич; жена покуда останется здесь. Дунечка-то одурела… Прощенья просим…
– Ох-о-хо! – проговорил Василий Игнатьич, – уж не знаю, что и делать! Прощайте покуда, Селифонт Михеич… Пойдемте-ко, Иван Федотович, ко мне, поговорить; а то здесь всё мешают…
– Я вам говорю, что это все чье-нибудь мошенничество, – сказал Василий Игнатьич, кончив совещание, – я так смекаю, что кто-нибудь подучил ее…
– Я сам то же думаю; да и без всякого сомнения, – отвечал квартальный выходя, а в таком случае что ж делать?… Знаете, чтобы оправить правого, не грех и покривить душою, если нет другого средства.
– Так, так, сударь, так! – отвечал Василий Игнатьич, низко кланяясь.
Между тем Прохор Васильевич лежал без памяти, в сильной горячке. Марья Ивановна, растроганная слезами дочери, принуждена была взять ее домой на время болезни молодого. Рассказы дворни о женщине, которая, откуда ни возьмись, выдавала себя за жену Прохора Васильевича, дошли через няню со всеми выводами и заключениями и до Марьи Ивановны. Решено было, что что-нибудь да не так; что, верно, эта женщина полюбовница Прохора Васильевича; что она-то, подколодная змея, и испортила свадьбу.
– Нет, матушка, сударыня Марья Ивановна, – говорила няня, – мой совет таков, чтоб и из рук не выпускать Авдотью Селифонтовну… Беда! я вам говорю! Эта злодейка отравит ее!
– Ох, что ж ты будешь делать-то с нею? – воскликнула Марья Ивановна.
– Что делать? Да что ж делать-то, матушка: на смерть отдать ее, что ли? И сама-то она не пойдет туда ни за что, недаром опротивел ей Прохор-то Васильич.
– Ох, согрешили мы!.. – вздыхая, повторяла Марья Ивановна.
Спустя недели полторы Прохор Васильевич стал приходить в себя. Василий Игнатьич сидел подле него, когда он в первый раз открыл глаза, как будто после долгого сна.
– Что, брат Прохор? – сказал Василий Игнатьич. Прохор Васильевич взглянул на отца, вздрогнул, отворотил голову и снова закрыл глаза.
Все время болезни за Прохором Васильевичем ухаживала Анисья. Приходя в память, он привык видеть ее около себя, но отвечал на ее вопросы только одним движением головы, как будто закаявшись говорить. Просить чего-нибудь он также не нуждался: Анисья предупреждала его во всем. Только что он откроет глаза или вздохнет: «Не прикажешь ли испить, Прохор Васильевич? Не хочешь ли чайку али супцу? а?… чайку? ну, хорошо, хорошо, сейчас; самовар ведь день и ночь не потухает, неравно спросишь».
Равнодушный, неразговорчивый или, может быть, торопливый медик также не требовал от своего выздоравливающего речей, а довольствовался расспросом Анисьи.
– Что, как спал?
– Хорошо, батюшко.
– А все исправно было?
– Как же, сударь.
– Ну, а что аппетит?
– Кушал, батюшко, овсяную кашку.
Потом подходил к больному и, пощупав пульс, командовал ему: «Язык!» Прохор Васильевич, высунув язык, ждал, покуда медик скомандует: «Хорошо, довольно!»
– Что, лекарство еще есть?
– Есть, батюшко, есть еще, довольно.
– Ну, я пропишу другое.
– Да уж не будет ли и того?
– Ну, уж это не твое дело.
– Ну, ин пропиши, батюшко, пропиши, – говорила Анисья, – да написал бы в аптеку-то, чтоб не брали, собаки, так дорого за лекарство: ведь что день, то красная бумага.
– Ну, уж это не мое дело, – отвечал медик и отправлялся. Анисья садилась подле больного и, надвязывая чулки, беседовала сама с собою:
– Вишь ты, гладкой какой! «Не его дело!» А того не знает, что Василий Игнатьич сердится, что на лекарство денег много идет!.. Чем бы на меня-то кричать, лучше бы на него прикрикнул, право, ей-богу! Вот уж народец! не пожалеют небойсь чужого добра!.. Что, дескать, чужое-то, ведь это не свое… Разбойники! прости господи! Всякой своей правдой хочет жить, а что правда-то их?… кривда!.. Что, не поднять ли подушки?… али испить? испей-ко! Господи, благослови! Ах ты, сударик мой хороший, чей это черный глаз тебя сглазил, или уж зелья какого поднесли? Легко ли, словно мертвый лежал ты девять дней!.. Чу! никак Василий Игнатьич идет?…
Только что Василий Игнатьич в двери, Прохор Васильевич закроет глаза и отвернет голову к стене.
– Что, Анисьюшка? Что, Проша?
– Слава богу! кажись, только слаб очинно; ни на что не жалуется. Сейчас прихлебнул чайку.
– Спит, стало быть?
– Уснул, верно; а сейчас, вот сейчас только глядел глазками.
– Ну, пусть его спит. Дохтур-то, чай, опять прописал «рецет»?
– Прописал, прописал.
– Ну, так! Ведь, ей-богу, не то чтобы жаль было денег, да жаль за дрянь-то такую платить! Разоренье, да и только! Я бы, право, плюнул на эти «рецеты»!
– Ну, уж, Василий Игнатьич, ведь и то сказать: кто ж помог Прохору Васильевичу, как не он.
– Ах ты дура, дура! Помог!.. Эка помощь! Как лежал пластом, так и теперь лежит!
В самом деле, прошло еще несколько дней, а Прохор Васильевич лежит как пласт и не думает вставать с постели. Всем бы, кажется, здоров: ночь спит крепко, напьется чайку с подобающею жаждою, похлебает овсяной кашки, съест кусочек курочки да пару печеных яблочков с надлежащим вкусом, заснет, опять проснется, покажет язык доктору, примет лекарство, послушает, о чем говорит сама с собою Анисья, отвернется к стене и закроет глаза, когда войдет отец, – все, кажется в исправности, а лежит себе да молчит: точно как будто боится выздороветь, чтоб тятенька не убил.
И бог знает, как вышел бы из этого положения Прохор Васильевич; без deus ex machina, – кажется, и не вышел бы. В один вечер пробралась на двор черница.
– Добрые люди, – сказала она, становясь в дверях людской, – пустите, ради господа бога, переночевать богомолочку!
– Откуда ты, мать моя? – спросила ее стряпуха Ивановна.
– Ох, издалека, голубушка.
– Утомилась ты, я вижу. Войди, милости просим; переночуй, найдем порожний угол.
После долгих разговоров, взаимных расспросов и рассказов черница, когда дошло дело и до больного и до события на свадьбе, слушала, устремив на Ивановну неподвижные глаза, в которых копились слезы. Дыхание ее становилось тяжело, она, казалось, ничего не понимала.
– На свадьбе! Кто женился?
– Да Прохор же Васильевич, говорю я тебе.
– Голубушка! как женился? когда?
– Чай, уж недели две. На дочке Селифонта Михеевича… хорошо бы, кажись, да так, что-то не по сердцу; а тут еще такой случай… Что с тобою, мать моя?
– Ох, закружилась что-то голова, – проговорила черница, надвинув на лицо черный платок, которым покрыта была ее голова. – Господи, господи, согрешила я перед тобою! – воскликнула она невольно.
– Испей, мать моя, водицы… Что, али сильно ломит голову?
– Ох, болит, болит!.. мочи нет!
– Бедная! приляг!
– Ох, нет!.. Что тут об себе думать!.. Ваш больной-то, чай, умирает… Вот, снеси ему просвирку… скажи, что за его здоровье вынута… снеси, пожалуйста!
– Ладно, ладно; да ты-то тут не умри! – сказала испуганная Ивановна.
– Ах, нет; у меня так это бывает…
– То-то! пустишь чужого человека в дом, да после и валандайся; добро бы я хозяйка была, а то что!..
– Не бойся, пожалуйста; я говорю тебе, что это так у меня; вот и прошло… Ох, да как же я люблю ходить за больными; я бы походила и за вашим…
– Уж где тебе; ты и сама-то, вишь, слабая какая.
– Бог дает силы и слабым на добрые дела… Право, я бы походила за вашим больным… что-то так сердце говорит, что я бы ему помогла… молитвой помогла бы.
Ивановна посмотрела с участием на черницу.
– Да, хорошо, хорошо, – сказала она, – я вот пойду скажу Анисье Семеновне. Она еще и рада будет; истомилась бедная; сколько ночей не спала.
Ивановна, взяв просвирку, пошла наверх, а черница, оставшись одна в горенке, залилась горькими слезами, припав к столу. Ей так хотелось выплакать не одно только горе, а душу; но едва послышались шаги Ивановны, она встрепенулась и отерла слезы.
– Пойдем к Анисье Семеновне, – сказала Ивановна, – она еще как рада, сама все думала пригласить сиделку, да некого было.
– Ах, пойдем, – проговорила тихо черница, – я хоть век просижу подле больного, у меня сна совсем нет.
Вслед за Ивановной она пошла наверх. Анисья встретила ее в девичьей и истомила расспросами.
– Ну, как же я рада, что нашелся такой добрый человек, как ты! Пойдем к больному. Он забылся… тихохонько!
Входя в роскошный покой, где лежал Прохор Васильевич, черница, видимо, содрогнулась. Подойдя к постели больного, она схватилась за кровать, и взор ее, как прикованный, остановился на нем.
– Сядь, сядь, милая, – повторяла Анисья и наконец насильно взяла ее за руку и посадила подле себя на стуле.
– Ах, потише говорите, он уснул, – сказала черница.
– И то шепотом говорю, – отвечала Анисья, – какая ты осторожная.
И Анисья начала снова расспросы про то, про ce, откуда, куда, где бывала, что видела. Бедная черница как будто перезабыла все и отвечала рассеянно.
– Э, какая ты неговорливая, – сказала Анисья, начиная уже дремать, – фу, какая здесь духота!
– Вы бы пошли уснуть, Анисья Семеновна, я посижу.
– Ладно; да ты не заснешь? Сажала я в прошлые ночи Дуняшу да Машу, куда! Только отвернись, они уж и спят.
– Нет, я не усну.
– А как же быть-то, как он проснется да испугается тебя?
– Не испугается, отчего же испугаться? – проговорила черница.
– Как не испугаться: чужая женщина, вся в черном; хоть с головы-то сняла бы ты шапочку-то свою.
– Я сниму.
– Ну, ладно; смотри, как проснется, позови меня, я в девичей лягу.
Анисья вышла. Черница сбросила с головы платок и шапочку, упала на колена перед образами, и, заливаясь слезами, молилась.
Когда душа загорается во взорах и выступает на уста молящейся женщины, взгляните тогда на нее и сами молитесь.
После долгой молитвы она прислушалась вокруг, встала, подошла к кровати, сделала движение, чтоб прикоснуться к больному, но, казалось, не смела, боялась нарушить его сон.
– Прохор Васильевич! – произнесла она тихо и повторила несколько раз.
Больной вдруг вздрогнул, очнулся и устремил на нее глаза.
– Tс! Не пугайся, это я, твоя Лукерьюшка, узнаешь ли ты меня?…
Прохор Васильевич приподнялся, протянул к ней руки, но ни слова. Казалось, чувства его снова помутились.
– О, господи, что я сделала! – проговорила Лукерья Яковлевна, и она обхватила руками своего мужа.
– Лукерьюшка! – проговорил он, наконец.
– Узнал, узнал меня! Дай же мне теперь выплакаться! – произнесла она, задушив голос, и зарыдала.
– Что ты плачешь? – сказал Прохор Васильевич после долгого молчания.
– Tс, тише, тише!.. да! я плачу… ты забыл меня!.. ты… Она не могла продолжать.
– Я забыл? Нет!..
– Тебя женили на другой!.. Погубил ты меня!..
– Ox, не говори!.. Неправда!..
– Как неправда?
– Неправда! я все тебе скажу… О, господи!.. Лукерьюшка! уйдем отсюда… я боюсь тятеньки; я боюсь на него смотреть… уйдем отсюда!
– Уедем, уедем, куда хочешь!.. Да как же это, говорят, что ты женился…
– Ох, не говори теперь… уйдем поскорей!..
– Куда ж теперь идти, как идти? Прохор Васильевич задумался.
– Как уйти? – повторила Лукерья Яковлевна, – ты еще болен…
– Как-нибудь, Лукерьюшка.
– Да как же?
И задумались они оба, и ничего не могли придумать.
В гостеприимном караван-сарае, находящемся на перепутье из театра в собрание, есть тьма отделений, номеров, номерков, приютных для приезжих, проезжих, для скитальцев и путешественников, для странников вообще и для странников в особенности, для хаджей и даже для пилигримов с блондовой бородкой.
Одно из отделений этого караван-сарая только что занял какой-то приезжий: мужчина средних лет, статный, лицо худощаво, но румянец во всю щеку, глаза голубые, а волоса как смоль, одет по-дорожному, но сообразно форме, отдаваемой в ежедневных приказах моды, с тою только разницею, что вместо мешковатого пальто на нем была богатейшая бархатная венгерка, изузоренная снурками. По наружности, по всем приемам я по речи нельзя было определить, к какой, собственно, нации принадлежал он. Казалось, что это был воплощенный космополит, европеец неопределенного языка, vagabond158, объехавший для препровождения времени весь свет и посетивший на закуску, pour la bonne bouche159, Россию. С своим слугой, немцем, он говорил по-немецки, как француз; с французом-чичероне160 – по-французски, как англичанин; с половым – по-русски, как чех, и в дополнение пересыпал свои речи латинскими, итальянскими и даже турецкими восклицаниями; а распевал и бранился на всех земных языках.
На вопрос полового у камердинера, кто таков его барин, немец отдул отвислую губу и, подняв указательный палец, отвечал:
– Это магнат унгарски Волобуж, слышишь?
– Нет, брат, не слышу; кто такой?
– Это великий господин, магнат унгарски Волобуж, слышишь?
– Нет; ну-ко еще.
– Хе! – сказал немец, усмехаясь, – это тебе gross Kurios! fine wunderliche Sache!161
– Иоганн! – крикнул путешественник по-немецки, пыхнув дымом сигары и остановясь посреди комнаты, – здесь скверно пахнет! Как ты думаешь?
– Скверно пахнет? – спросил немец-отвислая губа, – позвольте, мейн-гер, я понюхаю.
И Иоганн, как легавая собака, вытянул шею, поднял нос и начал нюхать удушливую атмосферу отделения.
– Ну, понюхай еще, – сказал венгерский магнат, – а потом неси шкатулку и вещи назад в дормез. В этой «Москве» я не остаюсь. Гей, бир-адам! Seigneur serviteur162, как твое имя?
– Мое имя Андре, – отвечал француз.
– Есть тут какой-нибудь «Лондон»?
– И очень близко отсюда, если только вам угодно.
– Очень угодно: только с тем, чтоб и в «Лондоне» не было такого же натурального запаху.
– Как это возможно! будьте спокойны; я пойду сейчас же займу лучший номер.
– Если невозможно, так едем в «Лондон».
– Что ж, ваше сиятельство, не понравился номер? мы вашей милости другой покажем, – сказал приказчик гостиницы.
– Что ты говоришь? – спросил его магнат.
– Да вот вашей милости, может быть, номер не понравился, так другой извольте посмотреть.
– Ты что, что говоришь? а? – спросил он снова, выходя из номера.
– Черт их разберет, этих немцев, – сказал приказчик, махнув рукой, – и сами ничего не понимают, и их не поймешь!
У подъезда стоял, хоть и не новомодный на лежачих рессорах, но славный дормез, со всеми удобствами для дороги, придуманный не хуже походного дормеза принца Пюклер-Мюскау163. Немецкий человек Иоганн был уже наготове принять господина своего под руку и посадить в экипаж; но его задержал па крыльце какой-то отставной, низко поклонился ему, встал перед ним навытяжку, держа шляпу в левой руке, и начал излагать, запинаясь, свою покорнейшую просьбу помочь страждущему неизлечимой болезнью, погруженному в крайнюю бедность и имеющему жену и пятерых человек детей мал мала меньше.
Венгерский магнат уставил на него глаза с удивлением, осмотрел с ног до головы, как чудо, какого еще не видывал, и, выслушав долгую речь, спросил:
– Жена?
– Так точно: жена-с… ваше сиятельство, – повторил отставной, – и пятеро человек детей…
– И пятеро детей?
– Так точно-с…
– Что-о, что вы говорите?
– Пятеро-с, – проговорил отставной, отступив с испугом.
– Жаль, мало; только пятеро!.. – сказал магнат, вынимая кошелек, – вот вам по червонцу на человека; если б было больше, больше бы дал… считайте, пять?… Только пятеро детей?
– Ваше сиятельство, – сказал отставной, у которого от радостного чувства тряслись руки и разбежались глаза, смотря на горсть золота, – жена на сносе, прибавьте на шестого…
– Хорошо; а может быть, жена ваша родит двойни?
– Всегда двойни родит, ваше сиятельство, всегда, вот и прошлый раз двойни родила…
– Ну, вот еще два.
– На родины, на крестины понадобятся деньги…
– Ну, об этом поговорим после; приходите-ко ко мне как-нибудь на днях; я буду стоять в «Лондоне».
– Слушаю, ваше сиятельство…
– Ну-ну-ну! ступайте себе, пока назад не отнял!.. Отставной опрометью бросился от магната Волобужа, который посмотрел ему вслед, пожав плечами.
Француз Андре также пожал плечами. Он пришел в ужас, заметив такую щедрость путешественника.
– Пропадшие деньги, совершенно пропадшие! – сказал он со вздохом, – я обязан предостеречь вас; вы думаете, что это в самом деле несчастный офицер? Это мошенник; их здесь тьма ходит… Они вас оберут, monsieur… le comte164, – прибавил Андре, не зная, как величать путешественника.
– Оберут? неужели? какое горе!
– Ей-богу, оберут! как это можно давать столько! Им ничего не надо давать… этим бездельникам, попрошайкам! нищим!
– Тебя как зовут?
– Андре, monsieur.
– Вот видишь, Андре-monsieur, знаешь ли ты разницу между нищим и плутом?
– Non, monsieur165.
– Так я тебе скажу: нищий напрашивается на деньги, а плут на услугу. Понял? и прекрасно; довольно рассуждать. Что ж «Лондон»?
– Я уж был там; самый лучший номер готов.
– Умные ноги!
Венгерский магнат вскочил в дормез, Иоганн взлез на козлы, ямщик чмокнул, подернул вожжами.
Поехали. Андре бежал ли следом, или доехал на запятках, но у подъезда гостиницы «Лондон» он встретил и высадил магната из кареты и повел по длинному, довольно сальному коридору до номера.
– Господин покорнейший мой слуга, как бишь тебя зовут?
– Андре, monsieur.
– Ну, Андре-monsieur, лондонская атмосфера и чистота, кажется, не лучше московской?
– Номер прекрасный.
– Правда, номер лучше. Иоганн! как ты думаешь? Понюхай-ко, хорошо ли пахнет?
– Ха! – отвечал Иоганн, приподняв важно отвислую губу, – здесь всё recht und sch?n!166 Всё как следует для одной такой Obrigkeit167 как ваша высокородность. Ничего не можно сказать худого. По стенам бесподобнейшие картины… Занавесы прекрасные на окнах, ковры… ja! ailes ist recht und sch?n!168 Вот и клавиры, можно музыку играть… и все, как следует… и кабинет есть… стол письменный… Это немецкая работа!.. Тотчас видно!.. Я тотчас узнаю немецкую работу!
Иоганн обратил особенное внимание на немецкую работу стола и распространился, рассматривая его со всех сторон и выдвигая ящики, о немецкой аккуратности.
– Что, хорош стол? – спросил магнат.
– О! – произнес Иоганн, приподняв отвислую губу.
– Ну, понюхай его и ступай выбирать все из кареты; да скорее мне одеваться!
– Нельзя же все вдруг, mein Herr169; надо все по порядку сделать, langsam und sch?n170.
– Ну, ну, ну, готс-доннер-веттер!171 – прикрикнул магнат Волобуж, раскинувшись на диване. – А ты, как бишь тебя?
– Андре.
– Андре, скажи, чтоб подали обедать, да мне нужна коляска на английских рессорах, да билет в театр, в собрание или в клуб, повсюду, где только можно убивать время позволительным образом. Слышишь?
– Слушаю.
– Ну, ступай!.. Я для скуки и уединения не создан, – продолжал про себя Волобуж, садясь обедать, – я и есть один не могу… Подай шампанского!.. И пить один не могу!.. Кругом тишина и спокойствие! очень весело: слышно, как собственный рот жует, а нос сопит!.. Иоганн, убирай!.. Роскошь, а не жизнь! блаженство посреди мук, волнений, треволнений, громов и молний!.. Итак, я вступаю в новый свет, как Колумб… Знакомлюсь с московскими дикарями… они, говорят, народ гостеприимный, любят и уважают всех иноземных пришельцев и мимошельцев, скитающихся мудрецов и бродящих артистов и художников. Иоганн! Готово?
Langsam und sch?n Иоганн привел все в порядок, подал барину одеваться, проводил его до коляски, сказал по-немецки: «господь с вами!» – и пошел совершенствовать устроенный порядок, перекладывать и переставлять вещи с места на место, всматриваться и вглядываться, действительно ли всё на месте и нет ли какого-нибудь упущения.
Магнат Волобуж отправился в театр и был вполне доволен тем впечатлением, которое произвело первое его появление в публике.
Взоры дам из лож сосредоточились на новое замечательное лицо, как лучи к фокусу зажигательного стекла.
– Это лучшие проводники ко всем земным благам, – говорил Волобуж почти вслух, обводя зрительную трубку по рядам лож. – Очень, очень милы! Прелесть! право, я ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Вене, ни в одной из европейских столиц не видал таких хорошеньких!..
– Вы, без сомнения, путешественник? – спросил его сосед, отжилой петиметр172, которого взоры также блуждали по бенуару и бельэтажу, а улыбка проявляла внутреннее довольствие, что весь Олимп театра не сводил с него глаз.
– Я путешественник, – отвечал Волобуж, – и удивляюсь необыкновенной красоте здешних дам. Совершенно особенный тип! Тип оригинальный, какого я не видал в целой Европе!.. Ah! per mai fe!173 Я не нагляжусь!
– Нам очень лестно это слышать; но вы изменяете вашим соотечественницам.
– Goddem! my heart goes pitt-a-patt!174 Я изменяю своим соотечественницам?
– Вы англичанин?
– Gott bewahre!175
– Немец?
– И того меньше; я маджар.
– Ах, я что-то слышал; не вы ли ездили для исследования языка мещеряков?.
– Нисколько.
– Говорят, что мещера и маджары составляли одно племя?
– Кажется; но мои. предки происходят от славян.
– От славян? О, так недаром вам нравится русская красота.
– Родная! Не могу не восхищаться! Что за энергия во взорах, в чертах!..
– Посмотрите на даму в золотой наколке, во второй ложе.
– Ах, не отвлекайте меня от всех к одной; я не могу ни одной отдать предпочтения: каждая – красавица в своем роде.
– Помилуйте, посмотрите, какие рожи сидят в третьей ложе.
– Рожи? Что вы это! Вы, верно, присмотрелись к красоте наших дам, или ваш вкус односторонен, или у вас мода на какую-нибудь условную форму лица?… А эта дама кто такая?
– Это Нильская.
Поднявшаяся занавесь прервала разговор. По окончании театра собеседники расстались знакомцами.
– С этим приятелем не далеко уйдешь, – сказал магнат Волобуж, садясь в свой экипаж, – это, кажется, сам ищейная собака.
На другой день поутру Андре явился с билетом для входа и Московский музей.
– Музей редко открывается, и трудно достать билет, – сказал он, – но я на ваше имя выпросил у самого генерала, директора.
– Это умно; так ты покажешь мне его, я лично хочу поблагодарить за это одолжение.
В оружейной палате был общий впуск, и потому Андре с трудом провел магната сквозь непроходимые толпы народа к восковой фигуре ливонского рыцаря на коне.
– Фу, дурак, куда меня завел?… Ну, говори, кто это такой?
– Это? это древний герой.
– Как его зовут?
– Вот я спрошу.
И Андре спросил у стоявшего подле фигуры солдата, как зовут этого человека, что на коне?
– Какой человек, это богатырь, – отвечал солдат.
– С кем же он воевал? И этого не знаешь? – спросил Волобуж.
– Нет, знаю, мосьё, он воевал с татарами, – отвечал Андре, отскочив от какого-то господина, который остановился подле и смотрел на проходящие толпы.
– Это кто?
– Это один из вельмож московских, – тихо отвечал Андре.
– А, прекрасно! – сказал магнат, подходя к довольно плотному барину с спесивой наружностью. – Извините меня, если я вас обеспокою вопросом.
– Что прикажете?
– Я путешественник… Тут столько любопытного, но никто не может мне объяснить… Мне желательно знать, кто этот русской рыцарь на коне?
– Вы путешественник? – сказал барин, не обращая внимания на вопрос, – о, так вам надо познакомиться с директором… Я сам ищу его, но сквозь эти толпы не продерешься… Пойдемте вместе… Вы недавно приехали в Россию?
– Очень недавно, вчера.
– Откуда?
– Как вам сказать… я кружу по целому миру; любопытство видеть Россию завлекло меня на край света.
– В самом деле, мы живем на краю света; хоть бы немножко поближе к Европе! Скоро, однако ж, железная дорога сократит путь. Как вы нашли Россию? – проговорил вельможный барин, произнося невнимательно все слова.
– Чудная страна, удивительная страна! – отвечал Волобуж, – во всех отношениях не похожая на Европу!..
– Не правда ли, совершенная Азия?
– Но что за воздух! Живительный воздух! Надо отдать справедливость, здесь воздух гораздо прозрачнее всех стран, где я ни был.
– Да, да, да, на воздух пожаловаться нельзя; но климат убийственный.
– Климата я еще не знаю.
– Вы увидите, – сказал рассеянно вельможный барин, уставив лорнет на проходящих дам, – недурна, очень недурна! Кто это такая?
– Недурна, очень недурна! – повторил и магнат, – соблазнительное личико! впрочем:
– Ха, ха, ха, это мило!.. Вы долго пробудете здесь?
– Надеюсь.
– Мы, кажется, не отыщем директора, а мне надо ехать… Очень рад с вами познакомиться.
– Позвольте прежде рекомендовать себя, – отвечал Волобуж, вынув визитную карточку и отдавая барину.
– Ах! – произнес сеньор приветливо, взглянув на карточку, – я надеюсь, что вы не откажетесь меня посетить… позвольте узнать, где вы остановились?
– В гостинице «Лондон».
– Я буду лично у вас.
– Приезжий предупредит эту честь.
Барин ласково пожал венгерскому магнату руку, сказал свой адрес и раскланялся.
– Ты знаешь, где живет этот господин?
– Знаю, знаю, – отвечал Андре.
– Так мне не для чего здесь больше толкаться. Seigneur Baranovsky177, как называл Андре русского барина, с которым случай свел нашего путешественника, магната Волобужа, был человек в самом деле с наружностью сеньориальной: высок ростом, плотен, держал себя прямо, глядел свысока, речь министерская, словом, важен, важен, очень важен. Но он был не из вельмож, происходивших от тех мужей, которым Рюрик раздавал волости, овому Полтеск, овому Ростов, овому Бело-озеро; не происходил он также от великих мужей, которые Хранились и бились за места в разрядах; ни от какого-нибудь мурзы татарского. Но во всяком случае он был богат, как Лукулл, который прославился роскошью одежд, мебели и стола. Римский Лукулл178 был умен и учен, съел собаку в познаниях, образовался у известнейших док красноречия и философии, имел огромную библиотеку, которою пользовался Цицерон179, пивши еще мальчиком; а русский Лукулл, хоть и любил собак, но не съел ни одной по части отягощающей голову, а не желудок. Что ж касается до отделки дома а la renaissance180 и до повара, то, в сущности, о нем, как о мертвом, нельзя было ничего сказать, кроме aut bene, aut nihil;181 похулить нельзя Ныло; такая угода чувствам во всех мелочах, что все чувства, кроме слуха, утопали в сладострастии созерцания, обоняния, осязания и вкуса. Слух же должен был довольствоваться басом хозяина и дискантом хозяйки. Была некогда и библиотека в доме, доставшаяся по наследию; до самого времени возрождения вкусов она занимала целую комнату; потому что в прошедшем столетии и даже в начале настоящего была и в России мода на библиотеки, и невозможно было не иметь коллекции французских писателей, in-folio, enrichis et orn?s de figures, dessin?s et grav?s каким-нибудь Bernard Picard et autres habiles artistes182. Но со времени возрождения вкуса вельможный барин променял библиотеку, богатую роскошными изданиями и переплетами, на пару античных ваз и на сервиз саксонский; изгнал весь наследственный хлам и устроил дом как чудный косметический магазин, соединенный с мебельным и с великолепными залами богатейшей европейской ресторации, отапливаемой паром, освещаемой газом. После полного устройства и приведения в порядок всего, кроме счетов, он дал обед на славу, потом бал на славу – и прославился: заговорили, заахали о доме, об обеде, о бале; а о хозяине преравнодушно сказали: – Дурак! Что он, удивить, что ли, хочет всех своими обедами и балами!
Но этим толки не кончились; тотчас же привели в известность доходы и расходы, поверили счеты, допытались, что взято и сделано в долг, что на чистые деньги, что на слово, что по подрядам, кому уплачено, кому нет.
Про супругу сеньора Baranovsky, как его называл Андре, ничего нельзя было сказать худого. Она была женщина добрая; понимала, что в важности и делах ее мужа было что-то глупое, смешное и бестолковое; но ей было трудно против рожна прати, а еще труднее предостеречь себя от тщеславия быть окруженной блеском и великолепием: все это было так хорошо, так ей к лицу. Будь муж ее управителем и стой почтительно в дверях, в ожидании приказания, салон madame Baranovsky183, был бы второй салон мадам Рекамье, которою она бредила. Если муж ее жил пышно и давал обеды из славолюбия, то она давала балы чисто из великодушия и желания одолжить и потешить бедную Москву, а вместе с тем и подать всем пример гостеприимства, образованного тона и любезности хозяйки.
Приготовляясь к своему bal-par?184, или, если позволите сказать по-русски, чинному балу, она была счастлива, счастлива как мать, которая радуется, что может потешить детей: «пусть их попрыгают и порезвятся от души». Но дети что-то не резвились, как будто под строгим присмотром чинности; тут как-то не было простору ни душе, ни телу: все что-то неловко; казалось, что все съехались из одного светского приличия и необходимости непременно быть на великолепном бале, на выставке модных одежд и тонов, на маневрах высшего круга и для того, чтоб после, если кто спросит: «Были на бале у мадам Baranovsky?» – отвечать равнодушно: «Как же». Лица хозяина и хозяйки так же ярко были освещены внутренним довольствием, как и весь дом солнечными и лунными лампами: они как будто всматривались во всех и каждого, удивляются ли великолепию зал, роскоши убранств, блеску освещения и непроходимости от бесчисленного множества приглашенных? В самом деле, какая-то благочинная тоска проникала всех, кроме нескольких записных лощеных танцоров и перетянутых стрекозами Терпсихор185, которые перед каждым балом пляшут от радости: «Ах, бал, бал!»
С таким-то московским боярином свел случай магната венгерского. На другой же день он явился в дом и был представлен хозяйке. У себя в номере, в халате или венгерке, заметна была в магнате какая-то странность, необразованность приемов, что-то оригинально-грубое; но также видно было, что от самой колыбели он не был ни робок, ни стыдлив, застрахован от всякого смущения и поражения, чувств великолепием, блеском обстановки, величием. Как хамелеон, он внезапно отражал па себе все краски и свободно становился в уровень, на одну лоску, с кем угодно. Поднимаясь на ступени лестницы, обращенной в благовонную аллею антиподных растений и цветов, он как будто вдруг напитался ими и явился в гостиную таким благорастворенным светским человеком, что сеньора была вне себя от удовольствия быть первой, которой представляется венгерский магнат. Она сама взялась познакомить его с лучшим обществом Москвы, предуведомив, что дом ее есть центр образованной и просвещенной сферы и что она – солнце, которое согревает всю Москву разными родами parties de plaisirs186.
– Вы, без сомнения, были уже в Париже? – спросила она, зажмурясь немножко и нежно склонив голову на сторону.
– О, конечно, несколько раз, – отвечал Волобуж, – chavez-vous187, быть в Европе и не видать Парижа, все равно, что быть и Париже и не видать Европы, потому что существенно Европа и заключается только в Париже: все прочее – продолжение Азии.
– Ах, это так; там центр образованности. Кто наследовал теперь славу гостиной мадам Рекамье188?
– Никто, никто, решительно никто; да и возможно ли, скажите сами? Мадам Рекамье!.. Вы знаете, что это за женщина?…
– Ах, да, это справедливо; конечно, женщину такой любезности, такого образования трудно заменить. Так сблизить, соединить в своем салоне все чем-нибудь замечательное, все известности… это, это не так легко. Здесь не Париж; но вы не поверите, какое надо иметь искусство, чтоб быть амальгамой общества…
Сеньора с таким выражением утомления произнесла слова: вы не поверите, что невозможно было не поверить.
– О, верю, совершенно верю, – сказал магнат, – chavez-vous, я что взглянул на Москву, тотчас же понял, что это не Париж.
– Справедливое и тонкое замечание! – отозвался, наконец, сам хозяин. – Никакого сходства! Это удивительно! У нас так мало еще людей в кругу даже нашем, которые бы понимали истинное просвещение, что… но вы сами увидите у меня в доме все, что первенствует, даже не в одной Москве, но, можно сказать, в целой России… потому что tout ce qui excelle189 не минует моего порога.
Только что вельможный барин кончил речь, как вошедший слуга доложил, что опять пришел подрядчик, да и каретник пришел.
– Ты видишь, что я занят, глупец. Что ж ты мне докладываешь о пустяках.
– Подрядчик просит ответа-с на письмо своего барина.
– Скажи, чтоб завтра пришел за ответом; а каретник пусть придет послезавтра.
После отданного таким образом приказания людям барин продолжал велеречиво суждение свое о том, что Москва нисколько не похожа на Париж и что это проистекает именно оттого, что русские не умеют жить; и присовокупил к тому очень дельное замечание, что Петру Великому следовало гораздо ранее заняться преобразованием России и что, если б он занялся этим заблаговременно, то просвещение и устроенное им регулярное войско предохранили бы Россию от нашествия монголов.
– Скажите! – воскликнул Волобуж, – всеобъемлющий гений сделал такое упущение, и этого никто до сих пор не заметил?
– Никто, решительно никто!
– Это удивительно! какая была бы разница!.. Chavez-vous, вот что хочется мне знать: приезжал ли пустынник Петр проповедовать в Россию крестовые походы?
– Пустынник Петр?… – повторил хозяин, припоминая.
– Кажется был, mon cher, – сказала хозяйка.
– Да! точно! именно был!.. позвольте, в котором это году?…
– Не трудитесь, пожалуйста, припоминать: хронология и в этом и во всяком случае пустяки. Мне желательно только знать, отчего Россия не согласилась участвовать в крестовых походах?
– Отчего! – воскликнул барин, – просто невежество, непросвещение и только. Участвуй Россия – о, дела бы взяли другой оборот: милльон войска не шутка.
– Dieu, dieu!190 – проговорил магнат, глубоко вздохнув и уставив глаза на русского сеньора, – сколько в мире странных людей и событий!..
– Ах, – сказала хозяйка, наскучив разговором об исторических событиях России, – посмотрите на мою Леди… elle a dе l'esprit191; посмотрите, какие умные глаза.
– Чудные глаза! – сказал Волобуж, гладя Леди, и подумал: «На первый раз довольно!»
И он встал, раскланялся. С него взяли слово приехать на другой же день, на вечер.
– Да это злодей, просто злодей! – сказал Волобуж, сбежав с благовонной лестницы к подъезду.
– Что, сударь, верно, и тебе денег не платит? – спросил один из стоявших у подъезда двух человек.
«А! это, верно, подрядчик и каретник, – подумал магнат, взглянув на две бороды в синих кафтанах, – да, да, не платит!»
– Из магазина, верно, взял что?
– Нет, просто за визит не платит: делай визит ему даром, каков?
– Ты говори! все норовит на даровщинку; а еще такой барин и богач! прости, господи! заел у меня без малого тысячу!..
– Скажи, пожалуйста! каков! – сказал Волобуж, садясь в коляску.
– Куда прикажете? – спросил кучер.
– Куда?… вот об этом мне надо кого-нибудь спросить…
– Домой прикажете?…
– Ну, домой!.. что ж делать дома?… Дома люди обманывают самих себя, вне дома – обманывают других. Что лучше?… Фу, какой умница этот вельможа! В самом деле, если б Петр Великий начал преобразование России со времен Рюрика, то Россия с ее рвением к просвещению ушла бы далеко на запад, дальше солнца, если б не проклятые столбы… Да! кстати о просвещении… Ступай на Кузнецкий мост, во французский книжный магазин! Надо принять к сведению современный интерес, надо стать в уровень с мосье Baranovsky.
Приехав на знаменитый мост, магнат вбежал в книжный магазин и спросил современных книг.
– Каких угодно?
– Все равно, каких-нибудь; я ведь не люблю читать и размышлять, что хорошо или худо: и то и другое зависит от моего собственного расположения духа…
Лучшие сочинения теперь, я думаю, романы; в них и жизнь, и настоящая наука, и философия, и политика, и индустрия, и всё.
– Не угодно ли выбрать по каталогу.
– Да я приехал к вам, мой милый, не для того, чтоб терять время на выбор… Вы француз?
– Француз.
– Ну и прекрасно; давайте мне что хотите, – все хорошо; мое дело платить деньги, – чем больше, тем лучше.
Француз улыбнулся и собрал несколько романов.
– Не угодно ли вам эти?
– Очень угодно.
– Вот еще новое, очень занимательное сочинение.
– Роман? давайте, давайте! Не мало ли? Ведь я не читаю, а пожираю.
Набрав десятка два романов, Волобуж отправился домой и целый день провел в чтении. Но он читал, не разрезывая листов, не с начала, не от доски до доски, а так, то тот, то другой роман наудачу, как гадают на святках: что вынется, то сбудется. Это, говорил он, глупость, читать подряд; все равно, с краю или из середины; но главное, благоразумному человеку, посещающему свет, желающему говорить и рассуждать, нужны на ежедневный обиход карманные сведения, как карманные деньги. Почерпнув из книг или из журналов несколько блестящих, только что оттиснутых сведений, можно ехать с визитом, на обед, на бал, – куда угодно.
Когда Волобуж на другой день явился в гостиную русской Рекамье, для него уже было подготовлено знакомство, как для особенно интересного, высокообразованного путешественника и сверх того магната венгерского.
Каждый человек до тех пор ребенок, покуда не насмотрится на все в мире настолько, чтобы понять, что все в мире то же что ein-zwei-drei, ander Stuck Manier192, и следовательно почти каждый остается навек ребенком.
Это правило можно было приложить и ко всем тем, которые наполняли гостиную супруги вельможного барина. Любопытство видеть интересного путешественника так раздражило нервы некоторых дам, что при каждом звуке колокольчике которым швейцар давал знать о приезде гостей, пробегал по и жилкам испуг, головка невольно повертывалась к дверям, уст) как будто зубками перекусывали нить разговора, и некоторые становились похожи на известное беленькое животное, которое прослышав какой-нибудь звук, осторожно поднимает свои длинные ушки и прислушивается: что там за чудо такое?
Волобуж вошел и с первого взгляда поразил все общество; так взгляд его был смел и беспощаден, движения новы, а выражение наружности необычайно. Хозяин побежал к нему на встречу, – он взял хозяина за обе руки, как старого знакомого Хозяйка встала поклониться ему, – он без поклона сел подл нее и тотчас же начал по-французски, несколько английским своим наречием, разговор о Москве.
– Chavez-vous, мне Москва так понравилась с первого взгляда, что я намерен остаться в Москве, покуда меня не выгонят.
Произнося эти слова мерно и громко, магнат обводил взорами всех присутствующих в гостиной.
Хозяйка, по праву на свободную любезность с гостем, премило возразила на его слова:
– Так вам не удастся возвратиться в свое отечество!
– О, я чувствую, что даже не приду в себя, – отвечал магнат.
– Сколько приятного ума в этом человеке, – сказала вполголоса одна молоденькая дама натуральному философу, но так, что магнат не пропустил мимо ушей этих слов, а мимо глаз того взора, который говорит: «Ты слышал?»
«А, это, кажется, та самая, которой восхищался мой собеседник в театре», – подумал Волобуж, устремив на нее взор, высказывающий ответ: «Я не глух и не слеп».
– Я вам доставлю одно из возвышенных удовольствий, – сказала хозяйка после многих любезностей, – вы, верно, любите пение?… Милая Адель, спойте нам.
Одна из девушек села за рояль и потрясла голосом своим пены. Это уж так следовало по современной сценической методе пения. Теперь те из существ прекрасного пола, которые одарены от природы просто очаровательным женским голосом, не могут и не должны петь. Сентиментальности, piacere и dolce193 – избави бог! Теперь в моде мускулёзные арии, con furore и con tremore194, с потрясением рояля от полноты аккордов, а воздуха от полноты выражения чувств.
– Каков голос! – оказал хозяин, подходя к магнату.
– Необыкновенный голос! – отвечал он, – это такой голос, каких мало бывает, да еще и редко в дополнение. Вот именно голос! Это Гера в образе Стентора возбуждает аргивян к бою195!..
– Удивительный голос! Вы не сыграете ли в преферанс?
– С величайшим удовольствием: неужели здесь эта игра в моде? В Европе не играют уже в преферанс.
– Неужели? какая же там игра теперь в моде?
– Коммерческие игры перешли в коммерческий класс людей, там теперь преимуществует фараон.
– В самом деле?… У нас не играют в азартные игры.
– И прекрасно. Я сам предпочитаю искусство случайности.
– Вы играете по большой или по маленькой?
– И по большой и по маленькой вместе: когда я выигрываю, мне всегда кажется, что десять червонцев пуан игра слишком мала.
– О, у вас, в Венгрии, верно, слишком дешево золото!
– Где его меньше, там оно всегда дешевле, – отвечал Волобуж, собирая карты и говоря вперед: – играю.
Хозяйка и вообще дамы надулись несколько, что у них отняли занимательного кавалера, и не знали, чем пополнить этот недостаток, на который рассчитан был весь интерес вечера. Не игравшие, собственные, ежедневные кавалеры как-то вдруг стали пошлы при новом лице, как маленькие герои перед большим, который, как Кесарь, venit, vidit, vicit196 внимание всех дам. Они ходили около ломберного стола, за которым он сидел, становились по очереди за его стулом, прислушивались к его словам и возбудили досаду и даже ревность в некоторых присутствовавших тут своих спутниках.
Венгерский магнат не привык, казалось, оковывать себя светскими бандажами. Он нетерпеливо ворочался на стуле, как будто заболели у него плеча, руки, ноги, заломило кости, разломило голову. Дамы надоели ему своими привязками в промежутках сдачи карт, хозяин и два барина, которые играли с ним, надоедали ему то мертвым молчанием и думами, с чего ходить, то удивлением, какая необыкновенная пришла игра, то время от времени рассуждениями о том, что говорит «журнал прений» и что говорят в английском клубе.
Хозяин играл глубокомысленно: по челу его видно было, как он соображал, обдумывал ходы; но ходил всегда по общему правилу игры. Отступать на шаг от правил он не решался: приятно ли, чтоб подумали, что он не знает самых обыкновенных, простых правил игры. Какой-то сухопарый, которого грудь была «рамплирована» декорациями, все хмурился на карты, спрашивал поминутно зельцерской воды и несколько раз жаловался на обеды в английском клубе.
– Я всегда на другой день чувствую себя не по себе, – говорил он, не обращая ни к кому своих слов, как признак сознания собственного достоинства.
– А какая уха была, князь, – заметил хозяин, ударяя всею силою голоса на слово уха. – Какая уха была!
– О-о-о! Надо отдать справедливость, – прибавил тучный барин, сидевший направо от Волобужа. – Уха недаром «нам» стоила две тысячи пятьсот рублей!
– Как же, весь город говорил об ней! – сказал один молодой человек с усиками, в очках.
– Весь не весь, а все те, которые ели ее, – отвечал, нахмурив брови, тучный барин.
– Такому событию надо составить протокол и внести в летописи клуба, – заметил снова молодой человек с колкостью, отходя от стола.
– А вот наймем протоколиста, – сказал тучный барин, – какого-нибудь восторженного поэта, – прибавил он вполголоса.
– Браво, Иван Иванович, – сказал, захохотав, хозяин, – это не в бровь, а прямо в глаз.
– Нет, вы не жалуйтесь, князь, на стол в клубе. Для такого стола можно раз или два раза в неделю испортить желудок, – продолжал Иван Иванович прерванную речь свою.
– Ваш, однако же, нисколько, кажется, не портится, – сказал князь.
– Напротив, случается; но у меня есть прекрасные пилюли, и я, только лишь почувствую «несварение», тотчас же принимаю, и оно… очень хорошо действует.
– Завтра я непременно обедаю в клубе, – сказал хозяин.
– И прекрасно! Знаете ли что: вот, как мы теперь сидим, так бы и завтра повторить партию. Как вы думаете, князь?
– Я согласен.
– А вы? Вы не откажетесь завтра обедать с нами в клубе? – спросил Иван Иванович, обращаясь к Волобужу.
– С удовольствием, – отвечал Волобуж, – я так много и часто слыхал и за границей об английском московском клубе, что меня влечет туда любопытство.
– О, вы увидите, – сказал хозяин, – это удивительное заведшие.
– Академия в своем роде! – прибавил молодой человек в очках, проходя мимо и вслушиваясь в разговор.
– Это несносно! – проговорил тихо хозяин, уплачивая проигрыш.
– Охота вам приглашать этого молокососа, – заметил так же тихо Иван Иванович.
– Хм, жена, – отвечал с неудовольствием хозяин, вставая с места.
– Разлад полов и поколений, – сказал тихо и Волобуж, обращаясь к молоденькой даме, которая польстила его самолюбию.
– Отчего же разлад?
– Разлад, а говоря ученым языком, разложение организма.
– Докажите мне, пойдемте по комнатам, вы насиделись.
– Пойдемте.
– Как прекрасно отделан дом, не правда ли?
– Для моего воображения недостаточно хорош.
– Для вашего воображения, может быть, все недостаточно хорошо, что вы ни встречаете?
– О, есть исключение: встретив совершенство, я покоряюсь, влюбляюсь в него без памяти.
– А часто вы встречали совершенства?
– Встречали! вы не вслушались, я говорю про настоящую минуту… Сядемте, вы находились, – сказал Волобуж, проходя с собеседницей уединенную комнату.
Они сели; но ревнивая хозяйка не дала развиться их разговору и увлекла в залу слушать, как один monsieur передразнивал Листа197. Когда он кончил, венгерского магната уже не было в зале. Начались общие суждения и заключения об его оригинальности, уме, проницательных взглядах; дамы восхищались им; и одни только ревнивцы, вопреки наклонности своей к иноземному уму, понятиям, формам, условному изяществу, стали про себя корить соотечественниц своих, что они готовы обоготворить всякого беглеца с галер и позволить ему сморкаться в свои пелеринки.
На другой день Волобуж был у Ивана Ивановича с визитом и вместе с ним отправился в клуб. Около интересного путешественника, венгерского магната, тотчас, же составился кружок. У нас необыкновенно как идет большая рыба на каждого порядочного иностранца. Он ловко справлялся с толпой, жаждущей наслушаться его речей, бросал запросы, как куски на драку, стравил всех на спор о современном состоянии Европы.
– Я еще не знаю России, – сказал он, – знаю Европу; но не понимаю ее, совершенно не понимаю!
– Удивляюсь! Европу не так трудно понять в настоящее время… выслушайте! – прервал тотчас же один говорливый господин и принялся было объяснять значение Европы; но его в свою очередь прервал другой.
– Помилуйте, обратите только внимание…
– Позвольте, я на все обращу внимание, примите только в соображение финансы и богатство Англии…
– Финансы Англии! Но вы посмотрите на Ирландию.
– На Ирландию? Это пустяки! на нее не должно смотреть, она в стороне.
– В стороне! и очень в стороне от благосостояния.
– Нисколько! Если б не О'Коннель, мы бы ничего и не слышали об Ирландии198.
– Даже и голоду бы там не было.
– Без всякого сомнения!
– Ха, ха, ха, ха!
– Chavez-vous, – сказал Волобуж, которому надоела эта возня рассуждений о политике.
Все обратили на него внимание.
– Chavez-vous, я думаю, что дела сами собою показывают, на что должно обратить внимание… главное, земледелие.
– Так; но теперь главный факт есть то, что земледелие в Европе в ужасном упадке… разберем.
– Эту тему отложите, – оказал случившийся тут агроном, – я был в Европе и обращал на этот предмет внимание, исследовал все на месте.
– И видели возделанные оазисы посреди пустыни.
– Но какие оазисы!
– Ах ты, господи! Да что за штука золото обратить в золотые колосья!..
Это восклицание возбудило общий смех; но спор продолжался бы бесконечно, если бы не раздалось: «кушать подано!»
Мысли самых горячих спорщиков внезапно вынырнули из бездонной глубины, и все, как будто по слову: «марш!» двинулись в столовую.
Иван Иванович угощал московского гостя как будто у себя дома и возбуждал в нем аппетит своим собственным примером. Магнат дивился и на Ивана Ивановича и на многих ему подобных, как на адовы уста, которые так же глотают жадно души au haut go?t199.
– Русский стол похож, – сказал он, – на французский.
– О, нисколько: это французский стол, – сказал Иван Иванович, – иногда, для разнообразия, у нас бывают русские щи, ватрушки и особенно уха.
– Ах, да, chavez-vous, мне еще в Вене сказали, что в России свой собственный вкус не в употреблении. Впрочем, в самом деле: stchstchi! vatrouschky! oukha! diable!200 Это невозможно ни прожевать, ни проглотить.
Гастрономическая острота возбудила снова общий смех и суждения о вкусах.
После обеда условленная партия преферанса уселась за стол в infernale201, но Иван Иванович предуведомил, что в десять часов он должен ехать на свадьбу к Туруцкому.
– Сходят же с ума люди! Жениться в эти года и на ком! – сказал князь.
– Это удивительно! – прибавил seigneur, – неужели в самом деле Туруцкий женится на француженке, которая содержалась в тюрьме и которую взяли на поруки?
– Женится, – отвечал Иван Иванович, – но как хороша эта мадам де Мильвуа!
– Взята на поруки? выходит замуж, француженка? Мадам де Мильвуа? – спросил с удивлением Волобуж.
– А что? Неужели вы ее знаете?
– Статная женщина, не дурна собою, вместо улыбки какое-то вечное презрение ко всему окружающему.
– Именно так! Мне в ней только это и не понравилось. Так вы знаете ее? Да где же?
– Chavez-vous, это моя страсть, я потерял ее из виду и опять нахожу!.. выходит замуж, говорите вы?
– За одного богача.
– Браво!
– Где ж вы с ней встречались?
– Разумеется, в Париже.
– О, так ей приятно будет встретить вас здесь!.. И для Туруцкого, верно, будет это маленьким несчастием. Я скажу ей…
– Напрасно; она меня не знает. Впрочем, я бы очень рад Пыл возобновить маскарадное знакомство; я у нее непременно Куду. Где она живет?
Иван Иванович рассказал адрес дома Туруцкого и звал Волобужа ехать вместе с ним смотреть русский обряд венчания.
– Вместе не могу ехать, – отвечал он, – мне еще надо побывать дома; я приеду.
Партия преферанса скоро кончилась, князь вызывал на другую.
Иван Иванович соглашался, но Волобуж отказался решительно.
– В другое время хоть сто; я охотник играть в карты.
– Так завтра ко мне, – сказал князь, – мне желательно хоть сколько-нибудь воспользоваться пребыванием вашим в Москве, тем более что вы, верно, долго у нас и не пробудете.
– Право, сам не знаю; это зависит от обстоятельств: от собственного каприза или от каприза судьбы. У такого человека, как я, только эти два двигателя и есть.
Распростившись с своими партнерами, Волобуж вышел из клуба, сел в коляску и велел ехать по сказанному адресу в дом Туруцкого.
– Так вот она где! Мадам де Мильвуа! Скажите, пожалуйста! – разговаривал он вслух сам с собою. – К ней, сейчас же к ней!.. Посмотрим, узнает ли она меня?… Выходит замуж!.. Это пустяки! Я ей не позволю выходить замуж!.. Это мечта!.. Несбыточное дело!
– Вот дом Туруцкого, – сказал наемный слуга, сидевший на козлах и облаченный в ливрею с галунами, на которых изображен был так называемый в рядах общий дворянский герб.
– На двор! к подъезду! – скомандовал магнат, и когда коляска подъехала к крыльцу, он выскочил из нее, не останавливаясь и не спрашивая у швейцара, дома ли господин, госпожа или господа, вбежал на лестницу, не оглядываясь ни на кого из дежурных слуг, вскочивших с мест, прошел переднюю, как доктор, за которым посылали нарочно, которого ждут нетерпеливо, который торопится к опасно больному и который знает сам дорогу в самые отдаленные и заветные для гостей покои дома.
В зале, однако ж, встретив лакея, он крикнул:
– Мадам тут?
– Сюда, сюда пожалуйте-с.
По указанию своротив направо, Волобуж вошел в дамский кабинет, остановился, осмотрелся.
– Теперь куда? Прямо или влево?… здесь слышатся голоса…
Волобуж подошел к двери, хотел взять за ручку, но дверь вдруг отворилась и из нее вышел с картонкой в руках и с завитым хохлом что-то вроде французского петиметра.
– Мадам тут? – спросил Волобуж.
– Monsieur, она одевается.
– Хорошо!
И, пропустив парикмахера, он вошел в уборную, где сидела перед трюмо дама в пенюаре и, казалось, любовалась роскошной уборкой головы.
– Кто тут? – проговорила она по-французски, не оглядываясь. – Я сказала, чтоб никто не смел входить, покуда я не позову!
– Madame, я не слыхал этого приказания и прошу извинения, – сказал Волобуж, преклонив почтительно голову.
– Кто вы, сударь?
– Madame de Milvoie202, венгерский дворянин Волобуж осмеливается представиться вам…
– Что вам угодно? это странно, входить без спросу!
– Простите меня, я хотел только удостовериться, действительно ли вы та особа, которой я был некогда не противен… О, похожа… очень похожа!
– О боже! – вскричала дама, всмотревшись в лицо магната.
– О боже! она, она! – вскричал и Волобуж, приняв сценическую позу удивления, – это ты, ты!
Дама затрепетала, дух ее занялся, бледность выступила на лице ее сквозь румяны; она походила на приподнявшегося из гроба мертвеца в венке и саване.
Она хотела, казалось, кликнуть людей, взялась за колокольчик, но дрожащие губы не могли издать звука, поднявшаяся рука опала.
– Не тревожьтесь, не беспокойтесь, – сказал Волобуж, – прикажете кликнуть кого-нибудь? Сейчас же…
– Злодей! – проговорила она, задыхаясь.
– Так я запру двери.
И он повернул ключ в дверях.
– Чего ты хочешь от меня?…
– Успокойтесь, пожалуйста, я ничего не хочу от вас, – отвечал Волобуж, садясь на кресло, – ни вещественного, ни духовного блага. Я только приехал поздравить вас с счастливым обеспечением судьбы вашей и убедиться в ложном слухе, что будто вы выходите замуж… Я не поверил!..
– Мерзавец! Поди вон отсюда! Оставь меня.
И она в исступлении вскочила и, казалось, хотела боксировать.
– Знаете ли что, – продолжал спокойно Волобуж:
Драгоценные серьги, цветы, локоны, вся уборка головы прекрасной дамы трепетали, как от порывистого ветра листья на дереве; она без сил упала на кресла, закрыла глаза, закинула голову на спинку и, казалось, замерла, как убитая тигрица, стиснув зубы от ярости.
Волобуж продолжал преравнодушно нараспев:
– О боже мой, я бессильна, я не могу избавиться от этого человека! – проговорила, как будто внезапно очнувшись, дама, – оставьте, сударь, меня!
– Из чего, к чему горячиться? как будто нельзя сказать по-человечески всё то, что нужно? Все эти исступления доказывают только, что вы нездоровы, расстроены душевно и телесно. Ну, где ж вам выходить замуж, моя милая мадам де Мильвуа? Пустяки! Я вам просто не позволяю: и не извольте думать, выкиньте из головы эти причуды! Одного мужа вы пустили по миру, другого хотите просто уморить, – нельзя, моя милая мадам де Мильвуа, невозможно!..
– Милостивый государь! – сказала вдруг решительным голосом дама, – я вас не знаю, что вам угодно от меня? Кто вас звал? – И она бросилась к дверям, отперла их, крикнула: – Julie! позови людей! – И потом начала звонить в колокольчик.
– Все это пустяки вы делаете, – сказал равнодушно Волобуж, развалившись на креслах.
– Что прикажете? – спросила вбежавшая девушка. – Позови… – начала было дама.
– Позвольте, не беспокойтесь, я сам прикажу, – прервал ее Волобуж, вскочив с места, – сидите! Я сам прикажу: поскорей воды, милая! барыне дурно! Постой, постой, возьми рецепт.
И он побежал к столику, схватил листок бумаги, черкнул несколько слов и отдал девушке.
– Скорей в аптеку! бегом!
Девушка убежала. Дама, как помешанная, опустилась на диван, водила пылающими взорами. Грудь ее волновалась, как в бурю.
– Ничего, – сказал Волобуж, смотря на нее, – это пройдет. Пожалуйста, примите, что я вам прописал… Adieu, madame!205 Я тороплюсь посмотреть на жениха. Говорят, старикашка. Пожалуйста же, поберегитесь выходить. Я вам говорю не шутя! поберегитесь выходить замуж! на воздух же можете выходить когда угодно. Слышите? Adieu!..
Волобуж кивнул головой и вышел.
– Ступай в здешний приход! – крикнул он кучеру.
Простой народ толпился уже около церкви; но простого народа не впускали.
– Уж чего, гляди, и на свадьбу-то посмотреть не пускают! – ворчала одна старуха на паперти, – поди-ко-с, невидаль какая!.. Вели, батюшка, пустить, посмотреть на свадьбу, – крикнула она, ухватив Волобужа за руку.
– Кто не пускает?
– Да вот какие-то часовые взялись!
– Что за пустяки! Впустить! – крикнул Волобуж, входя в церковь. Там было уже довольно любопытных, в числе которых не малое число старцев, сверстников и сочленов Туруцкого. Все они как-то радостно улыбались; внутреннее довольство и сочувствие доброму примеру, что ни старость, ни дряхлость не мешают жениться, невольно высказывались у них на лице.
– Я думаю, еще ему нет семидесяти, – говорил один из сверстников.
– О, помилуйте! и всех восемьдесят! Вы сколько себе считаете?
– Мне еще и семидесяти пяти нет.
– Неужели? Вы моложавы.
– Посмотрим, посмотрим на Туруцкого, как-то он вывезет! На француженке!.. Она уж у него давно!
– Вероятно.
– Ну, в таком случае понятно, для чего он женится… Ah, monsieur de Volobouge!206 Вам также любопытно видеть свадьбу? Свадьба замечательная; эта чета хоть кого удивит: жениху за семьдесят лет.
– Что ж такое, – отвечал Волобуж, – chavez-vous, лета ничего не значат; кому определено прожить, например, сто лет, тот в семьдесят только что возмужал; а кому тридцать, того в двадцать пять должно считать старше семидесятилетнего.
– А что вы думаете, это совершенная правда.
– Сейчас едет барин, – сказал торопливо вошедший человек в ливрее старосте церковному, – свечи-то готовы?
– Готовы.
– Что, брат, слово-то мое сбылось, что пансионерок-то заводят для того, чтоб жениться на них.
– Уж ты говори! – отвечал староста, – греха-то теперь на свете и не оберешься!
– Чу! едут.
Все оборотились к дверям.
Вслед за Иваном Ивановичем и толпою других провожатых вошел жених, Платон Васильевич Туруцкий, поддерживаемый человеком.
– Вот, вот он, вот! – раздался общий шепот.
– Э-э-э, какой сморчок!.. Да где ж ему… Ах ты, господи!..
– Ну, роскошь! – сказал сам себе наш магнат.
Платон Васильевич, бодрясь, на сколько хватило сил, подошел к налою, перекрестился, посмотрел вокруг, поклонился и спросил Ивана Ивановича:
– Поехали ли за невестой?
– Как же, как же!.. Ah, monsieur de Volobouge!.. Посмотрите-ко, каков?…
– Молодец!
– А вот увидите, невесту, также молодец, bel homme207.
– Скоро будет?…
– А вот сейчас.
Насмотревшись на жениха, все снова устремили глаза ко входу в храм, в ожидании невесты. Чуть приотворится дверь…
– Вот, вот, верно она!..
Общий шепот затихнет.
– Нет, не она!
Долго длилось напрасное ожидание. Наконец, вошел запыхавшись Борис, и прямо к барину, сказал что-то ему на ухо. Но Платон Васильевич, верно, не расслыхал.
– А! едет? – проговорил он и побежал к дверям.
– Едет, едет! – повторилось посреди затишья. Снова все устремили глаза на двери.
Иван Иванович, разговаривавший с магнатом, побежал к дверям.
– Где же? Экой какой! Сам побежал высаживать из кареты!.. Что же?… где Платон Васильевич?
– Да они поехали домой, сударь, – сказал бегущий лакеи, – что-то случилось такое; невеста, говорят, заболела…
– Что-о? Вот чудеса! – сказал Иван Иванович, – слышите, господа? невеста заболела! да это, верно, просто дурнота… Невеста заболела! – повторил Иван Иванович, обращаясь к Волобужу, – я поеду, узнаю.
– Ну, какую наделал я суматоху! – сказал Волобуж, проталкивая народ, который стеснился в дверях с нерешимостью, ждать или выходить из церкви.
В море житейское впадают разные реки и потоки, вытекающие из гор, озер и болот, образующиеся из ливней и тающих снегов и так далее. У каждого народа свое море житейское. У одного оно авксинское, у другого эвксинское208, белое, черное, красное, синее и т. д. Из числа случайных потоков, впадающих в описываемое нами море, потоков, которые текут не по руслу, а как попало, был Чаров, о котором мы уже упомянули. Помните, он предлагал свои услуги и приют в своем доме Саломее, в роли несчастной мадам де Мильвуа. Набравшись воды от разлива ли рек, или от ливней, он вздулся и туда же клубил мутные волны, впадал в море, как какая-нибудь знаменитая река. В древности, когда поклонялись еще рекам, какой-нибудь греческий герой-путешественник, верно, поставил бы при устье его жертвенник в честь глупой фортуны.
Как бы вам изобразить Чарова яснее? Представьте себе милую, прекрасную, очаровательную женщину, которая сидит скромно, нисколько не думая вызывать на себя искательные взоры и лукавое внимание, и вдруг неизвестный ей мужчина, с сигарой в зубах, руки в карманах пальто, проходя ленивою поступью мимо, смотря на всех, как начальник на подчиненных, заметил ее, остановился, пыхнул дымом, уставил ничего не говорящие даже не любопытные глаза и рассматривает преравнодушно с головы до ног, как турок продажную невольницу. Смущение ее для него нипочем; худое мнение, как о человеке дерзком, его не заботит: видал он и получше ее скромниц и притворщиц в обществе, для которых первый t?te-в-t?te209 с порядочным человеком – полный роман с приступом, завязкой и развязкой. Все женщины, которые не были таковы, казались ему уродами; и потому, после первого осмотра с головы до ног или обратно, на них не стоило уже и смотреть: «c'est de la drogue»210, говорил он и шел далее.
Чаров был статный мужчина, лет тридцати, среднего росту, с наклонностью растолстеть под старость; носил усы и козлиную бородку. Выражение лица неопределенное, немного с винегретной приправой, глаза тусклые, голос изнеженный, речь медленная: уста как будто воротом вытягивали каждое слово из кладезя его ума на язык. Это был упитанный и изнеженный и родителями, и воспитателями, и богатством, и слепым счастием женообразный баловень, без дум, без страстей, без особенных желаний, но полный причуд. Он привык с малолетства, чтоб за ним все ухаживало, потешало его обычай, смешило. Опасаясь, чтоб что-нибудь не потревожило слабого здоровья ребенка, мать боялась противоречить ему и умасливала его детское сердце всем, чем угодно, когда он топал ногою и кричал. Какой-то бежавший с галер невинный француз211 был его гувернером. Он не затмил его разума, как наставник-немец; но напротив, открыл ему глаза и поставил на точку, с которой все вещи и люди кажутся в карикатурном виде, и нельзя не кощунствовать над ними и не называть уродами.
Когда Чаров взрос, его записали на службу, но он служил, как обыкновенно служат все приписные к службе, являющиеся к должности только для получения жалованья или вышедших наград. Не успев еще вступить в возраст мужа, Чаров приобрел уже право, на законном основании, расточать наследие. При этом условии все двери светских храмин перед ним были настежь, и у Чарова была тьма мимолетных друзей и приятелей во всяком роде, возрасте и звании, с которыми он обходился, как причудливый барин с своей подобострастной дворней; из каждого делал для потехи своей шута и без церемоний называл скотиной и уродом. Эта дружеская брань, как говорится: «на вороту не висла»; к ней точно так же привыкали, как к звуку mon cher. Он, правда, не говорил просто: «скотина», но протяжно и приязненно: ска-а-тина! – а известно, что le ton fait la musique212.
Одевался он, не рассуждая, что к лицу что нет; но все на нем было новомодно, тонко, мягко, гладко, бело; глянцевито. Во всем в нем было какое-то нравственное и физическое утомление, казалось, что и сам он давно бы на покой; но самолюбив было еще молодо, денег бездна, надо было куда-нибудь их девать; а между тем все прискучило, приелось. Бросать же деньги без позыва, без аппетиту, по прихоти чужой, он не любил, был скуп до скряжничества. Истощившись душевными силами, он, наконец, стал искать повсюду и во всем возбудительного. На женщин он тоже смотрел с этой целью и желал найти женщину энергическую, которая оживила бы и его собственную энергию. Когда иные из близких его, замечая в нем хандру, просто, здорово живешь, или по наставлению какой-нибудь близкой или знакомой маменьки, думали поджечь его на женитьбу и спрашивали: «что он не женится?»
– Ска-а-тина! – отвечал Чаров, зевая, – тебе для чего понадобилась моя жена? С чего ты взял, что я. заведу для тебя жену, когда она, собственно, для меня не нужна?
– Как будто я для себя, mon cher, прошу тебя жениться.
– Еще глупее, если для кого-нибудь другого.
– Для тебя собственно, чтоб ты не хандрил.
– Это еще глупее, ты у-урод, братец! Ты бы лучше придумал: женись сам; je te ferai cocu213, ска-а-тина; это меня порассеет немножко.
Охотников угождать в этом случае, однако же, не находилось и предложения faire partie d'un mariage214 не удавались.
У Чарова был великолепный дом со всеми причудами современной роскоши. Современную роскошь ни в сказках сказать, ни пером описать. Современная роскошь состоит из таких minuties215, которые надо рассматривать в солнечный телескоп; состоит не из произведений искусств и художеств, а из произведений ремесленных. Таков век, по Сеньке и шапка, да еще и красная. Чаров употребил на реставрацию отеческого дома тысяч триста. Плафоны, карнизы, стены, все блистало, горело золотом, несмотря на то, что на весь этот блеск Крумбигель употребил только один пуд латуни.
Чаров жил в доме один: но ни в одном доме, набитом семьей, не было такой полноты и тесноты, когда хозяин был дома. Залы и гостиные пустели только во время его отсутствия; между тем в каждый миг дня кто-нибудь подъезжал к резным дверям, выкрашенным под бронзу, спрашивал: «Чаров дома?» – и вздыхал, когда отвечал швейцар: «Никак нет-с!» Но едва Чаров возвращался домой, усталый, одурелый или опьянелый, следом за ним откуда ни возьмется стая дышащих к нему страстной дружбой; так и валят один за одним, как на званый вечер.
– А! это ты? – говорил он первому приехавшему, зевая, отдуваясь или разглаживая распахнутую грудь, – как я устал! залягу спать!..
– Что ж, и прекрасно!
– У-урод! разумеется, прекрасно!
– А вечер, дома?
– Вечер? Что такое ввечеру сегодня?… балет?… да, балет.
– Так прощай, mon cher.
– Куда?
– Поеду к Комахину.
– Врешь! Сиди!.. Подайте ему сигару!.. И Чаров шел спать.
Первый посетитель, исполняя приказ Чарова сидеть, сидел, как дежурный, зевая, в ожидании других посетителей.
Ожидание было непродолжительно: первый стук экипажа по мостовой, верно, утихнет у подъезда дома Чарова. Смотришь, влетит в комнату на всех парусах какой-нибудь mannequin, только что ушедший из магазина француза портного, и проговорит автоматически:
– A! mon cher, что, Чаров дома?
– A! mon cher! дома.
– Eh bien216, что, как?
– Где был?
– Черт знает где! фу, устал!
Третий, четвертый, пятый, десятый посетитель не спрашивал уже, дома ли хозяин, но спрашивал себе сигару. Гостиные наполнялись более и более дельным народом, образцовыми произведениями века и представителями его. Говор ужасный; рассказы, остроты, блеск ума, превыспренние суждения, политика, ха, ха, ха, и, словом, все роды звуков, которые издает звонкая голова.
Проснувшись, Чаров находит уже штаб свой готовым ко всем его распоряжениям, к дислокации около ломберных столов или к диспозиции похождений.
– Mon cher! Tcharoff! Что, спал, mon cher?
– Bête que tu est, mon cher217, ты видишь, я зеваю спросонков? Что ж ты спрашиваешь? – отвечает Чаров, зевая, как ад, проходя без внимания мимо бросившихся навстречу, к толпе, окружающей оратора, – Что это? Какая-нибудь новая эпиграмма? Аносов, повтори вчерашнюю… как бишь?
– Ну, что, – отвечал Аносов, молодой поэт высшего тона.
– Да ну же, когда говорят, так повторяй; ты на то поэт, ска-а-тина!..
Жестокое приказание поддерживается в угождение Чарову общей просьбой.
– Повторяй, Аносов!.. C'est delicieux!218
– Как, как? – спрашивает Чаров, прислушиваясь к шепелявому языку поэта, – как?… и дураку… какая шапка не пристала?… Повтор» еще! Я выучу наизусть и буду читать в клубе.
– Как это можно! Ни за что!
– Ха, ска-а-тина! боится!..
– Кто со мной в оперу?
– Ты едешь?
– Едешь.
– А нас звала с тобой Людинская на вечер; ты дал слово.
– Не поеду я к этой дуре!.. Это милая дура; она только очень умно предложила мне быть у нее… Я приехал, и вообрази: вдруг посылает звать своего мужа и знакомит меня с своим мужем… Очень нужно мне знать, что у нее есть муж, какая-нибудь ска-а-тина.
– Да, таки скотина, просто дурак! представь себе, я ангажировал ее у Кемельских на польку-мазурку, а он вдруг говорит ей, при мне: поедем, Леля, я худо себя чувствую, – и она должна была против воли ехать.
– Так ты думаешь, что он приревновал, струсил тебя, у-урод!
– Ну, этого я не хочу на себя брать; но как будто жена сиделка у больного мужа!.. Она мила, но бесхарактерна: она не должна была ехать, давши мне слово!..
– Ска-а-тина, – проговорил Чаров, надев на голову шляпу и смотрясь в зеркало. – Ну, едим!.. Мне хочется поспеть к третьему действию.
В театре Чаров никогда не обращал внимания на то, что играют, и, может быть, хорошо иногда делал. Он смотрел на сцену тогда только, когда являлась какая-нибудь танцовщица в виде парашюта и кружилась pied en l'air219. Все остальное время, вылупив глаза в лупу, он, как астроном, направлял свой телескоп на созвездия лож и наблюдал, нет ли какой-нибудь повой планеты.
Из театра Чаров отправлялся чаще всего в клуб; но если где-нибудь был бал, Чарову из приличия невозможно было не заехать на бал; но он не был из числа полотеров, он всегда становился где-нибудь на юру залы, как наблюдатель смотрел в лица танцующих и беседующих пар и кощунствовал и над зародышами любви, и над созревшею любовью, и над всем, что сквозило сквозь рядно бального костюма.
– Ecoutez, messieurs220, – говорил он толпе молодежи, которая всегда его окружала, – замучьте, пожалуйста, эту пристяжную… Дрянь! как она манерится… Allez, allez!221 Не давайте ей отдыху! Ах, жаль, что нет арапника!.. Ecoutez, честное слово: замучить до полусмерти, слышите? а завтра поедем все с визитом; если застанем еще в живых, так, верно, в горячке, в бреду от счастия, что на балу она была интереснее всех, всех собой очаровала и ей не давали ни на минуту покоя…
Настроив молодежь на какую-нибудь выходку или сплетни, Чаров отправлялся к делу. Счастливый в картах, он был несчастлив в любви, несмотря на то что был богат и очень недурен собою. Один только раз в жизни и предалось было ему непокупное сердце, да и то случайно, в минуту отчаяния, когда страждущая от любви женщина готова броситься из огня в полымя или на нож хирурга, с мольбою, чтоб он вырезал ей больное сердце.
В миг упоения, предшествующий полному забвению чувств, в Чарове разыгралось не сердце, а самолюбие.
– Ска-а-тина этот Рамирский, – сказал он, – думал отбить у меня мою Мери!..
– Тогда я не была твоею, ему не у кого было отбивать моего сердца! – произнесла вспыхнув Мери Нильская, вольный казак после смерти дряхлого мужа, не испытавшая еще блага любви.
– Полно! терпеть не могу притворства, а письмо? помнишь, ты мне написала: cher ami…222 не помню о чем-то… тьму нежностей!
– Нежностей? в то время? Я припоминаю, что я о чем-то просила; но обыкновенные дружеские выражения принимать за нежности! Это странно!
– Однако ж и Рамирский не хуже меня понял, и этого достаточно было ему, чтоб излечиться от глупости волочиться за женщиной, которая уже любит другого, бежать, провалиться сквозь землю…
– И он… он понял это письмо по вашему смыслу?… вы показывали это письмо… ему… как доказательство моей любви!.. – проговорила Нильская с чувством негодования.
– Что ж такое? Он, у-урод, простофиля, вдруг вздумал сондировать мои отношения с тобою; я, говорит, не могу понять этой женщины, кокетствует ли она со мною, как и со всеми, или в ней есть чувства; я, говорит, в нее страстно влюблен. Мне, право, стало жаль, что его сердечные волны бьются о камень; mon cher, я говорю, об этом надо было подумать пораньше: на твое предложение она тебе окажет: engag?e, monsieur223, и только.
– О, боже мой, не говорите мне больше, довольно!
– Это что такое, ma ch?re?… – спросил удивленный Чаров.
– Ничего; как было ничего, так и есть ничего! – отвечала Нильская, бросив на него взгляд презрения и удаляясь.
– Хм! Скажите, пожалуйста! – проговорил Чаров с холодной усмешкой, – с каким громом рушились нежные оковы любви! Верно, под старой кожей, ma ch?re, которую ты сбрасываешь, наросла новая.
Чаров без особенного горя отретировался от Нильской, которая, встретив в Рамирском человека по душе и по сердцу, но вдруг, без всякой видимой причины, оставленная им, хотела заглушить страдание апатическим чувством к искателю, выйти снова замуж и растратить душу на суету внешней жизни. Богатство Чарова могло очень хорошо способствовать этому решению, и в то же время самолюбие внушило ей мысль, что она в состоянии будет сделать из него порядочного человека.
Сердце Чарова стояло всегда около градуса замерзания, и потому он не сочувствовал и не понимал в других быстрых переходов от тридцати градусов жару на тридцать холоду; но все-таки рассердился.
– Что ты не в духе сегодня? – спросил его первый встречный приятель.
– Отстань, у-урод!.. – отвечал он. – Я не в духе! напротив, меня задушила эта проклятая Нильская!.. Это просто нечистый дух, понтинское болото!.. тьфу! Я не советую никому сближаться с ней!.. Поедем к Танюше!
В таборах глубоко уважали Чарова; встречали как благодетеля и милостивца. Табор, который удостоивал он своими посещениями, считал это явлением самого вывела. По всей улице высыплет египетское племя, как сыпь.
Чаров велит хору грянуть: «Моя миленькая!», и весь хор, обступив его, так и взрывает звуки, так и взбрасывает, так и вскидывает голоса в перебой, в перерыв, в перелив, – кипит ключом.
Чаров сидит безучастно, развалясь на креслах, зевает; ил», соскучившись, начнет топотать ногами, крикнет: баста! и едет со свитой своей в клуб.
В клубе почет ему не хуже табора. Там игрокам без него грустно, зевакам скучно. Там он игрок инфернальный. Когда Чаров играет, тогда из самых отдаленных стран, из лектюрной, из детской – отвсюду бегут смотреть, даже из каминной поднимаются с своих обычных мест три вечных сидня и идут в infernale. Риск Чарова, что называется, благороден, счастье Чарову везет, как машина в 777 тысяч сил.
Когда какая-нибудь карта дерзнет ему проиграть, он пр-равнодушно оглашает ее скотиной, рвет и бросает под стол. Наказывая так беспощадно виновные карты, он как будто нагоняет страх и на все прочие. Редкая проиграет ему, разве по неосторожности, без всякого намерения проиграть. Но он на эту неумышленность не смотрел, как законы Дракона224 на неумышленных преступников.
Невозможно, чтоб в каком бы то ни было человеке не было ровно ничего хорошего. Именно в Чарове вся светская пошлость дошла до изящества; на его изнеженность, которая достигла высшей степени развития и обратилась в разгильдяйность, нельзя было равнодушно смотреть: надо было хохотать или беситься; но в образованном кругу хохотать можно, а выходить из себя неприлично. Чаров был циник высшего круга. Все, что аристократизировало, было с ним знакомо, следовательно и верхолетные (de haute vol?e) ученые и литераторы. Он бывал на их утрах, обедах и вечерах; смотрел, зевая и потягиваясь в креслах, на их прения, покуда шел шум, а драки еще нет. Но едва прения принимали вид боя и декламирующие руки начинали уподобляться воздымаемым мечам на поражение врага, Чаров, в подражание философу-собаке, хамкнет, и разъяренные спорщики, как будто по манию волшебного жезла, заливаются громким смехом.
Чаров особенно терпеть не мог греческих богов и философов, римских добродетелей и героев и современных апофеозов силы ума и учености, даже терпеть не мог Наполеона и Гегеля. Едва имя Гегеля начинало чересчур греметь: «Ска-а-тина, у-урод, колбаса немецкая ваш Гегель! Мочи нет надоел!» – восклицал Чаров.
Подобное громкое определение заключало спор и смиряло воюющие партии.
Мы упомянули уже, что Чаров для возбуждения деятельности своих чувств искал женщины энергической. Русские дамы не нравились ему, особенно после неудачного романа с Нильской. Он возненавидел их и называл русское женское сердце «сиднем»: само собою не двигается, а двигать – с места не сдвинешь.
Когда ему возражали и доказывали, что образованную, прекрасную русскую львицу теперь невозможно уже отличить от парижской, что русские дамы имеют особенную способность постигать всю ловкость, утонченность и изящество тона сен-жерменских салонов, что это им делает честь…
– А тебе удовольствие, ска-а-тина? Подайте же ему полушампанского да сигару внутреннего производства из тютюну!
– Браво, браво! Ха, ха, ха, ха, – и рукоплескания повещали по всем комнатам остроту Чарова. Но он был равнодушен к славе своего ума и, нисколько не одушевляясь общим восторгом, продолжал спокойно речь свою об отвращении ко всему поддельному и заключал ее словами: «А я за всех твоих дам гроша не дам!»
Новый хохот и рукоплескания прерывали его; но он продолжал:
– А как же иначе, у-урод? а?… Если б, например, я вздумал жениться… не для тебя, ска-атина… а для себя… Если б я вздумал жениться на светской, образованной, милой женщине, то, разумеется, женился бы на француженке, так ли?
– Так, так, уж, конечно, так, – кричали одни.
– Да отчего же не на русской, mon cher, – вопрошал кто-нибудь, привыкший к возражениям; потому что возражая на все, можно также прослыть человеком умным, понимающим вещи, словом, мыслителем.
– У-урод! ты ничего не понимаешь!.. оттого, ска-а-тина, что я не хочу видеть какую-нибудь рожицу, на которой оттиснута чужая образина.
– Впрочем, что ж особенного и во француженках?
– Как что? Cette grace, ce je ne sais quoi225… Словом… ты, кажется, видел француженку у Далина?
– Нет, не видал; говорят, что не дурна.
– Не дурна!.. Да вот как не дурна: я бы женился на ней, если б хоть на грош имел способности быть глупым мужем. Право! Я бы взял ее к себе, да она какая-то гадина, каналья: какой-то выродок, старообрядка, с какой-то национальной гордостью, свинья!
– Кто с национальной гордостью?… – спросил, подходя, один из большесветских юных мужей, во фраке с круглыми фалдами, в пестрой жилетке, вроде кофты. – Кто с национальной гордостью? Что за гордость национальная? Скажите, messieurs, какая быть может гордость национальная? Например, я…
– Например, ты… – начал было Чаров.
– Нет, mon cher, не шутя, ты о чем говорил? скажи, пожалуйста, о какой нации?
– Да дай договорить! у-урод!.. – крикнул Чаров.
– Ну, говори, говори!
– Я хотел сказать, прежде всего, что ты, братец, ска-атина! Не выслушаешь и врешь.
– Non, vous badinez!226 ведь я не знал, о чем вы тут рассуждали; я сказал только свое мнение… например, французская нация…
– Да молчи! Я пошлю за полицией, чтоб тебе рот заткнули!
– Ну, ну, говори! Что ты хотел сказать?
– Ты знаешь француженку, что у Далина?
– Какую это француженку, что в кондитерской, у… Файе? ah, une tr?s jolie brune!..227 Представь себе…
– Иван! – крикнул Чаров, – беги в часть, скажи, что вот у него в трубе загорелось.
– Да я не понимаю, о ком ты говоришь? Какая француженка?… Ах, та, та, что у Далина… Madame, madame…228 Черт ее знает… Знаю, знаю… я спрашивал у него, он говорит, что она теперь у Туруцкого в компаньонках.
– У Туруцкого? – прервал франтик в очках хриплым стариковским голосом, – Туруцкий – холостяк.
– Ну, что ж такое?
– Как, что ж такое?
– Ну, конечно, что за беда?
– Вот забавно, старикашка древнее Москвы.
– Стало быть, он был на пиру, который давал Святослав?
– Не знаю, братец; надо справиться в новой поэме в лицах.
– Послушай, тебе кто говорил? Сам Далин?
– Что, mon cher?
– Mon cher, ты ска-а-тина, ничего не слушаешь!.. Тебе кто говорил про француженку? Далин?
– Далин, Далин; он сам мне говорил… именно, кажется, мне сам…
– Не может быть!
– Вот прекрасно, помилуй!
– Да врешь, братец, ты, ска-а-тина, все перепутал!
Интересуясь француженкой, Чаров отправился сам к Далину и вместе с ним, вы помните, к Саломее. Узнав про ее странное, несколько двусмысленное положение в доме Туруцкого, а вскоре потом, что она выходит за него замуж, Чаров так озлился на всех француженок, что всю ненависть свою к русским взвалил на них, называя безнравственными куклами, которые приезжают только развращать русские невинные и неопытные женские сердца, и не только женские, но и мужские и даже старческие.
– Ты что-то вдруг, mon cher, переменил свое мнение о француженках?
– Ну, врешь, у-урод, я не меняю своих мнений, может быть пьяный говорил другое… Знаете, messieurs, что теперь вся аристократия Франции перенимает тон и манеры у русских дам, приезжающих в Париж, ей-богу!
– Вот видишь, ты спорил, mon cher, со мною; положим, что грация принадлежит француженкам; но… ce je ne sais quoi229 принадлежит именно русским дамам.
– А что ты думаешь, – сказал Чаров, – не следуй они глупой французской моде ходить в лоскутьях и не называй себя «дамами», тогда бы это je ne sais quoi объяснилось, ну, что за нелепое название dame, dame, dame! Ну, что – «дам»?
– Браво, браво, Чаров!..
Вошедший человек с письмом помешал расхохотаться как следует.
– От кого? – спросил Чаров.
– С городской почты.
– А!.. Что за черт… monsieur… Чья это незнакомая женская рука?… – Чаров пробежал письмо и вдруг, вскочив с места, крикнул: – Карету! одеваться!
– Куда ты взбеленился? – Нужно; дело, неотлагаемое дело.
– Да доиграй, братец, партию.
– Мечта! некогда!.. adieu, enfants de. la patrie, le jour de la gloire est arriv?!230
И Чаров, откуда взялась прыть, побежал в свою уборную, потому что и у него была уборная, которая годилась бы любой даме. Тут было трюмо, тут было все, все роды несессеров.
– Одеваться! – повторил он, бросясь на кушетку и читая следующие строки, писанные по-французски:
«Вы встретили меня у господина Далина как жертву несчастия и предлагали кров и покровительство. Я колебалась принять ваше предложение, потому что боялась ожить душою: мне хотелось быть где-нибудь погребенной заживо, не в столице, а в деревне. Предложение господина Туруцкого было сходнее с моим желанием. Но судьба послала мне новую беду. Старик влюбился в меня без памяти, предложил мне свою руку. Я чувствовала, что этому больному добряку нужна не жена, а заботливая нянька. Мысль, что я могу успокоить, усладить его старость нежными заботами, соблазнила меня, увлекла мое пылкое сердце, склонное к добру. Я решилась. Но когда пришла торжественная минута, во мне не стало сил посвятить жизнь на то, чтоб лелеять и баюкать труп. Я заболела. И теперь не знаю, что делать. Выведите меня из этого ужасного положения; приезжайте ко мне сейчас же по получении записки, мне необходимо с вами говорить… При первой встрече с вами я оценила вас…
Эрнестина»
– Эрнестина! Ах, какое имя! Эй! – крикнул Чаров.
– Чего изволите? – спросил вошедший камердинер.
– И я так худо понял ее!.. Ну, что ж, одеваться-то!
– Что изволите надеть?
– Ска-а-тина! карету скорей!..
– Карету подали-с.
– Шляпу!
– А одеваться-то-с?
– Пьфу, урод! Ничего не скажет! Давай.
Чаров, как ошалелый, торопясь влезть скорее в платье, то попадал не туда ногою, то рукою, разорвал несколько пар жилетов и фраков и, наконец, схватил шляпу и поскакал.