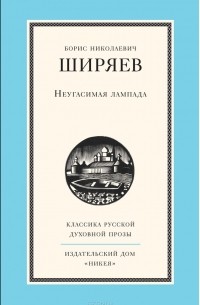Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 9. «СВОИ»
Эмбрион свободы творчества – ХЛАМ встретил отзвук и в массах уголовников. Там был также создан сценический коллектив «Своих».
Термин «свой» на блатном жаргоне определяет принадлежность к уголовному миру в отличие от «фрайера» – добропорядочного гражданина, объекта эксплуатации. В сознании уголовников он сливается с ощущением кастовой гордости. Эта психологическая черта русской шпаны очень недалека от корпорантского мировоззрения «славного старого Гейдельберга». Ведь и там, за дубовыми столами трехсотлетних пивных, мир делился на «добрых буршей» и «филистеров».
Традиции рождаются в «верхах» и просачиваются в «низы» медленно, но верно. В них они продолжают жить, хотя и в гротескной уродливой форме. Поблекший в «верхах» образ Чайльд Гарольда встает в ином наряде под заунывный мотив «классической» песни беспризорников «Позабыт, позаброшен», а слова песни:
почти точно повторяют стихи Байрона.
Организаторами «Своих» были бандит Алексей Чекмаза, взломщик Володя Бедрут и ширмач-карманник Иван Панин. Каждый из них был ярок, самобытен и колоритен.
Алексей Чекмаза был донским казаком. Германская, а за нею и гражданская война оторвали его от родного куреня, закружили, завихрили, и стал приказный Чекмаза заправским бандитом. Но «на деле» не попался, а был схвачен в облаве на «социально-вредных» и попал на Соловки. Стремление к личной, внутренней культуре жило и проявлялось в нем с большой силой. Он много и осмысленно читал, старался поговорить о прочитанном с интеллигентами, пытался и сам писать стихи, порою искренние, хотя и нескладные, неплохо исполнял в театре небольшие «рубашечные» роли… Организатором он был очень хорошим: дельным, чутким, в меру властным. Сказывалась учебная команда казачьего полка. Много позже я слышал, что по выходе из каторги он порвал с уголовщиной и стал заведующим большой фабричной столовой.
Совсем иным типом был Бедрут. Сын московского врача, окончивший одну из лучших частных гимназий, он вступил в годы безвременья, заразившись тлетворной «героикой» воров-джентльменов вроде леблановского Арсена Люпена, пришедшего на смену одряхлевшему Рокамболю. Современники этого последнего носили в себе те или иные моральные устои, ограждавшие их от его разлагающего влияния. Формировавшееся же в годы революционного распада сознание Бедрута не могло ничего противопоставить Арсену Люпену. Его путь был путем многих интеллигентных юношей того времени. Он привел Бедрута к Соловкам, где он занял место какого-то связующего звена между группами каэров и уголовников. Он приходился «к месту» и среди «своих», где его специальность взломщика занимала высокую ступень в своеобразной кастовой иерархии, и среди контрреволюционной молодежи, причем сам он ни в какой мере не приноравливался ни к тем, ни к другим.
Он был не лишен способностей: легко писал грамотные, трафаретные по тому времени стишки и был очень неплох в глубинно ощутимых им ролях, например, в роли Незнамова.
Безусловно талантливым был третий – Иван Панин, распевавший на сцене песенки и куплеты своего сочинения, приспособленные к ходким мотивам. В этих песенках он чутко и остро реагировал на окружающее, гармонично чередовал добродушный юмор и злую сатиру, выполняя функции лагерного Зоила или «соловецкого Беранже». С цензурой он мало считался, дополняя проверенные тексты экспромтами и импровизациями. Иногда его сажали в карцер, но долго не держали, т. к. его сценический жанр был по нутру самим тюремщикам и главным постоянным его заступником был комсостав Соловецкого особого полка. Он совпадал с культурным уровнем командиров и их запросом к сцене.
– Ишь, с… с…, как продергивает! С песком чистит!
Успех Панина был неизменен, и даже в серьезно выдержанных концертах, после Чайковского и Бородина, комсостав СОП категорически требовал Панина, который был всегда тут же, под рукой, и всегда с обновленным репертуаром.
Он был «премьером» «Своих», но их действительным художественным достижением был прекрасный хор в сто пятьдесят человек, созданный и обученный бывшим регентом Императорского конвоя, глубоко музыкальным старым казаком. Этот хор и выделяемые им трио, квартеты и секстеты давали широкий и красочный репертуар русских народных, а также арестантских и каторжных песен.
ХЛАМ и «Свои» просуществовали до 1927 года. Окончательно оформившийся концлагерный социализм смел их со своего победного пути.
Слушая песни «Своих», Глубоковский и я заинтересовались «блатным» языком и своеобразным фольклором тюрьмы. Мы собрали довольно большой материал: воровские песни, тексты пьесок, изустно передававшихся и разыгрывавшихся в тюрьмах, «блатные» слова, несколько рожденных в уголовной среде легенд о знаменитостях этого мира. Некоторые песни были ярки и красочны. Вот одна из них:
Не напоминает ли текст этой песни «Двух гренадеров», отраженных в кривом зеркале романтики уголовного мира?
На свою работу мы смотрели, как на фиксацию живого фольклорного материала для будущего исследователя. Издательство УСЛОН, о котором я рассказываю в дальнейшем, выпустило эту книжку страниц в сто тиражом в 2000 экз., и она попала в магазины ОГПУ на Соловках, в Кеми, на другие командировки, даже в Москву. Тут получился неожиданный, но характерный для того времени анекдот: издание было очень быстро раскуплено. Материалы по фольклору разбирались как песенник, сборник модных в то время (да и теперь в СССР) романсов…
Позже советское кино построило на том же материале имевший большой успех фильм «Путевка в жизнь».
Но двенадцать обязательных экземпляров, рассылавшихся издательством УСЛОН по закону в главные книгохранилища Союза, несомненно, дошли по назначению и наш труд даром не пропал.