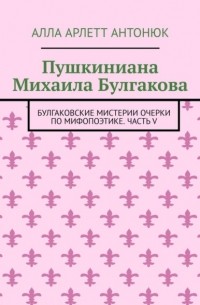Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
© Алла Арлетт Антонюк, 2023
ISBN 978-5-0059-9988-7 (т. 5)
ISBN 978-5-4496-4729-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пролог. «Незримый рой гостей»
Булгаков разыгрывает карту Таро «Мир»
…думы долгие в душе моей питаю.
И забываю мир…
«Я сладко усыплен моим воображеньем». Обычно литературную традицию понимают как прямую линию передачи от автора к автору, от текста к тексту. Но литературная традиция существует и как ноосфера, как аура, как симфония, в которой звучат, расходясь и сливаясь, все голоса всего симфонического многоголосия. Большой писатель слышит их все, различает все лейтмотивы, участвуя в диалоге культур, претворяя их опыт в собственную исповедь. Одна традиция при этом может вбирать в себя другую, обогащая и дополняя ее. Такой процесс подключения к ноосфере Пушкин образно нарисовал в стихотворении «Пророк» (некое переложение книги пророка Исайи), где все три основные сферы мироздания открываются его герою (поэту-пророку) для понимания устройства мира. В подходе к изображению этой сложной задачи Пушкин очень симфоничен, он обогащает библейский образ пророка образами греко-римской античной литературы, в которой также поэт уже понимался как пророк Муз и Аполлона.
Герой у Пушкина получает новый дар – слышать и видеть мир, получает возможность слышать совокупность всех голосов вселенной и сам становится «устами мира». Пушкин своеобразно представлял ноосферу как некую прародину, где живут все мысли и мысле-образы всех когда-либо живших на земле и мысливших образами художников, онипредстпвоял как «обитель дальную трудов и чистых нег». В его странствии к «сионским высотам» («Напрасно я стремлюсь…») слышится это стремление в «обитель дальную» («Пора, мой друг, пора…»), в «родимую обитель» («Воспоминания в Царском Селе»), где картины возвращения поэта предстают как картины возвращения к своему прадому, к своей прародине.
Пушкин знал, о чем писал также в стихотворении «Осень» («думы долгие в душе моей питаю. И забываю мир..»), когда он описывал знакомый ему процесс подключения к ноосфере: «И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние»:
Унаследованная через Пушкина тенденция совмещения сразу двух традиций: античной и библейской, постоянное нахождение на перекрёстке двух художественных миров с их вбирающей одна в другую конструкций мира и антимира, а также мысль о том, что тени ушедших художников связаны с живущими на земле и инспирируют их замыслы, оказалась очень близка Михаилу Булгакову как идея его романа «Мастер и Маргарита», также романа о возвращении «блудного сына» на свою прародину – к своему истинному дому – «покою», который Булгаков вслед за Пушкиным называет в романе также «вечной обителью». Тени писателей прошлого предстают в его романе «Мастер и Маргарита» также в особой области – вымышленной им некой обители Покоя, где они существуют как трансцендентные тени. В «вечном доме» Маргарита обещает своему возлюбленному встречу с его вечными обитателями: «Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе…». И здесь в словах Маргариты мы слышим у Булгакова некое вольное переложение пушкинских строчек из стихотворения «Осень»: «И тут ко мне идет незримый рой гостей, Знакомцы давние…» (ср. «вечером к тебе придут», – сказано у Булгакова Маргаритой, и тут возникают пушкинские образы: «знакомцы давние», «незримый рой гостей», которые расшифрованы ее словами как «те кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит». Заложенные в этих словах бесспорные аллюзии («вечером к тебе придут» … те, «кто тебя не встревожат»), есть конечно у Булгакова и гортанях ирония: аллюзия открыто также намекает на пережитую Мастером трагедию его жизни, и это по-новому открывает булгаковскую мифологему «покоя» как понятие истинной родины художника – трансцендентной родины, то место, где человеку уже никакие житейские бури не угрожают.
В этом же мире, создаваемом Булгаковым, живет и вечное перо Гёте, подаренное когда-то Пушкину как ученику от мастера. Воланд обещает и Мастеру Булгакова, что он будет там тоже «писать при свечах гусиным пером». Там в Вечности, в этой области покоя живет теперь и само творение Мастера – его роман, словно «памятник нерукотворный», который обретает новое бытие, его недописанные части там чудесным образом восполняются, осуществляя торжество полноты бытия всего человечества.
«Обитель дальная трудов»
Давно, усталый раб,
Замыслил я побег
В обитель дальную трудов
и чистых нег.
«Вот твой дом вот твой вечный дом».
Пушкинская «обитель дальная трудов» («Пора мой друг, пора!») и «мрачное теней жилище» («Тень Фонвизина»). Не только тени Пушкина и Грибоедова, Гоголя и Одоевского, Толстого и Достоевского витают в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Мы встречаем там и тени других русских и мировых писателей. И «повелителем теней» в этом мире у Булгакова является «дух зла и повелитель теней» мессир Воланд, так называет его один из героев романа – Левий Матвей (герой, который в то же время представляет у Булгакова архетип евангелиста). Тень Фонвизина тоже незримо присутствует на страницах романа, «прилетев» прямо из стихотворения Пушкина «Тень Фонвизина». Невозможно не заметить, что Булгаков развивает коллизию «загробного» путешествия Мастера и Маргариты совсем по Пушкину (и в то же время, делая это с точностью до наоборот). Поэт Фонвизин у Пушкина, вернее, его Тень из Эдема, где после смерти он удостоен находиться под покровительством самого Аполлона, оставив «виноградники в раю», пускается в трансцендентное путешествие в Россию, получив на то от повелителя мира Теней (нет, не «повелителя Теней» Воланда! но Феба, то есть, самого Аполлона) разрешение полететь в Москву, а прилетев, встречается там с уже знакомой нам «вечной» парочкой – редактором и поэтом. Не правда ли, уже знакомый нам сюжет? Булгаков разрабатывает этот сюжет в своём романе с опорой на пушкинскую коллизию, традицию которой сам А. С. Пушкин унаследовал из греко-римской античной поэзии, следуя которой он называл «повелителем теней» Плутона в своей поэме-мениппее «Тень Фонвизина». Подобно тому как трансцендентная тень рано умершего поэта Дениса Фонвизина совершает у Пушкина путешествие из мира теней («вечной обители») в российские города Москву и Петербург, герои Булгакова Мастер и Маргарита совершают своё путешествие туда, в «вечную обитель», которую Булгаков уготовил им как область Покоя. И это совершенно по Пушкину, в образной системе которого «обитель дальная трудов и чистых нег» (в стихотворении «Пора мой друг, пора!») предстаёт как область покоя и созерцания. Именно туда «замыслил свой побег» у Пушкина его герой, словно герой античной мениппеи.
В «Тени Фонвизина» «повелителем теней» Пушкин называет Плутона, а проводником Теней в миры иные – Меркурия (в греческом варианте у него он также встречается как Гермес или Эрмий). Поддерживая эту греко-римскую традицию, Пушкин называет Меркурия «почетным членом адских сил» и одновременно проводником тени усопшего поэта Фонвизина в мир иной («усопшего» поэта и «брата» по перу), которого Меркурий сопровождает в его трансцендентном путешествии:
Часть той трансцендентной «обители», которую Пушкин рисует в «Тени Фонвизина» и называет ее «светлы сени» (а герои Булгакова именуют «Покоем» – часть трансцендентной области «Света»), принадлежит Аполлону, который покровительствует художникам и их поэтическим трудам (и творчеству вообще). Подобный образ соотносится с мыслью современника Булгакова – писателя Леонида Андреева о том, что души ушедших творцов, находясь в определенном эгрегоре (по Булгакову, в эгрегоре Покоя, в «обители дальной трудов и чистых нег», по Пушкину), способны принимать участие в творческих актах живущих людей как представители старшего человечества (Андреев называет их план бытования миром даймонов).
Булгаков в «Мастере и Маргарите» развивает подобную мысль, что тени художников из «вечной обители» («даймоны», по Леониду Андрееву, «тени» по Пушкину) на протяжении всей истории человечества инвольтируют в сознание художника образы иной реальности и символы, через которые начинает затем сквозить сама истина мироздания.
Духовное пространство «памятника нерукотворного». Пушкин и сам себе уготовил особое место как особое пространство в этом мире трансцендентных теней, нарисовав вечную «обитель дальную трудов», где будет жить его «душа в заветной лире». Он создал эту конструкцию в своём программном произведении – в стихотворении «Памятник». В нем мы также найдём особое представление Пушкина о прародине художника и символическое обозначение самого человека как храма – жилища для его души (поэтический образ, который многократно встречается в Библии в Посланиях апостола Павла). Он соединяется у Пушкина с античной идеей горацианского памятника и предстаёт как некий эгрегор, как место нетленного творчества («мой прах переживёт и тленья убежит»). В духовном мире поэзии Пушкина всегда уживались христианские мотивы с идеалами античной поэзии: христианские идеалы любви, милости и смирения с античными идеалами свободы, славы и красоты. В стихотворении «Пророк», где обобщение поднимается на необыкновенную высоту, о вдохновении поэта рассказано как о духовном преображении человека, взыскующего света, истины и добра, а о призвании поэта – как о призвании пророка, призванного самим богом. Все те образы, которые в «Памятнике» Пушкина сочетаются с христианскими образами: души, завета, Бога, Божьего лика (Спаса нерукотворного), Христа и христианина и уподобление их нерукотворенному храму – мы встречаем затем и в романе Булгакова в виде развёрнутых метафор и явных или скрытых цитат из Пушкина. И как это свойственно безграничной ноосфере, образы эти начинают жить у Булгакова также обогащённые опытом других художественных миров – через образы Толстого и Достоевского.
Булгаков разыгрывает карту Таро «Мир». Св. Иоанн Богослов в Святом Откровении (Апокалипсисе) создаёт символ единства ноосферы как единый образ творчества четырёх евангелистов. Он представлен у него как некий символ в виде тетраморфного божества с четырьмя ликами: человека, льва, быка и орла (который использован также в системе Таро в «Марсельской колоде» как символическое изображение четырех евангелистов по четырём углам карты «Мир» – Аркан 22). Евангелист Св. Матфей представлен в этом тетраморфном символе единства как ангел, Св. Марк в образе Льва, Св. Лука в образе Тельца, а Св. Иоанн в виде Орла.
В структуре романа «Мастер и Маргарита», в котором присутствует бесконечный «незримый рой гостей» из ноосферы, с которым Булгаков ведёт свой обширный диалог культур, тоже присутствует этот тетраморфный символ, который проглядывает у него ликами четырёх русских писателей (словно по краям его личной карты «Мир» – его художественного мира и вселенной): это лики писателей Пушкина, Гоголя, Толстого и Достоевского. Они проступают через его метод – метод интертекстуальности, через многослойные реминисценции и скрытые аллюзии, создающие это некое единое божество как тетраморфный символ, обозначенный святыми именами четырёх русских писателей, служивших не только Мельпомене, Талии и Гинии, как говорит один из героев романа, но и устремлённых в своём творчестве к «сионским высотам», по выражению самого Пушкина. В творчестве этих четырёх русских писателей уживаются христианские идеалы любви, милости и смирения с античными идеалами свободы, славы и красоты, как они уживались в духовном мире поэзии Пушкина, отразившей ренессансный поворот в истории европейской мысли и художественного сознания.
Законспирированная жизнь рукописей в романе «Мастер и Маргарита» («Дней минувших анекдоты От Ромула до наших дней»). «Обитель дальная трудов и чистых нег», по Пушкину, и Покой – «вечная обитель» и «вечный приют», по Булгакову – это трансцендентная потусторонняя область, где всякая неполнота бытия и творчества восполняется. С рукописями, как и с героями поэтому происходят у Булгакова в романе удивительные события и явления. В них проявляется какая-то своя законспирированная жизнь. Они исчезают или, наоборот, неожиданно появляются, восполняя недостающие главы истории и бытия человечества, обуславливая таким образом полноту мироздания, природа и миры которого дуальны и взаимопроникаемы. «Душа в заветной лире мой прах переживёт», – так осмыслял жизнь своей поэзии Пушкин в «мире вечном». И с этой точки зрения, по Булгакову – «рукописи не горят». Булгаков словно актуализирует в своём романе «дней минувших анекдоты От Ромула до наших дней», перечисляя знаменитые рукописи, с которыми связаны казусные моменты истории прошлого («анекдоты», по Пушкину). Более того, с этими древними рукописями связано вообще появление мессира Воланда на Патриарших в Москве уже в прологе романа, в булгаковский сцене с поэтом и редактором на скамейке. С этой точки зрения, интересно упоминание в его романе об анналах Тацита (хрониках римских времен), о которых сообщает редактор Берлиоз, споря с поэтом Бездомным.
«Глава 44-ая знаменитых Тацитовых «Анналов». «Повелитель теней» Воланд таинственно возникает в романе Булгакова в тот самый момент, когда редактор Берлиоз ещё раз повторил поэту Бездомному свою мысль об Иисусе, «которого на самом деле никогда не было в живых». В споре поэта с редактором о том, был ли Иисус или нет, «Михаил Александрович <Берлиоз> сообщил поэту, между прочим, и о том, что то место в 15-й книге, в главе 44-й знаменитых Тацитовых «Анналов», где говорится о казни Иисуса, – есть ничто иное, как позднейшая поддельная вставка». Подслушав подобное высказывание Берлиоза, Воланд («повелитель теней», то есть, в какой-то мере хранитель вечных рукописей), словно свалившись с неба, буквально влезает в разговор поэта и редактора, принимаясь оспаривать Берлиоза и даже самого Тацита, римского сенатора, написавшего исторические хроники времен императора Тиберия.
Назвав себя знатоком чёрной магии и чернокнижия («я единственный специалист в этой области»), Воланд сообщает, что прибыл по приглашению как консультант, чтобы растолковать древнюю рукопись. Мы ещё вернёмся к этой рукописи якобы Герберта Аврилакского, но сейчас нас заинтересовала другая рукопись – якобы отсутствующая Глава исторических хроник Тацита, которая была вставлена в его хроники, как утверждал Берлиоз, гораздо позже. И это была (опять же, по утверждениям Берлиоза, Глава о казни). Оспаривая «осведомленного» редактора Берлиоза, Воланд начинает рисовать исторические картины (инвольтировать в сознание литераторов) некую версию событий прошлого из жизни Иудеи, повествующую о суде прокуратора Пилата над бродячим философом Иешуа, который закончился обвинением и казнью. И Воланд повествует об этом так, словно сам был свидетелем событий в Ершалаиме: «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат…».
Возникает даже впечатление, что Воланд произносит текст исторической хроники (относящей нас к дате 14-ого нисана). Казнь Иисуса (Иешуа), как известно из Библии, произошла в пятницу 13-ого (по другим источникам, с четверга на пятницу, ещё по другим – 14-ого нисана, но доподлинно это неизвестно). Однако Воланд вдруг принялся пересказывать литераторам историю казни именно с даты «14-ого числа весеннего месяца нисана» – так, словно восполнял отсутствующую главу римских хроник (возможно, и из анналов Тацита). Декламация «главы о суде и казни» становится у Воланда доказательством существования Иисуса (в этой версии он настаивает, что его имя во времена Ершалаима звучало именно так – Иешуа, то есть, в его изначальном звучании на древнем иврите).
Если обратиться к трудам Тацита, который во времена Ершалаима был римским сенатором и патриотом, то там не обнаружится, естественно, никакой симпатии к первым христианам, появлявшимся уже тогда уже в Риме. Знания о том, кем был на самом деле Иешуа (Иисус), мы тоже там не обнаружим. Более того, Тацит судил об Иисусе и о первых христианах (собственно, как о них судил и Берлиоз, живя в советской атеистической Москве), – без всякой симпатии. Тацит мог судить о первых христианах лишь по самым не лучшим слухам о них, которые тогда уже распространялись в Риме, например, о том, что во время ритуалов евхаристии христиане ели тело и пили кровь своего бога (заметим как здесь в этом факте сама история переживает зарождение фарса как жанра). Слишком негативный тон самого отрывка Тацита из его анналов, его уничижительный язык, используемый им для описания таинств христиан, однако, говорит о том, что отрывок вряд ли мог быть на самом деле поздней христианской подделкой (как утверждает, например, историк Ван Ворст, а у Булгакова литератор Михаил Берлиоз, председатель литературной ассоциации МАССОЛИТ).
Воланд – знаток и хранитель древних рукописей. Сатана Воланд словно заявляет себя обладателем некой виртуальной библиотеки (нечто вроде утерянной тайной библиотеки Ивана Грозного), хранителем которой он себя назначает. Якобы он приехал в Москву как консультант по приглашению растолковать древнюю рукопись Герберта Аврилакского.
Однако в романе Воланду пришлось толковать не столько рукопись Герберта Аврилакского, сколько судьбу Берлиоза (возможно, исходя именно из той самой мифологической подоплеки, которая описана в одной из этих древних рукописей).
Оказывается, Сатана не только знаток рукописи Герберта Аврилакского, не только способен наизусть процитировать главу таинственной рукописи о казни Иешуа, возможно, речь идёт о той самой главе из Анналов Тацита, о которой говорил Берлиоз как о поздней вставке (глава из Анналов Тацита тоже была посвящена, по словам Берлиоза, казни Христа). Не есть ли это та самая глава, которую Воланд затем и пересказывает московским писателям. Не может ли быть так, что это та самая, которую Мастер «угадал» и воссоздал в своём романе о Понтии Пилате?
«Рукопись» Герберта Аврилакского и эсхатологические даты («…план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу»). На вопрос о целях своего визита в Москву Воланд отвечает, таким образом, что он прибыл по приглашению – как специалист по чёрной магии, утверждая, что он единственный специалист по древним чернокнижникам и приглашён расшифровать и растолковать древнюю рукопись Герберта Аврилакского, римского папы Сильвестра II, о котором легенда говорит, что он выиграл папство, играя в кости с дьяволом (то есть, собственно, с самим Воландом!): «…в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского, десятого века, так вот требуется, чтобы я их разобрал. Я единственный в мире специалист», – сообщает Воланд литераторам. Были ли действительно у сатаны намерения «разобрать рукопись», этот намёк Воланда остаётся моментом непроясненным в романе. О какой рукописи Герберта Аврилакского (Сильвестра II – Папы Римского X века, в миру Герберта из Аврилака) намекает Воланд, также остаётся некой загадкой, которую нам оставляет Булгаков в романе. Зачем Воланд из «темного Теней жилища» отправляется прямо в Москву, совершив на грозовом облаке своё трансцендентное путешествие, современные литературоведы гадают и спорят до сих пор.
Но если Воланд у Булгакова и является «единственным в мире специалистом», то скорее всего, лишь «специалистом» по тем самым договорам («договорам дьявола»), которые он действительно главный и «единственный в мире специалист» заключать. Скорее всего, упоминание Воланда о «подлинной рукописи» – это некая аллюзия Булгакова, которая говорит нам, в первую очередь, о дьяволе как «специалисте» заключать и подписывать договора, в чем он действительно большой специалист. И когда Воланд упоминает имя Герберта Аврилакского, то скорее всего намекает на договор, по которому ему и достался титул понтифика – папы римского.
Интересно уже то, что понтификат Сильвестра II приходился на круглую дату – 1000-летие от Рождества Христова (именно здесь у Пушкина, например, начинается в неоконченных Сценах из Фауста тема бала: «Сегодня бал у Сатаны, На именины мы званы»), которую будет развивать и Булгаков в своём романе. Отсчет тысячи лет назад от времени происшествий в Москве, описанных в «Мастере и Маргарите», действительно падает на время жизни «чернокнижника» Герберта Аврилакского, на те даты его жизни (начало X века), когда он действительно был архиепископом в Реймсе (999—1003) и собирал списки древних книг по всей Европе, очень серьезно занимаясь при этом изучением античной литературы. Известно, что его библиотека хранила уникальнейшие образцы сочинений римских и греческих авторов. Но вот о «подлинной рукописи» Герберта Аврилакского нигде не упоминается.
По одной из легенд, по которой папа Сильвестр II, выиграл папство у дьявола, он имел с ним дело, играя в карты. И здесь интересно заметить, Пушкин тоже рисует эпизод игры в кости в преисподней в своих сценах о путешествии Фауста и Мефистофеля в аду, где доктор Фауст в сопровождении дьявола посещает саму богиню Смерти.
Факт неожиданной карьеры и папство Герберта Аврилакского (с которым олицетворяли также образ чернокнижника Фауста, переписавшего библию), получается, не такой уж случайный (не забудем в этой связи также о роли папы как наместника Христа на земле).
Если быть совсем уж точным, то дата вступления Герберта Аврилакского на папство приходилась на 999 год от Рождества Христова. В оккультной интерпретации эта дата является зеркальным отражением оккультного числа 666, которому всегда придавали особое значение как содержащему число антихриста. Здесь интересно прояснить само понятие Антихриста и как оно связано с миссией папы. С этой точки зрения, Герберт Аврилакский (папа Сильвестр II, собственно, «наместник Христа», что и означает изначально слово «антихрист» («αντίχριστος», то есть, «вместо Христа» – «αντί του Χριστού»).
Мотив противостояния Христа и Антихриста как конфликт верховных властей (земной власти папы и божественной власти сына) присутствует и во вставной Легенде о Великом инквизиторе в романе Достоевского «Братья Карамазовы», где действие происходит в Испании, в Севилье, где папа вершит инквизицию, а сошедшему к людям Христа он упрекает: «Зачем же ты к нам пришёл?», – заявляя также: «Мы давно уже не с тобой, а с ним», – имея в виду искушающего дьявола (которого он называет также «великий и могучий дух»). Так в легенде Достоевского проясняются эти связи между Христом и папой, которые в романе Булгакова звучат аллюзивно, создавая некую тайну, которую несет с собой дьявол Воланд.
Тысячелетнее заточение. Мифологема тысячелетия. По легендам, таким образом, Герберт Аврилакский таинственным образом был связан с сатаной (по крайней мере, у Булгакова в романе есть на это намёк, ведь не случайно сатана Воланд упоминает в своих речах о понтифике Герберте Аврилакском, папе X века). Догадки об этой связи (дьявола и антихриста) подтверждают также самые разные другие легенды, имевшие хождение в мире. Как известно, Легенда о падших ангелах говорит, что бог низверг сатану в ад, положив ему наказание в 1000 лет за то, что тот возглавил мятеж среди ангелов и восстал против Бога. Существуют самые разные вариации этой легенды, получившие развитие и в фольклоре и в литературе, и особенно в оккультисткой литературе, созданной в оккультных кругах, к коим относился и сам Герберт из Аврилака. Оккультист Джон Бэйл даже утверждал, что именно маг и оккультист Герберт Аврилакский посредством некромантии освободил сатану из его тысячелетнего заточения. Правды никто не знает, но в версии Булгакова его сатана Воланд («дух зла и покровитель теней»), возможно, не случайно произносит таинственную фразу о неких высших планах на тысячелетие (для него-то самого как для дьявола это заточение оказалось «смехотворно коротким сроком»): «Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день?», – загадочно вопрошает мессир Воланд литератора Берлиоза. Не намекает ли здесь Воланд на своё собственное тысячелетнее заточение в аду, намекая также и на то, как бог «управился» с ним, а одновременно и на то таинственное обстоятельство, которое связано с его освобождением?
Тысячелетнее заточение как особый срок не раз аллюзивно упоминается у Булгакова и варьируется в сюжете, имея также отношение к тысячелетнему заточению Пилата – приблизительное тысячелетие его «адских» мучений в скалах в трансцендентном измерении («двенадцать тысяч лун» – это и есть тысяча лет). В облике Пилата как палача, отправившего Иешуа на казнь, через мифологему тысячелетия раскрывается у Булгакова тайна времени и единство дьявольских личин. Одно тысячелетие ознаменовано славой Христа (тысяча лет со дня рождества Христова), другое тысячелетие ознаменовано концом заточения и освобождением дьявола из плена в аду (по легендам, не без помощи оккультных сил Герберта Аврилакского).
Сама дата, знаменующая начало карьеры архиепископа Герберта Аврилакского, которая приходилась на 999 год, когда он становится сначала священником Реймского собора, факт довольно примечательный.
В этой связи высказанный Воландом намёк о рукописи чернокнижника, ставшего папой Сильвестром II, единственным знатоком которой Воланд себя считает, действительно начинает прояснять некоторые обстоятельства возможного договора Герберта Аврилакского с дьяволом. Но Булгаков не сразу развивает эту линию в романе, обрывая ее смертью Берлиоза, которая тоже оказывается довольно загадочной в романе. Тема договора с дьяволом всплывает в линии романа лишь связанной с Маргаритой, которая принимает приглашение на бал, правда ещё не зная, что она тоже подписывает тем самым договор с дьяволом, который будет испытывать ее («Мы вас испытывали», – говорит Воланд в сцене после бала).
Тема вхождения в Иерусалим. Начиная с пролога, «рой незримых гостей» в романе Булгакова значительно обогащается все новыми, которые, нужно заметить, несут многочисленные пушкинские аллюзии. Если внимательно присмотреться к истории Герберта Аврилакского, священника из Реймса, пережившего по воле дьявола грандиозный взлёт и падение, то в ней мы обнаружим и коллизию поэмы Пушкина «Монах» с сюжетом о том, как черт заполучил душу монаха, мечтавшего о путешествии в Иерусалим. Подлинная рукопись «Монаха» Пушкина (написанная ещё в 1813 году), к тому же действительно была обнаружена в государственных архивах (в горчакрвском архиве) только в 1928 году, и нельзя исключить, что упоминание о «найденной в архивах подлинной рукописи» у Булгакова в романе есть косвенный намёк на реальное обнаружение рукописи Пушкина (хотя Булгаков и приписывает рукопись Герберту Аврилакскому).
В поэме Пушкина «Монах» священник соблазняется обещаниями черта, а оседлав его, въезжает в Иерусалим верхом, чтобы поклониться гробу господню. Именно на этом эпизоде Пушкин заканчивает свою поэму как вольную интерпретацию легенды о монахе, оседлавшем черта, предупреждая, однако, читателя о том, что не стоит доверяться глумливому черту, потому что никогда неизвестно, какую шутку тот может сыграть с профаном, подписавшим с ним договор. Булгаков же начинает свой роман прямо с подобного предупреждения, назвав первую главу: «Никогда не разговаривайте с незнакомцами». Диалог через века здесь явно обнаруживается в Булгакова. Вспомним также сюжет пушкинской сказки о старухе, пожелавшей стать владычицей морскою, чтобы повелевать золотой рыбкой. Пушкин не включил в окончательную редакцию эпизод, где старуха становится папессой и, увенчанная папской тиарой, восседает на властном троне. (Этот эпизод из сказки Пушкина тоже хранился и хранится до сих пор в госархивах). Результат известен – старуха, мечтавшая стать, в том числе, и папессой, оказалась у разбитого корыта. В этой связи папство Герберта Аврилакского, по одной из легенд, тоже закончилось печально: Черт здесь сыграл коварную роль. Смерть понтифика случилось в тот самый момент, когда в его жизни возникла тема вхождения в Иерусалим. Игра черта в детали как специалиста подписывать договоры удивляет при этом своей изобретательностью. Месса, которую папа Сильвестр II должен был отслужить в Риме в Иерусалимской часовне, стала для него роковой (как вступление Иешуа в Ершалаим стало роковым для бродячего философа в сюжете романа Булгакова, где Понтий Пилат опасливо спрашивает Иешуа, правда ли, что он въехал в Иерусалим на осле…).
Мы знаем ответ Иешуа, что и осла-то у него никакого не было. Понтифику же Герберту Аврилакскому оракул предсказал, что его жизни ничего не угрожает только до тех пор, пока он не войдет в Иерусалим. Но однажды ему пришлось отслужить эту мессу, посвященную празднику Входа Господня в Иерусалим. И эта месса, говорят, стала для понтифика (папы Сильвестра II, в прошлом колдуна и мага, отлившего себе металлическую голову оракула, используя астрологические таблицы), стала тем самым роковым вступлением в священный город: сразу после чего папа Сильвестр и умер.
*По другому варианту легенды, оракулом была голова мраморной античной статуи, стоявшая на рабочем столе Герберта. Перед смертью, однако, он велел кардиналам рассечь свой труп на части, чтобы дьявол не смог унести его всего целиком. Здесь для Булгакова начинается новый мотив для сюжета его романа – с отрубанием головы.
«Подлинная рукопись Герберта Аврилакского». Некоторые ученые литературоведы (например, К. Хок) считают, что именно Герберт Аврилакский (папа Сильвестр II) послужил прообразом для создания первых легенд о чернокнижнике докторе Фаусте, который подписал контракт с дьяволом в обмен на свою душу. Дьявол обещал по договору показать Фаусту все тайны света и даже его обратную невидимую сторону. Что касается загадочных слов Воланда о такой же загадочной рукописи Герберта Аврилакского, из-за которой он якобы появился в Москве, это, скорее всего, такая тонкая аллюзия дьявола, созданного Булгаковым, за которой скрывается факт договора (в данном случае, факт договора с папой, который также не раз подписывал его и с другими колдунами и магами), о чем рассказывают многие легенды, в том числе и многочисленные легенды о докторе Фаусте.
Что касается Герберта Аврилакского, учившегося магии в Испании у колдуна и мавританского чернокнижника из Толедо, в одной из легенд, действительно упоминается некая рукопись с математическими таблицами, украденная им у своего мага-учителя, которую ему удалось добыть, влюбив в себя его дочь. Поэтому упоминание о некой «подлинной рукописи» Герберта Аврилакского, якобы обнаруженной в архивах, в романе Булгакова может также быть аллюзией, связанной с этой магической книгой, изначально хранившейся у колдуна-звездочёта (арабская математическая рукопись, арифметические таблицы, нечто вроде современной программы 1С, сводящей дебит с кредитом). Чтобы вернуть эту украденную Гербертом рукопись, колдун-отец по звёздам вычислил его путь (нечто вроде современной программы отслеживания по геолокации), но Герберту удалось запутать след и с помощью дьявола зависнуть под мостом (дьявол наделил его даром левитации), из-за чего отец-волшебник потерял след преследуемого, не сумев найти его ни в одной из четырех стихий (вода, воздух, земля, огонь), ибо мост является препятствием для астрологических вычислений. Этот мотив затерянного следа «под мостом» есть и в романе Булгакова в связи с одним из вариантов смерти Маргариты, когда ее очередной переход через границы миров происходит также под мостом, куда огромная птица-грач сбрасывает автомобиль (чёрный воронок), на котором они приехали на Даргомиловское кладбище.
Возможно также, что рукопись, названная в романе как «подлинная рукопись Герберта Аврилакского», это некий лично им подписанный договор, который можно рассматривать как один из первых архетипов «контракта» с дьяволом (сводящий дебит с кредитом). Вспомним также, как расписывали зелёное сукно на игровом поле рулетки, отмечая ставки и выигрыш. Такие расчеты и есть, собственно, таблица, которая одновременно архетип того первого документа, который подтверждает выигрыш как результат договора с дьяволом. Легенда о Герберте Аврилакском, выкравшем рукопись у своего учителя-мага с помощью его дочери, в которую он был влюблён, а потом с помощью этой же рукописи вызвал к жизни дьявола, помогавшего ему спастись от преследований ее отца, мага и колдуна, своеобразно преломилась в сюжете романа Булгакова о Мастере, влюбившемся в Маргариту, которая вдохновляла его на написание романа, а когда Мастер пропал и его рукопись сгорела, она вступила в договор с дьяволом Воландом, чтобы спасти и Мастера и его рукопись. Эта легенда легла в основу не только сюжета «Фауста» Гёте и романа «Мастер и Маргарита», но и повести Гоголя «Пропавшая грамота», и романа В. Брюсова «Огненный ангел». Но и у Пушкина подобная легенда нашла отражение в его ранней поэме «Монах» (о монахе, подписавшем договор с чертом в обмен на путешествие в Иерусалим). Это также легенда, которая вдохновила Пушкина в своё время на создание им «Пиковой дамы» (об истории графини с ее тайной трёх карт, которую она унаследовала от колдуна графа Сен-Жермена, который водился и с самим дьяволом. При помощи полученной от него тайны графиня, московская Венера, блиставшая на балах у Французской Королевы, смогла отыграться и тем спасти от проигрыша своего возлюбленного).
Легенда о путешествии архимандрита в Иерусалим верхом на дьяволе. Воланд (который назван в романе «повелителем теней», то есть, повелителем царства Тьмы), говоря о «рукописи X века» Герберта Аврилакского, называет его «чернокнижником», но не упоминает о том, что в X веке тот был архимандритом Реймского собора (главный собор Франции под Парижем, где проходили коронации всех французских королей, в том числе, и Наполеона).
Зная о приёме интертекстульности, широко используемом Булгаковым в романе, который так помогал автору стягивать все сюжетные линии в единое художественное целое (в частности, зная о пушкиноцентризме романа), можно вполне также усмотреть в реплике Воланда о Герберте Аврилакском некий косвенный намёк на факт обнаружения в архивах государственной библиотеки другой рукописи – подлинной рукописи Пушкина, которая через век с лишним пребывания ее под спудом, была вдруг неожиданно обнаружена в Горчаковском архиве в 1928 году (как раз в годы написания Булгаковым его романа). Это и была та сама ранняя поэма Пушкина «Монах» (приблизительно написанная в 1813—14 годах) о том, как:
Написанная красивым почерком ещё молодого лицеиста Пушкина, подлинная рукопись о монахе (который в поэме назван «чёрным клобуком»), оставалась в архивах под спудом более века. Прототипом пушкинского святого монаха, искушаемого бесом, считают св. архиепископа Иоанна Новгородского из жития, автор которого неизвестен, но оставивший свидетельства о злоключениях архимандрита и искушающего его беса. Верхом на бесе Иоанн Новгородский также умудрился съездил в Иерусалим, чтобы поклониться гробу Христову и в ту же ночь вернулся (по уговору освободив затем беса от заточения). Бес наказывал святому молчать о их ночном путешествии, но Иоанн не посчитался с наказом беса, рассказав о нем кое-кому, за что. очевидно, и поплатился. Дьявол решил отомстить святому, обличив его в блуде.
Подобные легенды ходили и о Герберте Аврилакском. Упоминая уже в завязке сюжета имя понтифика, дьявол Воланд у Булгакова, очевидно, должен был по замыслу актуализировать эту легенду о неком священнике, вступившем в договор с бесом, ведь именно об архимандрите Герберте Аврилакском существовала легенда, по которой он освободил дьявола из-под стражи – от его тысячелетнего заточения в аду (где тот пребывал, как сказано также в поэме «Монах» Пушкина: «…черный сатана Под стражею от злости когти гложет»).
Согласно подобным же агиографическим источникам, Герберт Аврилакский выиграл своё папство, играя с сатаной в карты (кости). Однако, ещё по одной легенде, когда однажды ему пришлось отслужить обедню в Иерусалимском храме в Риме (в честь праздника вступления Христа в Иерусалим), он вскоре и умер (очевидно, отдав взамен дьяволу свою душу). Считается, что подобные житийные источники восходят к переводным легендам византийской письменности. Архиепископ Иоанн, например, о котором говорится в новгородский легенде, отличался благочестивой жизнью. Дьявол хотел его попугать, но был им побежден.
Описывая подобный сюжет в «Монахе», Пушкин остаётся достаточно загадочен, он полунамеками упоминает о пребывании Сатаны в аду:
Пушкин говорит здесь о падении некой силы, с помощью которой монастыри когда-то были ограждены от бесовского наущения, но не называет точно причину, почему именно становится открыт путь бесам к монастырям и о чем «узнали вдруг» в аду, какая такая тайна открылась там вдруг. Пушкин не называет ее конкретно, и эта причина остаётся загадочной. Какую именно тайну Пушкин «в архивах ада отыскал» (как говорит он и в «Гавриилиаде»), которая позволила бесам «разгородить К монастырям свободную дорогу», Пушкин конкретно не упоминает:
Скорее всего, отгадка заключается в самой дате – 1000-летие Рождества Христова (или ее оккультный вариант – год 999 от Рождества Христова). Если у Пушкина в поэме дьяволово племя отправляется со своими наущениями в монастыри к кортезианцам в Париж и Ватикан, то у Булгакова сатана Воланд отправляется в Москву – и его силуэт возникает именно на Патриарших прудах (где исходя из самого названия места здесь тоже когда-то находился монастырь и в нем, очевидно, и пребывали патриархи). Можно предполагать, что факт, послуживший поводом для бесов отправиться в подобное путешествие, «разгородившее дорогу к монастырям» в Москве, было, конечно же, одно из важных событий в Москве – разрушение Храма Христа Спасителя в 1931 году, построенного в честь победы над Наполеоном и простоявшего в Москве сто лет.
Подлинная рукопись поэмы Пушкина «Монах» («В мрачный ад дорога широка»). Неожиданное обнаружение в 1928 году в архиве подлинной рукописи Пушкина сыграло таким образом, очевидно, свою роль в развитии сюжета романа Булгакова.
Пушкин, заканчивая поэму, прибегает к наставлениям, в духе житийных, которыми он предостерегает не водиться с дьяволом:
Булгаков же, следуя законам интертекстуальности и пушкиноцентризма, начиная свой роман, открывает его главой под названием: «Никогда не разговаривайте с неизвестными». Уже в названии главы содержится у него также характерное наставление не якшаться с дьяволом, как и у Пушкина в финале поэмы «Монах»: «Не связывай ты тесной дружбы с ним». Мысль Пушкина, выраженную в предостережении не «возлагать свои почтенны ноги» на черта будет развивать затем Достоевский в легенде о Великом Инквизиторе, где папский инквизитор наоборот призывает «сесть на зверя».
Поэма Пушкина содержит некое восторженное обращение к Вольтеру, что, с одной стороны, дает повод искать и делать выводы о характере пушкинских заимствований в «Монахе». Но подлинный источник сюжета остается до сих пор неизвестным. По утверждению Б. В. Томашевского, который наметил общие линии литературной традиции, в которой развивался замысел пушкинского «Монаха», подобную разработку сюжета действительно можно найти у Вольтера, как и у многих других французских писателей также.
С упоминанием в романе некой «подлинной рукописи» (которую Воланд у Булгаков приписывает чернокнижнику Герберту из французского города Аврилака), открывается некий филологический квест, поскольку исходя из намёков, содержащихся у Булгакова, все же там есть намёк и на обнаруженную случайно в архивах государственной библиотеки подлинную рукопись Пушкина – поэму «Монах», которая считалась сожжённой, уничтоженной другом Пушкина графом Горчаковым. Неважно, сжег или разорвал светлейший князь Горчаков в своё время фривольную вольтерианскую рукопись «Монаха» (во всех трех версиях упоминаний о ней он утверждал категорически, что рукописи нет, что она уничтожена), но между тем рукопись «Монаха» вместе с другими автографами Пушкина и лицейскими реликвиями мирно хранилась в его архиве. И Булгаков не преминул намекнуть на этот факт в своём романе (правда в связи с Гербертом Аврилакским, одна из легенд о котором приводят к истории, очень похожую на ту, что описана в «Монахе» Пушкина. Категоричные утверждения князя Горчакова, товарища Пушкина по лицею, по поводу уничтожения (сожжения им) данной рукописи потерпели крах, когда черновики поэмы были найдены в архивах князя после его смерти (позже его наследники признали, что уникальная рукопись «Монаха» у них действительно сохранилась). Тем не менее, они на протяжении большого отрезка времени не показывали рукопись весьма желавшим взглянуть на нее генерациям пушкинистов, ссылаясь на строгий запрет.
Булгаков с присущей ему иронией доверил «разобрать рукопись» не кому-нибудь, а самому дьяволу, как «доверил» он также ему и спасение сожжённой рукописи Мастера.
Какие «рукописи не горят». В 1928 году, когда текст рукописи Пушкина был обнаружен, в советской стране набирал обороты оголтелый милитантный атеизм, так что находка эта действительно «оживила шум» и пришлась кстати для функционеров, подобных героям, созданным в романе Булгаковым, таким как Берлиоз и Лавровский, сыгравшие роковую роль (прямую или косвенную) в судьбе рукописи Мастера.
Во времена папы Сильвестра II (в миру Герберта Аврилакского) его вместе с преемниками не раз обвиняли в связях с дьяволом, и первый, кто выдвигал такие обвинения, был кардинал Бенно, активный противник политики Рима, сыгравший важную роль в низложении папы Григория VII и возведении на престол антипапы Климента III (который и сделал затем последнего кардиналом). По утверждению кардинала Бенно, дьявольское наущение стало определять всю политику Рима, именно начиная с папы Сильвестра ll. В связи с этим, легенды о понтифике и его связи с дьяволом множились. Существуют разные догадки и упоминания на этот счёт, что дьявол не только сделал Герберта Аврилакского папой, но и «всегда сопровождал его в образе черного лохматого пса» (указание на этот мотив из легенд содержится, например, в трудах В. М. Жирмунского как на постоянный мотив демонологических легенд, впоследствии перенесенный, как считает литературовед, и в легенды о докторе Фаусте). На самом деле, ни в одной из легенд о Герберте Аврилакском как пособнике дьявола сопровождающий его черный лохматый пес не упоминается. (*А вот о том, что Пушкина постоянно сопровождал в его прогулках по Михайловскому некий пёс, огромный волкодав, имеются воспоминания его племянника).
Булгаков упоминает имя Герберта Аврилакского в своём романе именно в связи с Воландом, у которого между прочим в свите мы обнаруживаем, правда, не огромного пса, а другое животное – огромного кота, кличка которого Бегемот (который среди многочисленных других «талантов» умел говорить силлогизмами и способен был извлечь из-под своего хвоста исчезнувшую рукопись). Здесь у Булгакова, в таком повороте сюжета, обыгрывается, конечно, русская пословица «вся работа коту под хвост», которая передаёт смысл тщетности делания какой-либо работы (которую можно только выбросить за ненадобностью, ну или использовать как подстилку для кота). В этом травестийном ключе Булгаков как раз и обыгрывает подобную деталь своей мизансцены с появлением рукописи Мастера из-под хвоста кота Бегемота. Но даже травестийно обыгранная, эта метафора получает в романе Булгакова смысл возрождённой из пепла рукописи. *Возможно, в этом действе кота проявился также другой обычай – посидеть на картах, перед тем как начать гадать (суеверные представления о том, что только тогда карты начнут говорить правду).
Некий теологический спор, затеянный героями Булгакова в начале романа, находит своё необычное разрешение в его финале: сожженная рукопись возрождается из пепла, а казнённый за мятеж и призыв к разрушению храма бродяга-философ Иешуа возносится в пределы Света, где он определяет судьбы людей, в том числе, и судьбу своего палача – прокуратора Понтия Пилата.
Из хода истории можно заметить, что направление теологических споров в мире действительно кардинально меняется раз в тысячелетие. С новым милениумом легенды о дьяволе обычно получают своё новое развитие. Это касается также и конца любого столетия. Каждые сто лет кто-то, кто внедряет эти легенды при содействии оккультных романов и других источников, изменяет сюжет споров о Христе и дьяволе, развивая его по новым коллизиям, при этом часто направление вектора веры меняется совершенно в противоположную сторону. Загадочная история появления в печати романа Булгакова в России во второй половине XX века (при этом написанного полвеком ранее), не только в своё время подогрела интерес к мистике и оккультизму в России, но и с началом 2000-х годов полностью сменила вектор веры атеистического государства, каким был Советский Союз, вернув его в лоно церкви. Эти взаимообратные явления (блуждания от веры к неверию и наоборот, что совсем по Достоевскому), не очень, конечно, влияют на объединие нации, но влияют почему-то на все возрастающий интерес к самому роману Булгакова, который, в конечном итоге, даже стал способен объединить людей.
Акт сожжения рукописи как приём. Принято связывать сожжение рукописи Мастером в романе Булгакова с подобным актом Гоголя, который якобы сжёг второй том «Мертвых душ». Сожжение Булгаковым первого варианта своего романа о дьяволе – тоже акт, имеющий отношение к Гоголю. Но подобное сожжение рукописи, от которой ее создатель потерпел немало травли и насмешек, имело место и в биографии Пушкина, в его ранней молодости. Это случилось в те времена, когда в одиннадцать лет, вступая на свой писательский путь, он сильно был подвержен подражательству. Так племянник Пушкина (сын его младшей сестры Ольги), описывает по вспоминаниям своей матери эпизод с травлей юного Александра его учителем по фамилии Русло, который одновременно был и учителем сестры Пушкина Ольги: «…Русло… нанес оскорбление юному своему питомцу Александру Сергеевичу, одиннадцатилетнему ребенку, расхохотавшись ему в глаза“, когда юный Пушкин написал вполне гениальную для своих лет стихотворную шутку „La Tolyade“ („Толиада“) в подражание „Генриаде“. „Изображая битву между карлами и карлицами, дядя <Александр Пушкин> прочел гувернеру начальное четверостишие:
Учитель Русло довел Александра Сергеевича до слез, осмеяв безжалостно всякое слово этого четверостишия, и, имея сам претензию писать французские стихи не хуже Корнеля и Расина, рассудил, мало того, пожаловаться еще неумолимой Надежде Осиповне, обвиняя ребенка в лености и праздности. Разумеется, в глазах Надежды Осиповны <матери Пушкина> дитя оказалось виноватым, а самодур правым, и она, не знаю каким образом, наказала сына, а самодуру за педагогический талант прибавила жалованье. Оскорбленный ребенок разорвал и бросил в печку стихи свои, а непомерно усердного наставника возненавидел со всем пылом африканской своей крови».
Тень Пушкина. Дух Пушкина, который незримо витает в романе Булгакова «Мастер и Маргарита», обусловил, немало поворотов его сюжетных линий. Его вполне можно считать даже одним из героев и образов романа, хоть он и появляется незримо или в упоминаниях героев (как «хвала и клевета») или в виде памятника в Москве. Памятник Пушкину в романе Булгакова находится не просто в центре Москвы на Тверском бульваре, но в центре всей композиции романа «Мастер и Маргарита». В качестве безмолвного памятника сам Пушкин незримо присутствует здесь при всех московских событиях, происходящих в булгаковской Москве (как Медный всадник из поэмы самого Пушкина – памятник Петру Великому – является героем его поэмы «Медный всадник»).
«Доказательства бытия Божия». Профанируя жанр детективного романа, Булгаков в «Мастере и Маргарите» обыгрывает в историях о таинственных рукописях слово «доказательство», как он это делает сразу в нескольких эпизодах. Уже в прологе его герой Воланд, заявив, что «и доказательств никаких не требуется», удивительным образом представляет затем своё «доказательство» существования Иисуса (Иешуа), начав декламировать редактору и поэту некую таинственную главу. И что удивительно, он делает это наизусть (тут возникает даже мысль, не сам ли Воланд и являлся ее автором, а Глава, которую он декламирует, не та ли это самая «поздняя вставка» в исторические анналы Тацита, ведь, как известно, дьявол кроется в деталях, и там, где он кроется, правда может обернуться ложью, а ложь правдой).
В другом эпизоде романа Кот Бегемот из его свиты выдаёт загадочный документ – справку Николаю Ивановичу как «доказательство» его пребывания на шабаше, это такое травестийное «удостоверение», которое должно было послужить ему доказательством его <Николая Ивановича> отсутствия «той самой» ночью, с четверга на пятницу, очевидно, с 13-ого на 14-ое, ибо все в романе происходит этой ночью. (Здесь вспоминается эпизод из стихотворения Пушкина «Гусар», в котором с гусаром происходит подобная же история, когда брызнув на себя из той же склянки, что и его кумушка-ведьма, гусар также, как и Николай Иванович у Булгакова, унёсся на шабаш, оседлав кочергу).
Кот Бегемот зло шутит на предмет предоставления справки супруге Николая Ивановича о его таинственном исчезновении «той самой» ночью (когда ему также удалось, как и Гусару из одноимённой поэмы Пушкина, побывать на шабаше ведьм и не только на горе Брокен, но ещё и на балу у сатаны Воланда). При этом кот Бегемот произносит загадочную фразу: «Чисел не ставим, с числом бумага будет недействительной».
Здесь нужно заметить, что день (ночь) отсутствия Николая Ивановича приходится, по всей видимости, на день празднования Пасхи, как многое на то указывает в романе. Очевидно, тот факт, что «с числом бумага будет недействительной», говорит нам о праздновании в эту ночь некоего события, которое скорее надо рассматривать как метасобытие, то есть, существующее в вечности (как Пушкин сделал этот намёк в сценах из Фауста, упомянув о праздновании тысячелетия рождества Христова: «Сегодня бал у Сатаны, На именины мы званы»).
Булгаков подхватывает у Пушкина и развивает многие темы и сюжеты, в том числе, тему «трудов» (которые по своему происхождению из «обители дальной»), а также тему их законспирированности до поры до времени. Законспирированность неких исторических источников и само подобное явление Булгаков формулирует репликой Воланда: «Рукописи не горят» (можно к этому добавить также, что отсутствующие главы при этом чудесным образом восполняются).
Спор о том, был ли отрывок Тацита поздней вставкой или нет, лишь вскользь упомянутый Булгаковым в романе, не прекращает, однако, волновать и разжигать споры в учёном мире. Воланд у Булгакова, однако, оспаривает и Берлиоза и самого Тацита, как бы вставляя в римские анналы свою главу, посвящённую «14 числу весеннего месяца нисана». Берлиоз пытается возразить Воланду: «Ваш рассказ чрезвычайно интересен, профессор, хотя он совершенно не совпадает с евангельскими рассказами» (гл. 3). То есть, Берлиоз воспринял посланное ему Воландом ретроспективное видение с сюжетом о суде Пилата (некий теургический сеанс Воланда) – неким сюжетом из Евангелия. Слова Берлиоза при этом практически совпадают с пушкинскими строчками из «Гавриилиады»: «С рассказом Моисея Не соглашу рассказа моего». Эти лукавые слова у Пушкина произносит Змей-искуситель, который уличает Моисея (то есть, автора текста Библии) в исторической лжи: «Он вымыслом хотел пленить еврея, Он важно лгал, – и слушали его».
Булгаков, выстраивая родословную своего Воланда от легендарной бабушки-Змеи («поганая старушка моя бабушка»), практически тоже выстраивает ее от созданного Пушкиным образа Змия в «Гавриилиаде». В споре с Берлиозом Булгаков вкладывает в уста своего сатаны и духа зла Воланда (ср. также у Пушкина: «злобный гений» из «Демона») практически ту же самую мысль, что высказывает и Змий у Пушкина: «…уж кто-кто, а вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в евангелиях, не происходило на самом деле никогда, и если мы начнем ссылаться на евангелия как на исторический источник… – он <Воланд> еще раз усмехнулся…». Почему усмехнулся Воланд? Потому что он в своём сеансе магии (читай, сеансе теургии) проецировал видение из исторических анналов Тацита? Или все же проецировал непосредственное слово Божие, чем, собственно, и является Евангелие?
Эти и многие другие загадки оставил нам Булгаков в своём романе, который можно было бы назвать филологическим квестом. Многие загадки невозможно было бы разгадать, если не признать, что весь роман Булгакова – во многом пушкиноцентричен, и за репликами его героев стоят пушкинские цитаты, иногда легко узнаваемые, но иногда скрытые под толщей наслоений других реминисценций, что часто сильно затрудняет их правильное прочтение.