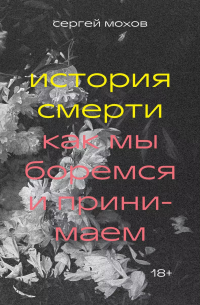Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
© Сергей Мохов, 2020
© ООО «Индивидуум Принт», 2020
Предисловие
Что такое смерть? Многих этот, казалось бы, простой вопрос ставит в тупик. Не верите? Попробуйте дать на него максимально исчерпывающий ответ. Получилось?
Когда я спрашивал об этом студентов курса, который читаю на базе просветительского проекта InLiberty, они спорили друг с другом и предлагали самые разные определения. Одни говорили о физиологических критериях смерти: остановке дыхания или сердцебиения, смерти мозга. Другие обращали внимание на социальный аспект: смерть для них – невозможность быть частью общества (например, в результате деменции), тотальное одиночество, потеря способности работать и творить. Третьи были уверены, что смерти не существует, потому что физическая смерть есть начало новой духовной жизни.
Этот вопрос становится еще сложнее, когда мы говорим не только о самом факте смерти, но и о связанных с ним явлениях: болезни и старости, горе и похоронах, самоубийстве и эвтаназии, памяти об ушедших и изображении смерти в поп-культуре. Часто сама смерть в этих дискуссиях отходит на второй план. Например, когда мы спорим об эвтаназии, то постоянно спотыкаемся о философские противоречия: где пролегают границы свободы личности? Как должны выстраиваться отношения гражданина и государства?
Разговор же о бессмертии и возможностях его обретения невозможен без дискуссии о том, что такое человек: может ли он оставаться личностью без физического тела? Можно ли считать человеком киборга? А обсуждение публичной скорби сопровождается ожесточенными спорами о правильных и неправильных реакциях на утрату. В общем, неожиданно оказывается, что смерть выступает поводом говорить о том, что действительно нас волнует, – то есть о жизни.
Это хорошо видно на примере последних событий. Весной 2020 года, когда эта книга готовилась к выпуску, грянула пандемия коронавируса. Ее последствия нам только предстоит оценить, но уже сейчас видно, как смерти от новой болезни – потенциальные и реальные – стали предметом публичных дискуссий. Люди принялись обсуждать, как меры защиты населения от вируса повлияют на права человека, будущее демократии и биополитику. Оправдан ли карантин, тормозящий экономику? Нужно ли обрекать миллионы людей на снижение качества жизни ради снижения темпов распространения смертоносного заболевания? Где начинаются полномочия современных государств и где граница, за которой они больше не могут распоряжаться телами своих подданных? Как и какие неравенства связаны с эпидемией? Так, говоря о потенциальной смертельной опасности, мы на самом деле стали обсуждать наши общества и государства, благополучие и привычный образ жизни.
В этой небольшой книге я попытаюсь показать, как развивался язык, на котором о смерти сегодня говорят люди европейской культуры, и какие социально-политические изменения на нём сказались. Я расскажу, как бессмертие связано с картезианской философией; как популярная в последние годы тема должного ухода за умирающими связана с появлением профессии медицинской сестры и изобретением морфина; как практики политических перезахоронений соотносятся с расцветом гуманизма. Свои тезисы я проиллюстрировал примерами из современной жизни, поп-культуры и иногда – личного опыта.
В книге затронуты семь магистральных тем: некрополитика; горе и скорбь; право на жизнь; уход за умирающими; бессмертие; смерть в современной поп-культуре; рост публичных инициатив, связанных со смертью. В последовательности глав нет строгой логики, некоторые утверждения повторяются из главы в главу, что делает книгу похожей скорее на сборник эссе о смерти и умирании. Я рекомендую обращать внимание на сноски и список использованной литературы, так как эта работа – одна из первых подобных на русском языке, а потому может послужить подспорьем для самостоятельного изучения темы, в том числе по зарубежным источникам.
Глава I. Горе и скорбь: как и почему мы оплакиваем умерших
Я помню жаркий день в конце июля 2000 года. Мне было десять. Мать сообщила мне о смерти отца. Стоя передо мной на коленях и глядя мне прямо в глаза, она выдавила: «Папы больше нет». Ее признание поставило меня в тупик. Я не чувствовал ни сожаления, ни желания заплакать. Пожалуй, единственной моей эмоцией в тот момент было замешательство: я не знал, что именно должен чувствовать и как реагировать. Я смотрел на мать пустыми рыбьими глазами и просто молчал. Это молчание могло бы длиться вечно, но, на мое счастье, приехало такси. Мы сели в машину, уставились каждый в свое окно, и неловкость отпустила.
Спустя несколько дней мы отправились на поминки на деревенское кладбище. К тому времени отец был уже в земле. Вокруг свежей могилы стояла толпа незнакомых мне людей. Мужчины в красивых пиджаках важно пожимали друг другу руки, женщины семейства плакали и тихо причитали. В воздухе едко пахло летним кладбищем: затхлой водой и старыми цветами. Меня подвели к могиле. Я очень боялся повторения своего эмоционального конфуза и показательно заревел. Я давил из себя слезы, истерично орал, брыкался и дергал мать за платье. Незнакомые люди тут же окружили меня и принялись успокаивать и жалеть.
В тот момент я спасся от уже знакомой мне неловкости плачем, но парадоксальным образом она осталась со мной на всю жизнь. Мысленно я часто возвращаюсь в тот день. Что было бы, если бы я не заплакал? Как и почему я почувствовал смущение от своей внешней холодности? Означало бы отсутствие плача, что я не переживаю всю горечь утраты? А если бы я не горевал, означало бы это, что со мной что-то не так?
Эти вопросы – не из области психотерапии или самокопания. И они касаются не только меня. В последние годы я часто наблюдаю за спорами в интернете, которые разгораются после терактов, авиакатастроф, смертей знаменитостей и обычных людей. Пользователи социальных сетей с остервенением обсуждают «правильность» публичных реакций на крушение самолета над Черным морем, в котором погибли знаменитая правозащитница доктор Лиза и 65 участников Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Или на смерть певицы Жанны Фриске. Или на пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Появились даже специальные термины, связанные с феноменом горевания, например, grief shaming (позорить кого-то за неправильное выражение чувств). Кажется, горе и скорбь имеют для нас куда большее значение, чем мы привыкли думать.
Мои наблюдения подтверждают цифры: за последние 60 лет терминов, которые имеют отношение к описанию чувства утраты, стало втрое больше. Если ввести в поисковике «grief» по-английски или «горе» по-русски, в выдаче окажутся сотни сайтов с информацией о том, как именно нужно справляться с горем. Вы можете делиться своими переживаниями в формате блога; обсуждать свои чувства в группах поддержки; найти множество советов, как пережить любую утрату, будь то родной сын или любимый пес. Существуют даже терапевтические статьи для экологических активистов, горюющих о безвозвратном таянии арктических снегов. Или для тех, кто принял слишком близко к сердцу последствия пожара в соборе Парижской Богоматери.
Почему мы уделяем горю и скорби столько внимания? Зачем все советуют другу другу, как именно переживать утрату? Откуда вообще у нас мысль, что горе надо проживать как-то по-особенному? Почему то, как мы реагируем на утрату, становится причиной публичных обсуждений и конфликтов?
Что такое горе
Чтобы разобраться в этом, я предлагаю начать с простого вопроса: что мы вообще знаем о горе? Принято считать, что оно – некая естественная человеческая реакция на факт любой утраты, то есть на факт разрыва связи с кем-либо или с чем-либо. Речь идет не обязательно о смерти или расставании с близким человеком: это может быть утрата работы, привычного и любимого предмета вроде детской игрушки или даже какого-то навыка (например, когда спортсмен или музыкант из-за травмы теряет способность кататься на лыжах или играть на виолончели). Обо всем этом можно горевать.
Один из классиков изучения смерти, психолог и социальный антрополог Роберт Кастенбаум выделяет несколько видов утрат:
1. потеря контроля над ситуацией или способности анализировать ситуацию;
2. потеря опыта, социальных функций (лишение привычной работы или роли в семье);
3. потеря телесных возможностей;
4. утрата способности к заботе;
5. потеря отношений и объекта любви.
История с хвостом ослика Иа-Иа из книг про Винни-Пуха – замечательный пример реакции на утрату части тела. Герой сказки где-то потерял хвост, который ему крайне дорог, и на протяжении многих страниц пытается справиться с меланхолией, вызванной его новым статусом «осла без хвоста». В знаменитой сказке Корнея Чуковского «Федорино горе» описывается реакция горевания, связанная с бытовой утратой: от героини сбежала кухонная утварь. Старуха Федора громко плачет и причитает, раскаиваясь в своем легкомысленном отношении к материальному миру и сокрушаясь о сложных временах, которые ждут ее теперь. Собственно, стон и плач Федоры и есть то самое «горе» – реакция на утрату, пусть и всего лишь сумасбродной посуды.
Разумеется, между реакцией на утрату любимой вещи и гореванием о смерти близкого человека есть существенная разница. Та же Федора в своем причитании умоляет посуду вернуться и начать всё сначала: «Ой вы, бедные сиротки мои, / Утюги и сковородки мои! / Вы подите-ка, немытые, домой, / Я водою вас умою ключевой. / Я почищу вас песочком, / Окачу вас кипяточком, / И вы будете опять, / Словно солнышко, сиять…», а ослик Иа-Иа расспрашивает встречных о своем хвосте. И Федора, и Иа-Иа не теряют надежды вернуть утраченное. Смерть же всегда предполагает безвозвратную потерю связи с субъектом, то есть с умершим человеком. Даже для тех, кто верит в загробную жизнь, эта потеря ощутима: безвозвратно утерян физический контакт, остается надежда лишь на спиритуальный.
Суммируя эти различия, можно сказать, что горевание об умершем – это выраженная в словах или действиях реакция на такую утрату связи с человеком, которую невозможно компенсировать и обратить. Но как работает горе? Что мы знаем о нем?