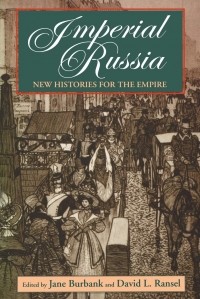Больше рецензий
15 марта 2022 г. 12:05
269
3.5 Новое - хорошо забытое старое
РецензияНе новый (вышел в 1998 году), но во многом (хоть и не всегда) интересный и даже где-то актуальный сборник статей об имперской дореформенной России. Да, тема и временной период очень уж расплывчаты и обширны - это недостаток книги, в защиту же редакторов можно сказать, что так в общем-то и задумывалось - пробежаться по истории империи и показать, что здесь есть еще что изучать и находить новое.
Статьи на первый взгляд собраны с бору по сосенке, вроде как не сильно связаны друг с другом, но это обманчиво - на самом деле как минимум в рамках тематических глав они образуют довольно прочные структуры, не только благодаря перекрестным ссылкам авторов друг на друга, но и фактическими пересечениями, да и за рамками тем статьи регулярно выходят на общие вопросы - к примеру, у Фриза, рассказывающего о церковных делах, есть отсылка к провинциальным этнографическим опросникам, о которых пишет Натаниэль Найт. Да и вообще не трудно заметить общие горизонтальные сцепки - заметна, к слову, тема важности семейных связей - у Кивельсон, Хоха и Дэвида Рэнзела, описывающего жизнь одного дмитровского купца. Есть, конечно, и такие, что откровенно выпадают из почти любых рамок (вроде эссе Дугласа Смита о масонах), но вместе статьи действительно образуют некий некрепкий, но все же каркас для поисков новой имперской истории.
Как всегда я делаю при обзоре таких сборников, отмечу самое интересное (с моей колокольни, конечно), о чем было хорошо почитать подробней и обстоятельней.
Валери Кивельсон объясняет, почему дворянство выступило в 1730 году против планов верховников по ограничению монархии: она полагает, что выбор был не "меж рабством и свободой", а гораздо сложнее, показывая, как поведение различных авторов конституционных планов определялось как московскими клановыми традициями, так и страхом перед аристократической олигархией; в результате петиция Черкасского оказывается в одном ряду с ликвидацией местничества - в рамках борьбы за повышение по способностям, а не по праву рождения.
Томас Баретт рассказывает о кавказском фронтире и взаимовлиянии русских колонизаторов и горских народов через призму экологических проблем, принесенных завоеванием, изменений в экономических паттернах и создающихся на фронтире возможностей.
Стивен Хох рассматривает преимущества и недостатки крестьянской общины и ограничения, накладываемые общиной на власть помещика, а также почему европейские стандарты и термины нельзя применять к сельскому хозяйству времен крепостного права.
Грегори Фриз рассказывает о том, как во второй половине 18 века - первой половине 19 века официальная церковь проводила реформы по институализации и бюрократизации, борясь за унификацию веры - против суеверий, старых литургических канонов и народных икон, и с какими проблемами при этом столкнулась.
Ирина Паперно рассматривает, как общество (и в частности, пресса) пореформенной России воспринимало и толковало феномен самоубийства (с медицинской, социальной и метафизической точек зрения) и его растущую динамику в стране.
Вряд ли стоит рекомендовать книгу тем, кто о российской истории знает понаслышке или не очень твердо - статьи сильно разбросаны и требуют знания контекста. Но для заполнения пробелов, открытия новых горизонтов и интересного взгляда на уже известные проблемы сборник подходит хорошо.