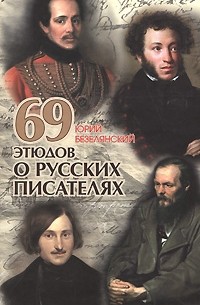Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
СФИНКС РУССКОЙ ЖИЗНИ
Петр Чаадаев
В Нижнем Новгороде на улице Чаадаева есть памятная доска: «Петр Чаадаев. Поэт. Друг Пушкина».
Конечно, друг, – у нас все крутится вокруг Пушкина, он – наше светило, а остальные, так, – мерцающие звездочки. Чаадаев – поэт? Разумеется, поэт, коли у него было так сильно развито воображение, а метафоры и сравнения так и выпирали из его текстов. Но еще Чаадаев был философом, мыслителем. И мыслителем в основном русским: все о России думал, сравнивал ее со странами Запада и негодовал, почему мы, русские, не такие, как немцы или французы, и живем значительно хуже их, – почему? Юный Пушкин со своей поразительной интуицией сразу понял суть Чаадаева:
И гусарствовал недолго. Ушел в высокие думы и своими мыслями взбудоражил Россию (разумеется, просвещенную ее часть). Чаадаев со временем весь издан, но его мало читают, недостаточно цитируют и почти всегда обходят стороной: опасный Чаадаев! Все высказанное им – это пропасть, бездна, не дай бог провалиться туда. А может быть, прав был Николай I, объявивший Чаадаева сумасшедшим.
это ранний Маяковский, стихотворение «Ничего не понимают» (1913).
Император Николай I действовал как первый психиатр России и, ставя диагноз чаадаевским мыслям, в первую очередь, полагался на свое внутренне чутье: Чаадаев опасен России, его слова о свободе – сродни артиллерийским снарядам – могут все разрушить. «Польза философии не доказана, а вред – возможен», – однажды вымолвил Его Величество.
Среди заметок на полях книг есть одно ужасное высказывание Чаадаева. Он говорит: «...меня обвиняют в том, что я притворяюсь, но как не притворяться, если живешь среди бандитов и дураков». Эту запись Чаадаев сделал как бы конспиративно, не в открытую. Как опытный конспиратор, он важные для себя мысли записывал на полях книг или на клочках бумаги, – авось, не заметят!.. Но и того, что появилось в печати, было достаточно, чтобы мыслителю кричать: ату его!.. Чаадаева критиковали вовсю, но так до конца и не поняли. Он был, по выражению одного из современников, сфинксом русской жизни.
Ну, а теперь коротко о его биографии. Петр Яковлевич Чаадаев родился 27 мая (7 июня) 1794 года в Москве. В «Родословной книге князей и дворян российских и Выезжих» можно найти такую информацию: «Чаадаевы. Выехали из Литвы. Название получили от одного из потомков выехавшего и прозывавшегося Чаадай, но почему, неизвестно». По одной из версии, имя имеет монгольские корни, его носил один из сыновей Чингисхана, получивший во владение огромную территорию, население которой называли «чегодаи» (или «чегатаи»). Отец мыслителя, Яков Чаадаев, дослужился до подполковника и баловался иногда литературой, написав и издав комедию «Дон Педро Прокодуранте, или Наказанный бездельник». А мать Петра Чаадаева – Наталья, была дочерью знаменитого историка и публициста XVIII века князя Михаила Щербатова, который написал нашумевшую и, естественно, крамольную книгу «О повреждении нравов в России». Внук где-то унаследовал эти литературно-бунтарские гены.
Петр Чаадаев рано лишился отца, вскоре умерла и мать, и поэтому они со старшим братом Михаилом попали под опеку тетки, старой девы Анны Михайловны Щербатовой. Деньги имелись – и образование сирот не стало проблемой. Петр Чаадаев окончил Московский университет и 12 мая 1812 года начал военную карьеру. Участвовал в Отечественной войне, в Бородинском сражении и в заграничных походах русской армии. Его ожидала блестящая карьера – он пренебрег ею. Не захотел войти в ближайшее окружение Александра I, считая, что таким образом станет соучастником лицемерия, официально освященного монархией. Самодержавие было несовместимо с его убеждениями. В феврале 1821 года 25-летний ротмистр Петр Чаадаев выходит в отставку. В 1823 – 1826 годах путешествует по Европе – «вдохнуть воздух свободы» (Англия, Франция, Швейцария, Италия, Германия).
Знакомство с Европой окончательно сформировало взгляды Чаадаева и испепелило его сердце. Контраст между духовной и политической жизнью буржуазной Европы и крепостной России был слишком разителен. Нищета, отсталость, дикость России были чрезмерно наглядны и безысходны, население Российской империи коснело и пресмыкалось в рабстве. «Во Франции на что нужна мысль? – спрашивал Чаадаев и отвечал, – чтобы ее высказать. В Англии? Чтобы привести ее в исполнение. В Германии? Чтоб ее обдумать. А у нас? Ни на что!»
Чаадаев попытался помыслить и получился печальный результат, но, конечно, больше пострадали его знакомые и единомышленники-декабристы. А Чаадаеву была уготована участь домашнего заточения.
Прежде чем перейдем к философическим письмам Чаадаева, приведем цитату из Осипа Мандельштама: «След, оставленный Чаадаевым в сознании русского общества, – такой глубокий и неизгладимый, что невольно возникает вопрос: уж не алмазом ли проведен он по стеклу?.. Уроженец равнины захотел дышать воздухом альпийских вершин и, как мы видим, нашел его в своей груди... На Западе есть единство! С тех пор, как эти слова вспыхнули в сознании Чаадаева, он уже не принадлежал себе и навеки оторвался от «домашних» людей и интересов. У него хватило мужества сказать России в глаза страшную правду, – что она отрезана от всемирного единства, отлучена от истории... Что он думал о России, – остается тайной. Начертав прекрасные слова: «истина дороже истины», Чаадаев не раскрыл их вещего смысла...»
На то и сфинкс!..
В 1828 – 1830 годах Чаадаев работал над циклом «Философических писем» (всего их восемь). Живет во флигеле на Новой Басманной и получает прозвище «Басманного философа» (такая «историческая» ирония: Басманный философ Чаадаев и пресловутый нынешний Басманный неправедный суд!..). В сентябрьском номере за 1836 год журнала «Телескоп» появляется первое философическое письмо. Оно, по сути дела, было адресовано не «à une dame» (знакомой Чаадаева Пановой), хоть и начинается словами «Сударыня...», а лично российскому императору Николаю II, чтобы помочь ему разобраться в российской истории и встать на путь европейских реформ.
«Взгляните вокруг себя, – писал Чаадаев. – Не кажется ли, что всем нам не сидится на месте. Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, пробуждало бы в Вас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри Вас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те кочевники, которые пасут свои стада в наших степях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням, чем мы к нашим городам...»
Далее Чаадаев рассуждает об историческом развитии Запада и России и утверждает: «...у нас ничего этого нет. Сначала – дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, – такова печальная история нашей юности. Этого периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства, ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании. Окиньте взглядом все прожитые нами века, занимаемое нами пространство, – Вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы Вам о прошлом, который воссоздал бы его пред Вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя...
...У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса, каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам Бог весть откуда... мы растем, не созреваем; движемся вперед, но по кривой линии, то есть такой, которая не ведет к цели. Мы подобны тем детям, которых не приучили мыслить самостоятельно...»
Хочется процитировать это бурное письмо полностью, но этого делать нельзя: мы ограничены рамками объема книги, она не только о Чаадаеве.
В середине письма почти вопль: «И вот я спрашиваю Вас, где наши мудрецы, наши мыслители?..» Чаадаев больше всего хотел научить русских людей мыслить – то есть думать систематически (sine ira et studio), анализировать факты. Но напрасные старания. Император Николай Павлович пришел от этого хотения в полнейшее негодование. «Прочитав статью, – начертал он на первом «Философическом письме» резолюцию, – нахожу, что содержание оной – смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного».
Сказанное было воспринято как приказ: Чаадаев – умалишенный. Ему было запрещено печататься. Его ежедневно стали посещать доктора. Издателя «Телескопа» Николая Надеждина арестовали и сослали в далекий Усть-Сысольск. Цензора, допустившего публикацию «Философического письма», отправили в отставку. Но слово, вымолвленное, а лучше даже сказать – отчеканенное Чаадаевым, полетело по просторам России. Хотя Чаадаев совсем не рассчитывал на такой резонанс, в письме к Мещерской от 15 апреля 1836 года он писал: «Вам известно, что я никогда не думал о публике, что я даже никогда не мог постигнуть, как можно писать для такой публики, как наша: все равно обращаться к рыбам морским, к птицам небесным».
В этих словах, конечно, слышится высокомерное презрение к толпе, публике, к людям. Когда к Чаадаеву пришли с обыском, он, сидя в кресле, любовался на свежие оттиски «Писем». Зрелище обыска раздавило философа: изымали подряд все бумаги, трясли книги, шарили по шкафам. Крамолы, однако, не отыскали, но напугали Петра Яковлевича на всю жизнь. А потом еще докучливые доктора с осмотром: насколько повредился в уме? Но, справедливости ради, необходимо сказать, что врачебный контроль длился недолго, хотя клеймо сумасшедшего никаким царским указом снято не было. «Что касается до моего положения, то оно теперь состоит в том, что я должен довольствоваться одною прогулкою в день и видеть у себя ежедневно господ медиков...» – писал в одном из писем Чаадаев, а другое подписал просто: «Безумный».
Наверное, какое-то безумие было, если Чаадаев в 1837 году написал еще одно ядовитое сочинение – «Апологию сумасшедшего» (а может, вошел во вкус и бравировал этим?).
«Прекрасная вещь – любовь к Отечеству, но есть еще нечто более прекрасное – это любовь к истине. Любовь к Отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к Родине разделяет народы, питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к божеству. Не чрез Родину, а через истину ведет путь на небо. Правда, мы, русские, всегда мало интересовались тем, что – истина и что – ложь, поэтому нельзя и сердиться на общество, если несколько язвительная филиппика против его немощей задела его за живое...»
А русскую особость Чаадаев определял главным образом географическим фактором: «Мы просто северный народ и по идеям, как и по климату, очень далеки от благоуханной долины Кашмира и священных берегов Ганга».
И главный тезис «Апологии»: «Я не научился любить свою Родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны Родине истиной... Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм лени, который приспособляется все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями и которым, к сожалению, страдают теперь у нас многие дельные умы...»
Боже, как ошибался Петр Яковлевич, говоря, что «время слепых влюбленностей прошло». Оно не прошло. Напротив, расцвело после 1917 года и продолжает цвести и пахнуть в начале XXI века. Всюду слышен «одобрямс» и крики «Ура!» Очень многие, миллионы, купаются в «блаженном патриотизме лени» и никак не хотят снимать розовые очки... Но остановимся и воскликнем: эдак, нас повело от чаадаевских рассуждений и наблюдений, неужели вековой резонанс?..
«Апология сумасшедшего» не была до конца дописана Чаадаевым, в каком-то месте рукопись, написанная опять же по-французски, прервалась. Сфинкс рявкнул. И снова замолк...
За три года до смерти Чаадаев вдруг быстро состарился, облысел и осунулся. Заказал в Париже свои литографические портреты и частенько ими любовался. Умер Петр Яковлевич внезапно, сидя в кресле, 14(26) апреля 1856 году в возрасте 62 лет. Газеты написали, что «14 апреля, в 5 часов пополудни, скончался один из московских старожилов, Петр Яковлевич Чаадаев, известный почти во всех кружках нашего столичного общества». Согласно завещанию похоронили его на кладбище Донского монастыря, рядом с могилой Авдотьи Норовой (о чаадаевских женщинах чуть позже). Мебель, платья, белье, серебро «и все прочее» философ завещал своим слугам Титу и Василисе. Флигель на Басманной, где жил Чаадаев, долгое время был местом паломничества жителей и гостей престольной Москвы: «А вот дом, где жил сумасшедший Чаадаев...» – всем было крайне любопытно.
Чаадаев умер, а каким он был при жизни? Был замкнут и скрытен, никого не подпускал к своей душе, даже тех, с кем дружил – Пушкина, Ивана Якушкина, которого в письмах называл иногда братом. Домосед, но не совсем. Любил бывать в Английском клубе, появлялся в салонах Орловой, Елагиной, посещал модный ресторан Шевалье. Заказывал бутылку шампанского, выпивал один бокал и молча удалялся. Иногда вступал в разговоры, острил и язвил. Сохранилась эпиграмма:
А вообще Чаадаев был типичным меланхоликом, впрочем, как и его брат Михаил. Оба были озабочены своим здоровьем, и каждый пытался лечиться по-своему. Петр скупал за границей медицинскую литературу, тщательно ее штудировал и находил у себя признаки многих заболеваний. После этого бросался к светилам европейской медицина и старательно следовал их рекомендациям: пил всякие микстуры, принимал порошки и ванны. А старший брат, Михаил, в своем имении Хрипунове пил горькую – водкой лечился и водкой утешался. Примечательно, что оба брата были бездетными и не оставили наследников.
Некоторые исследователи жизни и творчества Петра Чаадаева утверждают, что он был человеком «нулевой сексуальности». Вся его любовь выражалась исключительно через письма. Один из его адресатов – соседка по усадьбе Авдотья Норова. Она любила Чаадаева до беспамятства, до исступления, у нее был культ Чаадаева. Но она умерла, и вместо нее появилась другая – Екатерина Левашова, соратница-утешительница, и она «изошла любовью» к Чаадаеву, а он так и не воспламенился. Свои «Философические письма» Чаадаев посвятил еще одной женщине – Пановой. Считают, что она была увлечена его религиозными идеями. Публичное посвящение ей писем Чаадаева привело к трагедии: муж засадил ее в сумасшедший дом. Несчастной было всего 32 года. Ее били и вязали... Николай Языков, один из недругов Чаадаева, писал про Басманного философа:
Подтекст таков: Чаадаев сманивал своим блистательным умом «слабых жен». А по поводу чаадаевских сочинений Языков негодовал еще больше: «Вполне чужда тебе Россия,/ Твоя родимая страна!/ Ее предания святые/ Ты ненавидишь все сполна».
Следует заметить, что Чаадаеву был присущ дендизм, а точнее – эстетизм. И, вообще, Чаадаев – некий странный русский вариант Оскара Уайльда с сильной примесью Фридриха Ницше – типа прямо противоположного. «Образ жизни Чеодаев (именно так написано. – Ю.Б.) ведет весьма скромный, страстей не имеет, но честолюбив выше меры», – доносил в Петербург московский жандармский начальник.
Сделаем еще один поворот в теме: Чаадаев и Пушкин. 22-летний Чаадаев летом 1816-го познакомился с 17-летним лицеистом Пушкиным и стал для него другом-учителем, он «заставлял Пушкина мыслить». Уроки не пропали даром: ученик стал самым глубоким критиком взглядов учителя, касающихся исторического прошлого России. Западная демократия виделась Чаадаеву необходимым условием прогресса в развитии страны, а Пушкин называл демократию всего лишь «забавой взрослых шалунов». Пушкин ратовал за идею империи с некоторой долей свободы. А Чаадаев противопоставлял свободу государству. Больше всего возмущало Чаадаева рабство в России. «Я предпочитаю, – говорил Чаадаев, – бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать». А Пушкин, в отличие от Чаадаева, тешил себя надеждами. В 1817 году он писал Чаадаеву: «Товарищ, верь: взойдет она,/ Звезда пленительного счастья...» Чаадаев, в свою очередь, отвергал подобную наивную веру.
Чаадаевское неверие точно выразил современный поэт Александр Радковский в стихотворении «Чаадаев» (1968):
Мрачные стихи? Безусловно. Но и сочинения Чаадаева казались многим современникам его чрезвычайно мрачными: никогда еще русский не говорил ТАКОГО о России. Такой резкой критики прошлого России русская общественность еще не знала: «Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили...»
Слова эти, как удар плетью по обнаженной спине.
«“Письма” Чаадаева послужили толчком для раздела русского общества на западников и славянофилов: тех, кто призывал Россию идти по столбовой дороге всего цивилизованного мира, и тех, кто настаивал на особом, русском, пути развития. Спор этот продолжается, и каждая сторона считает себя правой.
«Письмо» Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж, – писал в свое время Александр Герцен. – Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, – все равно, надобно было проснуться... «Письмо» Чаадаева потрясло мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горя от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление».
Аполлон Григорьев: «Письмо Чаадаева... было тою перчаткою, которая разом разъединила два дотоле если не соединенные, то и не разъединенные лагеря мыслящих и пишущих людей. В нем впервые неотвлеченно поднят был вопрос о значении нашей народности, самости, особенности, до тех пор мирно покоившийся, до тех пор никем не тронутый и не поднятый».
И снова Герцен: «Наконец пришел человек с душой, переполненной скорбью; нашел страшные слова, чтобы с похоронным красноречием, с гнетущим спокойствием сказать все, что... накопилось горького в сердце образованного русского...»
Петр Чаадаев хотел жить по законам совести. Но это была утопия. Воздушный замок.
Драматичной была судьба и сочинений Чаадаева. 6-е и 7-е письма появились в России лишь в 1906 году, 8-е было опубликовано в «Литературном наследстве» аж в 1935 году. «Апология сумасшедшего» вышла в свет в 1906-м. Афоризмы Чаадаева – в 1986 году. В 1905 году издана книга М. Лемке «Николаевские жандармы и литература», в ней были даны кое-какие выдержки из петербургского «Дела» Чаадаева, в частности расписка мыслителя: «...и я в будущее время писать ничего не буду». Однако не писать он не мог. Судьба России терзала чаадаевскую душу.
Повторим еще раз его слова: «Я не научился любить свою Родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами».
Кто пойдет по безумному чаадаевскому пути?!..