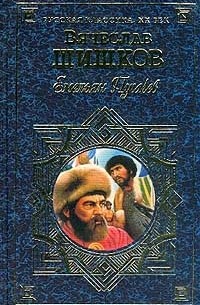Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
2
В барском дворе зачинался пир. Победители поймали поваренка Мишку и выведали у него, что под барским домом есть подвал, а там бочка старой водки и гора бутылок. Набежавшие бабы топили кухню, кипятили в котле кофе, прямо в зернах, валили туда сахар, лили молоко: «эх, хошь денек да наш», спорили друг с дружкой о том, как надо готовить кофе по-господски, незлобно перекорялись.
Хлебнувшие вина крестьяне резали, свежевали барских овец, свиней, тащили к стряпухам и мясо и квашеную капусту, ухмыляясь в бороды, говорили:
– Эх, хошь убоинки поесть... Ну и добро без барина... Паска господня!
– Вот ужо-ужо, – пугали их бабы. – Думаете, барин стерпит?.. Вот ужо-ужо. Всех вас передерут да перевешают...
– Ладно, ладно... Пожалуй, веревок не хватит... Да что у нас, ноги, что ли, отсохли? На вольные земли ударимся, в бега.
Послали благовестить в большой колокол. Во двор притащили аналой, хоругви, иконы, привели попа с дьячком, раздули кадило, велели попу облачиться, велели благодарственный молебен петь о дарованной победе, а ежели поп будет упорствовать, они надают ему по шее, тогда он больше им не поп и пускай убирается ко всем чертям...
Кудлатый смирный батюшка в лаптях и в посконной заплатанной рясе облачился в парчовые ризы, взял заскорузлой рукой кадило и, не попадая со страху зубом на зуб, начал молебен. Нос у него толстый, щеки толстые, голос толстый. Крестьяне во всю глотку подпевали ему. Мужики, страшно выкатывая глаза, азартно ревели быками, бабы тоненько повизгивали.
После молебна расселись на луговине обедать. Все хорошо подвыпили, даже ребятишки. Батюшка, отец Сидор, любитель покутить, больше не трясся, он хлебал жирные щи, жевал свинину, целовался, пел плясовые песни, плакал, легонькая бороденка его моталась.
– Ох, ох, горе нам, братия моя... – качал он кудлатой головой. – И вас всех в Сибирь угонят и меня заедино с вами, аки протопопа Аввакума-многотерпца...
– Пущай гонит! – шумели крестьяне. – А кто ж на него, на убивца, спину-то будет гнуть? А?
Сладкий кофе хлебали ложками; возле котла – давка, всем любопытно отведать барского пойла. Крепкими зубами хрупали зерна, сплевывали на луговину – горечь!.. Не то всерьез, не то в шутку укоряли баб:
– Не упрел горох-то ваш... Его варить да и варить надобно.
Пьяный поваренок, черноглазый Мишка, в белом колпаке и при переднике, покатывался со смеху:
– Зерна-т молоть надыть, кофей-то... Ах вы, ду-у-ры!..
– Ври, молоть... На ветрянке, что ли?
– Пошто на ветрянке, а такая меленка есть ручная, хромоножка-барыня сама мелет...
– Так что ж ты ране-то молчал, цыганские твои бельма! – напустились на него смутившиеся хмельные бабы; они с хохотом загнули Мишке салазки, навалились на него, стали целовать. Мишка орал, отлягивался от баб.
Несколько парней и мужиков, вспомнив о пленных солдатах, пошли угощать их. Шли в обнимку, пошатываясь, земля под ногами качалась.
Из пятидесяти человек двое солдат убиты, тридцать пять сидели взаперти, остальные пропали без вести, надо быть – бежали.
– Вот, солдатики, кланяемся вам винцом... Уж не прогневайтесь, – и крестьяне стали обносить солдат водкой, совать куски хлеба.
Связанные по рукам солдаты сидели в сарае на соломе, старые и молодые, с заплетенными, как у девок, косичками. Недаром, когда они, направляясь в село Большие Травы, проходили по деревням, маленькие ребятишки, указывая на них пальцем, кричали:
– Мамынька, деда, тятя, глянь – девки в штанах идут!
Солдатам на время развязали руки, они выпили вина, пожевали хлеба, утолили водой жажду, стали умолять крестьян:
– Отпустите, ради Бога, нас, не делайте нам позора...
– И не проситя, и не проситя, – отмахивались руками крестьяне, – не бывать тому!.. Вы опять супротив нас пойдете.
Возле кузни – толпа. Мужчины сдернули с лохматых голов войлочные шляпенки, крестятся. На земле – безжизненное тело рыжебородого дяди Митродора в беспоясой, залитой кровью рубахе. Скуластое лицо спокойно, руки спокойны, они сложены на груди крест-накрест, они больше не схватятся за вилы, а плотно закрытые глаза никогда не увидят неба.
Рядом с ним сидит на камне в понурой позе сгорбленный отчаяньем капитан Несменов. Мундир, рейтузы да и сам он весь в грязи. Голова низко опущена. Он стиснул виски ладонями – на указательном пальце золотое обручальное кольцо, – упорно глядит в землю, ничего не видит, ничего не слышит. Он крепко прикован цепью к трупу убитого им Митродора. Кузнецы постарались. Такова была воля взбунтовавшихся крестьян.
– Так и в землю его живьем закопаем с покойничком вместях... В одну могилу. Бог рассудит их... Чего, ахвицер, молчишь? Эй, ты! Говори.
Офицер опустил руки, вяло поднял голову, взглянул на толпу мутными глазами. Лицо у него некрасивое, нос длинный, губы толстые, глаз подбит, ухо надорвано. Он ни слова не сказал толпе, только вздохнул, вновь низко опустил седеющую голову, опять сжал ладонями виски. Истоптанному, избитому телу его было больно, мучительно сжималось сердце, сердце его тосковало большой тоской.
– Поди, деревенька у тя какая-никакая есть?.. Поди, тоже тиранишь мужиков-то крепостных своих?.. Да ты язык, должно, проглотил, чего ли? Эй, ты!
Нет, у капитана Несменова деревеньки не было, а была жена, мать, четверо детей, была унизительная бедность и лишения.
У рыжего дяди Митродора, что лежал бездыханным на земле, тоже была мать, жена и пятеро детей. Он тоже очень беден, он не богаче офицера, он, пожалуй, много бедней его. Вот теперь его семья осиротела, кормилец-поилец мертв. Но семья еще не ведала о его смерти, да лучше бы ей об этом и не знать – то-то будет горе.
Степанида негромко сказала:
– Вот бы этак-то нашего барина-змея приковать... А этот какой– то смирный... Чегой-то жалко, бабы, мне его, ахвицера-т...
Вдруг плечи и полуседая голова сидевшего в согбенной позе офицера задергались, цепь звякнула, перхающий не то кашель, не то стон вылетел из его груди.
– Плачет, – прошептали бабы.
У ног офицера поставили кувшин с водой, положили полкраюхи хлеба.
– Пожуй... Испей водички-то. Человек ведь тоже... – послышались соболезнующие голоса.
Не отрывая от головы рук, офицер сердито пнул ногой кувшин, пнул краюху хлеба. Цепь, соединяющая пуповиной живого и мертвого, натянулась, звякнула, покойник шевельнулся.
А там, посреди двора, под тремя высокими липами, гулял народ. Три трехструнные балалайки звенькали, бубен бил, пастушьи рожки дудели, десяток парней прицокивал в такт пустопорожними бутылками. И под эту развеселую музыку с удальством и присвистом шлепали лаптями плясуны: девки в пестрядинных сарафанах поводили круглыми плечами, подбоченивались и, семеня ногами, проплывали павами. Возле них, приседая, подскакивая, кувыркаясь через голову, крутились парни.
В другом кружке гулял захмелевший поп. Он сбросил подрясник, сорвал с головы скуфейку и под общий хохот трижды пускался в пляс, трижды валился вверх лаптями.
– Винца, батя, переложил! – хватаясь за животы, хохотали бражники.
Всюду было весело: на барском дворе, и возле церкви, и на улице села. Крестьяне ходили в обнимку, пьяными голосами нескладно кричали песни. Драк не было.
Наступил вечерний поздний час, а село еще не угомонилось. Прилетевшие с полей скворцы, грачи и всякая малая пичуга сроду такого веселья не видали и не слыхивали таких разудалых песен.