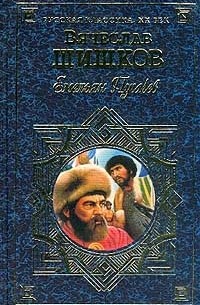Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
4
Прошел вечер, наступила ночь.
Пугачев с Семибратовым нашли приют у родителей погибшего капрала. Сюда пришел и артиллерист Перешиби-Нос.
В светце горела трескучая еловая лучина, золотые угольки падали в корытце с водой и, взбулькнув, умирали.
В переднем углу под образами, на столе, накрытом набойчатой скатертью, покоилось тело капрала царской службы Ивана Ивановича Капустина, на груди медали, на глазах большие екатерининские пятаки.
Спать не ложились, всех обуяла тревога и мучительная скорбь. Старик, кряхтя и роняя слезы, мастерил гроб сыну. Семибратов помогал ему. Старуха пластом лежала на полатях, маятно вздыхала, плакала. На коленях Пугачева, хмурясь на жалкий огонек, мурлыкала пестрая кошка. Пугачев вполголоса расспрашивал артиллериста о Павле Носове.
– Любил я старика... Где-то он, каков?
– В побывку тоже навроде меня отпросился, – тихо ответил Перешиби-Нос и вздохнул. – Чижало нашему брату солдату. С вами, вольными казаками, не уравнять. Казак отвоевался и лежи дома на боку.
– Ну, брат, и нам не дюже сладко, – возразил Пугачев, поглаживая кошку. – Бедность, чуешь, душу гложет. Вот и мы с Семибратовым в дальние края едем горе мыкать, не от чего иного, как от бедности. Да замест спокойствия эвот в какую бучу втюхались.
– Уж вы, казаченьки, не спокидайте нас в этакой беде, – сказал хозяин.
Пугачев вынул из торбы напильник с бруском и принялся натачивать саблю.
– Да-а, – протянул Перешиби-Нос. – Вспомянешь по-доброму, ерш те в бок, и Прусскую войну. Да мы там, можно сказать, как паны жили. А как возворотились в Россию, Боже ж ты мой, аж сердце кровью облилось. Встретили нас в Питере превеликой муштрой на немецкий лад, да телесные наказания почасту были, солдаты в уныние пришли, с отчаянья на нож бросались, или в петлю головой... За одну зиму, помню, в одной только нашей казарме, ерш те в бок, семеро повесилось. А кой-кто и в бега ударился. Это в столице. А придешь в деревню в побывку, там и вовсе сквернота одна: голод, бедность да истязания от бар великие... Эх, ерш те в бок...
Вдруг беседа прервалась: по улице вскачь промчалась лошадь, за ней другая.
– Солдаты! Солдаты идут! – кричали за окнами.
Пугачев выскочил на улицу. Дождь кончался. В небе стоял на рогу месяц. Ведя в поводу упарившегося коня, к Пугачеву подошел парень в заплатанном мокром кафтане и взмокшей грибом шляпенке. Сбегались люди.
– Хозяевы, на сход ладьте, – возбужденно сказал им парень. – Мы с Мишкой Сусловым из Сукромен прискакали, солдаты из городу к нам на подводах понаехали, сорок девять душ, ахвицер с нимя... Утресь сюды тронуться сулили, к обеду ждитя...
Откуда-то пьяная долетала песня. Собаки лаяли. На колокольне опять ударили всполох. Вскоре барский двор, покрытый после дождя вязкой грязью, наполнился крестьянами. Зажгли костры. Жители грудились кучками, каждый к своей деревне: Машкина, Чупрынова, Карасикова – все они сбежались в село еще вчера на зов набата, а теперь, судя по выкрикам, по гулу голосов, инодеревенцы сговаривались уходить подобру-поздорову восвояси.
– Кто верховодить будет? – слышались бодрые голоса. – Давайте поклонимтесь казакам.
– Слушай, громада! – Пугачев преподнялся на стременах и замахал шапкой. Возле него плотно сбились только жители села Большие Травы. – У кого ружья, самопалы, тащи сюда, а пороху мы в барском дому пошукаем... Перепалка будет добрая... Только вы не трусьте, крестьянушки...
– Нет у нас ни хрена, казак, – заголосили крестьяне. – А кулаками супротив ружей не намашешь. Побьют нас!..
И многие подхватили:
– Побьют нас солдаты... Ой, мати-богородица, чего ж нам, горемыкам, делать-то?
Слыша это, инодеревенцы, один по одному, стали крадучись подаваться в стороны, отставать от крестьян села Большие Травы, кой у кого на загорбках узлы с барским добром. Тогда Пугачев что есть силы закричал с коня:
– Куда вы, стой! Не можно, мирянушки, в этакое время втикать до дому. Не можно своих бросать... Коли вы сгрудитесь воедино и дадите отпор всем гамузом, от солдатишек и дрызгу не найти: ведь вас полтыщи, как не более, на кажинного солдата десяток мужиков, за милую душу сомнете их, мирянушки. А уж мы постараемся... Мы Фридриха били, Берлин брали!
Крестьяне села Большие Травы безмолвно переминались с ноги на ногу, сопели, а те, что собрались утекать, кричали издали:
– Тебе хорошо, казак! Ты вскочил на конь, расшарашил ноги, да и был таков... А ведь нам солдатня-то кроволитье учинит. Ахвицер-то, поди, лизаться не будет с нами.
И еще то здесь, то там слышались малодушные выкрики:
– Покориться надо барину, с повинной идти!.. Вот чего...
– А-а-а, с повинной?! Хоромы барские разграбили, узлов себе понавязали, господской наливочки нажрались да с повинной?
– Нате вам узлы, нате, подавитесь! – галдели инодеревенцы, с гневом швыряя в грязь тяжелую поклажу. – Эй, мужики, гляньте!.. Мы безо всего уходим...
Была серая ночь. В березах встряхивались, бредили грачи. На крестьян напала оторопь. В барский дом труслиые руки уже втаскивали выброшенную мебель, вносили узлы, рухлядь, вкатывали в каретник ободранные экипажи, а срезанную с фаэтонов кожу совали в кузова. Ожившая дворня, осмелев, бродила по комнатам, пытаясь под окрики дворецкого навести хоть какой-нибудь порядок в доме.
Толпа возле Пугачева редела, подтаивала с боков, как снежный ком возле костра. Казакам и Варсонофию Перешиби-Нос, сидевшему ту же на коне, летели в уши боязливые речи оставшихся. Крестьяне, размахивая руками, сердито сплевывая, говорили о том, что вот набегут солдаты, усмирят народ и учнут вешать чрез десятого. Так, мол, было в селе Вознесенском, в сотне верст отсель, троих зачинщиков повесили, четверых запороли насмерть. А возле Пензы, а в Тамбовском уезде, а под Тверью – всем зачинщикам карачун пришел, вечную память спели.
Дух Пугачева помутился. Ведь он, проезжий казак, главный зачинщик здесь. Уж кому-кому, а ему-то первая петля будет. А не плюнуть ли Пугачеву на мужиков, не бросить ли все это заделье да вместе с Семибратовым не сигануть ли под шумок в кусты?
Но тут вылез вперед огромный парнище. Он зычно крикнул:
– Братцы! – сорвал с кудрявой головы шапчонку и шмякнул ее оземь. – Отцы, братцы, старики!.. Нам так и так пропадать доводится. Стой, братцы, до последнего! Солдатишек мы побьем, барина зарежем. Тады новый барин приделится сюды, авось вольготней под ним жить станет. Пострадать должны за правду, братцы... И-эх! Пропадать так пропадать! – и парнище, подпрыгнув, с великим отчаяньем снова шмякнул свою шапчонку оземь.
Народ, разбившись на кучки, шумел, совещался, кричал, спорил. Но вот люди повернулись к парню, к казакам.
– Верно, Микита, толкуешь, правильно... – все тесно сбились возле Пугачева. – Ну, а как ты мекаешь, Омельян Иваныч?
У Пугачева сразу прошли все опасения, все страхи за себя.
– Громада! – встряхнув головой, громко сказал он. – Время зря тратить не приходится. Избирайте набольшего себе. Без головы не можно... Сами ведаете: руль кораблю дорогу правит...
– Тебя в набольшие, тебя! – в один голос загудела громада. – Будитя попа!.. Вали все в церкву крест целовать, чтобы свято, чтобы друг за дружку, значит...
Всей ватагой двинулись к церкви.
В барской кузне четверо деревенских кузнецов, по указанию Пугачева, с азартом выковывали наконечники для пик.
Пока шла в церкви присяга, наступил рассвет.