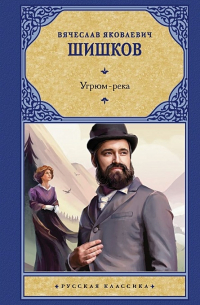Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
V
Мрачный Прохор, погоняя гнедого жеребца, ехал емкой рысью. На перекрестках, где пересекались две лесные дороги, его встретил похожий на гнома горбатый карла с мешком. Карла бережно поставил возле себя мешок, замаячил руками, замычал. Прохор осадил коня. Кланяясь и безъязыко бормоча «уаа, уаа», немой карла подал Прохору Петровичу письмо с печатью исправника «Ф. А.» и наверху – княжеская корона. Слюнявые губы карлы сжаты в кривую ухмылку. Прохор привязал коня, вскрыл конверт и стал разбирать вихлястый, весь в спотычках, необычный почерк Федора Степаныча. «Пьяный, должно быть, царапал», – подумал он.
«Прохор Петрович! Который выстрелен из пушки, это не Ибрагим. Вчера я поймал Ибрагима, отсек ему голову. Подаст вам это письмо несчастный карла. Я, мерзавец, мучил его, держал на цепи в Чертовой избушке, заставлял делать фальшивые деньги. Он передаст тебе мешок с головой черкеса Ибрагима-Оглы. Живите, Прохор Петрович, в полном спокойствии, а я теперь по-настоящему отправляюсь в дальний отпуск, в Крым. Прощай, прощай, голубчик Прохор...
Письмо было в каплях, в потеках – будто дождь или слезы, на уголке размазана кровь. Мрачный Прохор сразу весь просветлел: «Наконец-то черкес убит!» – стал быстро выворачивать карманы, отыскивая, чем бы в радости наградить карлу. Денег не было. Прохор снял дорогие часы, спросил:
– А где же все-таки сам исправник?
Но карлы не было. Мешок стоял прислоненным к сосне. И в версте позади, таясь в перелеске, маячили стражники с лакеями и доктором. Они боялись попасться на глаза хозяину.
Прохор привстал на колени и, волнуясь, раскрыл мешок. На дне мешка лукошко. В лукошке вверх лицом голова исправника Федора Амбреева.
Прохор широко распахнул по-страшному глаза и рот. В его душе вдруг скорготнул, как пилой по железу, раздирающий сердце визг. Морозом сковало дыхание. Гримаса оглушающего ужаса взрезала его лицо. Брови скакнули на лоб. Он сразу понял, что его поразило безумие.
– Федор! Федор!! – наконец закричал оцепеневший Прохор Петрович. Но его крепко перепоясала вдоль спины по полушубку чья-то плеть. Прохор вскочил. Плеть стегнула его по голове с уха на ухо.
– Хороша подарка?! – дико хохотал с коня Ибрагим, оскаливая злобные зубы.
И в третий раз свистнула плеть по Прохору.
Прохор бросился бежать по дороге, бестолково взмахивая выше головы руками, будто отбиваясь от слепней. Вздымая пыль, мчались за Ибрагимом стражники. Бестолковая стрельба огласила лес.
С этого момента вся нервная система, вся психическая сущность Прохора дрогнула, сотряслась, дала трещину, как от подземного удара громоздкий дом. Прохор Петрович до конца дней своих не мог уничтожить теперь вставший в нем страх. Он силою воли лишь вогнал его внутрь. И страх, как дурная болезнь, быстро стал разлагать его душу.
Вся знать, все служащие предприятий взволнованы этим зверским убийством исправника. Значит, Ибрагим-Оглы жив; значит, его шайка в действии.
Жилые дома с семьями побогаче с вечера запирались наглухо ставнями. Спускались цепные собаки. Многим чудились в потемках обезглавленный исправник и мстящий кинжал черкеса. Мистер Кук, ложась спать, клал возле себя два револьвера и пятифунтовую гирю на веревке. Лакей Иван спал, держа в руке топор. Новый пристав и следователь производили дознание, составляли срочное донесение в губернию об убийстве исправника, коллежского советника Амбреева. Уехавшие с исправником урядник Спиглазов и три стражника из служебного рейса не вернулись. Они, вероятно, тоже убиты Ибрагимовой шайкой.
Сутемень, темень. Мрак. Небо затянуто в тучи. Наступившая ночь набухала страхами. Всюду уныние, всюду невнятное ожидание бед. Выл волк.
...Позвольте, позвольте!.. Нельзя ли хоть струйку свежего воздуха.
Вот Илья Петрович Сохатых. Мимо него черным коршуньем несутся события; они скользят где-то там, с боков и сверху, едва задевая его сознание. Пусть все сходят с ума, пусть режут, убивают друг друга, ему хоть бы что.
Третьего дня, от большого ума своего, от убожества жизни, он побился об заклад с лакеем Иваном съесть тридцать крутых яиц и фунт паюсной икры. Съел всего двадцать восемь яиц с икрой и чуть не умер. Иван же скушал сорок два яйца, полтора фунта икры и чувствовал себя прекрасно.
Мистер Кук – в восторге: послал портрет Ивана и соответствующую заметку в одну из нью-йоркских бульварных газет, а виновнику подвига подарил клетчатые подержанные штаны и шикарный галстук. А над пострадавшим Ильей Петровичем много смеялись. Хохотала и малолетняя Верочка. Но, в подражание старшим, она вдруг осерьезилась, рассудительно развела ручками, затрясла головой, просюсюкала:
– Господи! Пятый год живу на белом свете, а такого дурака еще не видывала...
...Но, слава Богу, Илья Петрович Сохатых поправился.
Праздник из праздников, торжество из торжеств ожидается назавтра в его семье. Завтра в двенадцать часов, как из пушки, назначено святое крещение первенца, имя которому наречется – Александр.
Крестным отцом, по настоянию счастливейшей матери, приглашен молодой горный инженер Александр Иванович Образцов, квартировавший в семье Сохатых. Крестная мать – Нина Яковлевна Громова.
Феврония Сидоровна, оставшись вдвоем с молодым инженером, умильно говорит ему:
– Вот, Сашенька, наш Шурик подрастет, будет тебя папой крестным звать. Папа...
– Я очень рад, – отвечает молодой человек. Он весь зарделся и брезгливо прищурился на лысого, в пеленках, крошку.
– Ах, Сашенька!.. Ведь сынок-то весь в тебя.
– Ну, это еще... знаете, не доказано, – раздраженно пофыркивает носом инженер Образцов; он хочет добавить: «Похож или не похож, а я все-таки переезжаю от вас к Нине Яковлевне», но вовремя сдерживается, боясь опечалить хозяйку. В его душе непонятная враждебность к младенцу и к осчастливленной матери. Он весь как бы в липких, противных тенетах. Он морщится.
Илья Петрович Сохатых спешит заготовить последние пакеты. Ему деятельно помогает Александр Иванович Образцов.
– Я бы полагал, – говорит нахлебник, – мистеру Куку послать объявление из «Русского слова». И шрифт жирнее, и вообще – эффектнее.
– Да, да! – восклицает вспотевший Илья Петрович. – Первоклассным гостям обязательно «Русское слово». А второстепенным микробам – «Новое время». Очень слепо, черти, напечатали. Следовало бы редактора обругать по телеграфу... Да мараться не стоит.
– Я думаю – рубликов в двести обошлась вам эта затея?
– Почему – затея? Во всех приличных домах столицы это принято.
– Да... О покойниках.
– А чем же покойник лучше новорожденного? Ну разве это не красота?! – Кудрявый, начинающий заметно лысеть Илья Петрович разбросал на столе газетную простыню «Русского слова» и, прихлопнув ладонью то место, где напечатано объявление, сказал, задыхаясь:
– Читайте!
В веселенькой из залихватских завитушек рамке напечатано:
ВНИМАНИЕ!
Сим доводится до всеобщего сведения, что в резиденции «Громово» 21 сентября в 6 часов дня по местному времени у известного коммерсанта Ильи Петровича Сохатых и его супруги Февроньи Сидоровны родился сын-первенец, имя же ему – Александр.
– Они, вибрионы, выбросили два места в объявлении, – жаловался Илья Петрович. – После слова «Александр» у меня значилось: «малютка необычайно красивой внешности». Вот это выбросили и еще в конце: «Счастливые родители убедительно просят другие газеты перепечатать».
В каждый пакет вкладывался номер газеты и пригласительная с золотым обрезом и с короной карточка. В конце карточки приписка от руки: «Подробности смотри в прилагаемой газете на странице 8-й».
Двое подручных Ильи Петровича дожидаются в кухне, чтобы этим же вечером разнести пакеты по принадлежности.
У Прохора Петровича надвое раскалывалась голова. Там, глубоко под черепом, ныла, разрывалась, дергалась какая-то болючая точка. Острота неимоверных мучений была непереносима. Будто в дупло наболевшего зуба, к которому нельзя прикоснуться пушинкой, с маху забивают гвоздь. Прохор стонал на весь дом. На помощь прибегали оба врача, приходил Иннокентий Филатыч с отцом Александром и другие. Прохор всех выгонял:
– К черту! Вон! Стрелять буду...
Лишь старому лакею Тихону позволено пребывать в кабинете.
– Барин, страдалец наш... – страдая страданием Прохора, хныкал он и весь дрожал. – Дозвольте, я вас разую. А потом ножки в горячую воду. Сразу полегчает.
– Чего? В воду? Давай разувай. – И Прохор, не в силах сдержаться, снова неистово выкрикивал: – Ой! Ой! Ой!
Горячая вода лучше всяких лекарств делала свое дело: кровеносные сосуды в ногах расширялись, кровь откатывалась от головы, облегчая болезнь.
– Негодяй! Это он меня плетью... По голове. Как он смел? Мерзавец... Как он смел руку на меня поднять?!
– Разбойник, так разбойник и есть, – кряхтел Тихон, искренне радуясь, что угодил барину водой.
Чрез час боли стихли, но сон не шел.
Не спали и в покоях Нины Яковлевны. Там совещались, что делать с хозяином. Говорил доктор Апперцепциус. За последнее время он стал желчен и нервен.
– Я недели две-три тому назад рекомендовал больному длительное, комфортабельно обставленное путешествие. Это, безусловно, по авторитетному мнению науки, должно было произвести свой эффект. Но... – доктор развел руками. – Но, к сожалению, по мнению науки, авторитет которой в этом доме не желают признавать, благоприятный момент упущен. Галопирующая болезнь вступила в новый фазис своего развития. Этому способствовал казус с отрубленной головой исправника.
Отец Прохора Петровича – Петр Данилыч, спешно прибывший из села Медведева, тоже присутствовал на совещании. Он приехал с единственной целью насладиться зрелищем, как проклятый сын его будет ввергнут в глухой возок и увезен в тот самый желтый дом, где сидел по милости нечестивца Прошки несчастный старик, отец его. Проклятый сын будет орать, драться, но его сшибут с ног, забьют рот кляпом, раскроят в кровь морду, вышибут не один здоровый зуб. Пусть, пусть ему, анафемскому выродку, убийце, пусть!
Лохматый Петр Данилыч, притворно вздохнув и покосившись на икону, грубым, каменным голосом говорит:
– По-моему, вот как, господа честные. Путешествие ни к чему. Глупая выдумка. Сопьется малый. А надо Прошку везти в дом помешательства. Там и уход хорош, и лечат хорошо. Я сидел – я знаю.
– Господи, помилуй! Господи, помилуй! – шепчет Иннокентий Филатыч, поеживается.
– Мне с этим необычайно тяжело согласиться, – убитым голосом говорит Нина Яковлевна, одетая в черное, траурное платье. – Нет, нет. Я готова выписать первоклассное светило науки, окружить больного самым внимательным уходом. Словом, я согласна на все жертвы. И мне странно слышать, – обращается она к Петру Данилычу, – как вы, отец, рекомендуете для сына сумасшедший дом?..
Старик ударил в пол суковатой палкой с серебряным набалдашником и открыл волосатый рот, чтоб возразить снохе, но доктор Апперцепциус, оскорбленно надув губы, перебил его:
– Хотя я в этом почтенном доме и не считаюсь светилом науки...
– Бросьте, доктор!.. – сказала нервно Нина Яковлевна. – Мы не для пикировок собрались сюда.
– Доктор верно говорит: в желтый дом, в дом помешательства – возвысил голос Петр Данилыч.
– Простите. Я этого вовсе не собирался говорить.
– Господи, помилуй, Господи, помилуй! – И Иннокентий Филатыч, тыча в грудь Петра Данилыча, укорчиво сказал ему: – Эх, батюшка, Петр Данилыч. В желтый дом... Да как у тя язык-то поворачивается! Нешто забыл, как плакал-то там да просил меня вызволить из беды?
– Дурак! – закричал Петр Данилыч, злобно моргая хохлатыми бровями, и стукнул в пол палкой. – Меня здорового засадили! Прошка засадил! Так пусть же он...
– Отец! – крикнула Нина.
– Я правду говорю! Он, мерзавец, много лет держал меня с сумасшедшими. Я еще с ним, с проклятым, посчитаюсь на Страшном суде Господнем... Я ему скажу слово. – Он встал, большой, взъярившийся, и свирепо загрозил палкой в сторону кабинета: – Убивец, сукин сын, убивец! – Старик весь затрясся. – Все сердце мое в кровь исчавкал, пес!.. Дьякона подстрелил, рабочих больше сотни в могилу свел... Хватайте его, жулика! Не в сумасшедший дом, а в каторгу его! Потатчики, укрыватели!! И вас-то надо всех в тюрьму!
Присутствующие вскочили. Иннокентий Филатыч и отец Александр, успокаивая старика, повели его вон. Старик кричал, размахивая палкой:
– К губернатору поеду! Все доложу! Все... В Питер поеду... Прямо в сенат, к царю.
Нина готова была разрыдаться.