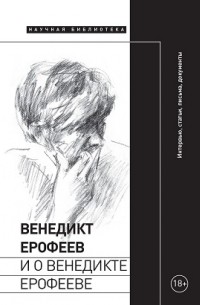Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Илья Симановский, Светлана Шнитман-МакМиллин. Венедикт Ерофеев в беседе с Дафни Скиллен
Илья Симановский. Работая с О. Лекмановым и М. Свердловым над расширенным изданием биографии «Венедикт Ерофеев: посторонний», я обратил внимание на то, что в одной из дневниковых записей Ерофеев упоминает «магнитофонное интервью», которое летом 1982 года он дал своей знакомой, называемой им «британка Дафния». О таком интервью Ерофеева я ничего не знал – очевидно, оно никогда не было опубликовано. Надежда отыскать кассету меня взволновала – тем более что это была возможность оцифровать и сохранить настоящий голос писателя, записей которого осталось ничтожно мало. Определение «настоящий» я употребил неслучайно. Предложения об интервью посыпались на Ерофеева лишь в последние два года его жизни, когда он, больной раком горла, уже потерял свой очаровывавший современников баритон и разговаривал при помощи специального аппарата. Было понятно: если кассета почти за сорок лет не исчезла и не испортилась – она бесценна. Но сначала требовалось отыскать хозяйку записи, которая интересовала меня не меньше. В записной книжке Ерофеева я нашел настоящее имя «британки Дафнии»: Daphne Skillen, и Google, к моей радости, выдал мне целый ряд ее публикаций – Дафни оказалась известной журналисткой. На email, указанный в одной из ее статей, я немедленно отправил письмо. Несколько стесняясь своего искреннего пафоса, я написал, что если кассета с интервью сохранилась, то его публикацией Дафни окажет большую услугу русской культуре, и что я хотел бы взять у нее интервью о Ерофееве. Ответ пришел быстро – Дафни охотно соглашалась поговорить со мной по «Скайпу», а также обещала поискать кассету. По ее словам, много лет назад она передала эту запись ученому, который писал о Ерофееве диссертацию. И тут действие этой почти детективной истории переносится в Лондон.
Светлана Шнитман-МакМиллин. Я познакомилась с Дафни Скиллен осенью 1983 года, когда Арнольд МакМиллин, мой (тогда будущий) муж, профессор литературы Лондонского университета, предложил представить меня аспирантке, которая встречалась с Венедиктом Ерофеевым. В то время я только приступала к работе над диссертацией, превращенной позднее в монографию «Венедикт Ерофеев „Москва – Петушки“, или The rest is silence». Мы встретились с Дафни в пабе The Lamb, который часто посещал живший на соседней улице Чарльз Диккенс. Чрезвычайно живая, смешливая и полная интересных историй Дафни очень понравилась мне. За джином с тоником она рассказывала о своем знакомстве с Венедиктом Ерофеевым, и кое-что из ее рассказов я включила в свою книгу. Потом мы не виделись много лет, но в последние годы иногда встречались на докладах в университете и других организациях.
29 мая 2019 года я получила от Дафни письмо, где она просила меня вернуть ей кассету с ее интервью Венедикта Ерофеева, данную мне 36 лет назад в пабе The Lamb. В полном изумлении я ответила, что я не только не получала от нее кассеты, но даже не подозревала о существовании такой записи. Я была поражена и очень просила ее поискать в своих закромах, так как значение такого интервью переоценить невозможно. Проведя следующий день в неутихающем беспокойстве, я наконец увидела в своей почте письмо: Дафни нашла кассету у себя! Оказалось, что после нашего первого знакомства она собиралась отдать мне запись, но в занятой жизни намерение как-то обратилось в ее сознании в уверенность, что она передала мне интервью. В огромной радости и возбуждении я сразу сказала Дафни, что его нужно опубликовать. Она немедленно согласилась, понимая важность интервью для литературного наследия писателя. Но вначале она хотела послушать его, а магнитофона у нее больше не было. Мы договорились, что через несколько дней Дафни приедет в университет, где я устраивала «круглый стол», посвященный 50-летию написания «Москвы – Петушков», и даст мне кассету, которую мы сможем вместе послушать на нашем стареньком магнитофоне. Она просила не слушать запись до ее приезда к нам домой. Мы все очень беспокоились, что кассета может быть повреждена. Перед приездом Дафни я дважды проверила магнитофон. Он работал. Но когда, весело пообедав, мы уселись на диване и я вставила кассету, магнитофон закрутился, охнул и испустил дух. Арнольд и Дафни приняли это с британским стоицизмом. Моему разочарованию не было конца. Немедленно схватив компьютер, я заказала по интернету новый магнитофон, который мне доставили поздно вечером на следующий день. Я включила его, поставила кассету, и через несколько секунд в комнате зазвучал удивительной красоты баритон и милый смех Венедикта Ерофеева. Не выпуская магнитофона из рук, я, не отрываясь, прослушала интервью дважды с чувством, что в лондонской ночи со мной происходит настоящее чудо. Той же ночью я написала два письма: Дафни – чтобы сообщить ей счастливую весть о сохранности кассеты. И Илье Симановскому – с тем же известием и попросив его участвовать в публикации этого интервью. Я отдавала себе отчет в том, что оно всплыло только благодаря его неутомимой энергии в поиске материалов о писателе. И, конечно, я понимала, насколько его глубокое знание биографии Ерофеева будет неоценимо при написании сносок и комментариев к этой публикации. К моей радости, Илья сразу согласился.
В университетском медиацентре я попросила наших компьютерщиков оцифровать кассету. Через пару дней я получила звуковой файл, который сегодня читатель может послушать по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=GT95C2J19Qs или скачать в библиотеке ImWerden. Его расшифровку мы и предлагаем читателю. Но сначала несколько слов о самой журналистке.
Из биографии Дафни Скиллен. Дафни Скиллен (Daphne Skillen) родилась в Шанхае, куда русско-украинская семья ее матери эмигрировала из Владивостока. Ее отец, грек по национальности, приехал в Шанхай в поисках новой жизни в самом оживленном и быстро развивающемся городе Азии. Родители говорили друг с другом и с дочкой по-английски, и Дафни посещала американскую школу.
В мае 1949 года семье пришлось срочно эмигрировать: Народно-освободительная армия Китая под командованием Мао Цзэдуна наступала, и приход коммунистов к власти был неотвратим. Богатые китайцы и иностранцы покидали страну. Родители Дафни оставались в Шанхае до последнего момента, но в конце концов решились на новую эмиграцию. Пассажирские самолеты больше не летали. Отцу удалось уговорить британского пилота транспортного самолета вывезти семью. Выгрузив чей-то роскошный рояль, летчик посадил родителей, двух дочерей и их русскую бабушку в самолет, летевший в Австралию.
Окончив школу и поступив в Сиднейский университет, Дафни получила диплом по политологии, психологии и философии. Переехав вместе с мужем в Оксфорд, она прошла экстерном интенсивный школьный курс русского языка. Потом они поселились в Кентербери, где ее муж преподавал философию в университете.
Дафни получила диплом по русскому языку и литературе Лондонского университета и, проведя год в США, прошла магистерский курс в Университете Колорадо в Боулдере, написав диссертацию о творчестве Андрея Синявского. В 1985 году она защитила докторскую диссертацию на тему Concepts of myth and utopia in Russian revolutionary literature в Лондонском университете.
В 1981–1982 годах, поехав в Москву на языковую практику, Дафни начала работать в Агентстве печати «Новости» (АПН), редактируя переводы советских коллег на английский язык. В этот период она интенсивно общалась с советскими интеллектуалами, приобретя много знакомых в среде диссидентов. Но в 1984 году Дафни, работая для британских телевизионных компаний, вдруг оказалась persona non grata, и в течение четырех лет ей отказывали в советской визе. Только в 1988 году, с наступлением перестройки, она смогла вновь поехать в Москву, где снимала телевизионные документальные фильмы. В 1990‐х и 2000‐х годах Дафни жила в Москве, работая консультантом для ряда международных проектов в области СМИ и интернациональной помощи в России, бывших советских республиках и странах Юго-Восточной Азии.
В 2017 году она издала книгу Freedom of Speech in Russia. Politics and media from Gorbachev to Putin. Сейчас Дафни живет в Лондоне, занимается исследованиями и пишет новую книгу о России.
Несколько предварительных замечаний. Известно, что Венедикт Ерофеев часто добавлял штрихи и краски к собственному апокрифу. К любимым мифам, которые он распространял, относится, например, безвыездное детство на Севере. В таких случаях мы приводим, как правило, только один основной источник достоверной информации. Интервью велось самым непринужденным образом, и Ерофеев не знал вопросы и не готовил ответы заранее. Оно происходило вечером после утомительного для него дня, и в его речи встречаются иногда грамматические несоответствия и чуть ломаный синтаксис, присущие спонтанной устной речи. Но и эти моменты передают особенности его живого языка в общении, поэтому мы решили печатать интервью с минимальным редактированием. Иногда Ерофеев сознательно меняет произношение слова или отдельных звуков. В таких случаях буквы даются курсивом. В пленке есть перерывы и пропуски, и Дафни больше не помнит, с чем они связаны.
Мы хотели бы выразить свое восхищение Дафни Скиллен, проведшей такое интервью. Из известных на сегодняшний день это самое раннее интервью, взятое у Венедикта Ерофеева, и единственное, где звучит его живой голос, утерянный позднее в результате страшной болезни. Мы хотим сердечно поблагодарить Дафни за доверие и разрешение опубликовать эту запись.
Первая расшифровка интервью была опубликована в журнале «Знамя», а вскоре в Cardinal Points Literary Journal появился английский перевод. Сейчас мы предлагаем более подробный комментарий к тексту этого поразительного интервью.
Эта публикация не появилась бы в таком виде, если бы не щедрая помощь целого ряда людей, которых мы оба, но особенно, конечно, Илья, хотели бы поблагодарить: Анны Авдиевой, Марка Гринберга, Александра Дымича, Галины Ерофеевой, Александра Лаврина, Олега Лекманова и Евгения Шталя.
Интервью взято 12 июля 1982 года в квартире Галины и Венедикта Ерофеевых в Москве, улица Флотская, д. 17, корп. 1, кв. 78. Приблизительное время начала интервью – 7 часов вечера.
Дафни Скиллен (далее – ДС): Скажи, где ты родился?
Венедикт Ерофеев (далее – ВЕ): Ты давай, валяй вопросы. Где родился? 38‐й год, Заполярье, Кольский полуостров, Мурманская, то есть, область.
ДС: А где ты ходил в школу?
ВЕ: Все там же, все десять лет школы, с первого по десятый отбарабанил в средней школе города Кировска Мурманской области. В Хибинах, знаешь такие горы – Хибины?
ДС: Нет, не знаю.
ВЕ: Ну так вот, такие есть горы на Кольском полуострове. С первого по десятый класс. Причем до десятого класса, то есть до семнадцатилетнего возраста, я ни разу не пересекал полярный круг с севера на юг.
ДС: Почему?
ВЕ: Ну, так уж, не пришлось потому что (смеется)… Там родился и не приходилось никуда выезжать. Так что я впервые в жизни поехал, когда окончил со своей дурацкой золотой медалью школу…
ДС: Кончил с медалью?
ВЕ: Ну да. Тут же поехал поступать в МГУ, a как раз только что открылось новое высотное здание МГУ. Я тогда впервые этот Полярный круг и пересек, впервые увидел живую корову и всю остальную экзотику среднерусскую. Тогда экзаменов не было, я просто прошел собеседование и поступил в МГУ на филфак. Но проучился там всего полтора года. Задурил, естественно, поскольку мне был девятнадцатый год и на меня свалилась куча разных кризисов – от самого высшего пошиба до самого низшего разбора (смеется).
ДС: Каких кризисов?
ВЕ: Ну, это уже неважно. Это тема для специального чего-нибудь… Они очень хорошо экстравагантным слогом изложены в «Заметках психопата», как раз годы 56‐й – 58‐й. Они долго хранились у одного моего знакомого. Потом он передал их еще одному своему знакомому, и у того они с концами сгинули когда-то во время переезда с квартиры на квартиру. Они, видимо, выбрасывали все стопы ненужной бумаги, и в том числе попало и это… Во всяком случае, в 60‐м году я в последний раз их видел и с тех пор не видывал. Все-таки большая потерийка… Потому что так-то она в высшей степени незрелая, но можно было из нее, переделав досконально совершенно, сделать интересную штуку. Тем более что писано, в основном, в восемнадцатилетнем возрасте.
А потом – здесь все примерно верно, потом работал рабочим на стройке. Тогда как раз строились Черемушки в Москве. Потом кочегаром, в Москве же. В 58‐м году плюнул на столицу, поехал на Украину и работал в геологоразведочной партии.
ДС: А я не знала, что ты был такой здоровый… человек.
ВЕ (смеется): В геологоразведочной партии, думаю, так. Потом возвратился… Нет, стоп, это еще до отъезда из Москвы, 58‐й – 59‐й год работал приемщиком винной посуды в центре Москвы.
ДС: Это завод?
ВЕ: Нет, это ларек, специальный ларек – приемный пункт стеклопосуды. Ты никогда не сталкивалась?
ДС: Нет…
ВЕ: Люди целыми сумками таскают туда всевозможную посуду из-под вина. Девять копеек – маленькая, двенадцать копеек…
ДС: Да-да, конечно. Понимаю.
ВЕ: Сейчас все цены унифицированы, сейчас они все по двадцать копеек, а тогда… <нрзб> Накопил кучу материала. Ни одна работа мне не доставила столько интересного материала, как эта вот работа. Всего-то четырехмесячная работа на этом приемном пункте стеклопосуды…
ДС: А почему?
ВЕ: О… Очень интересно, очень интересно, да. Потом что же… В 59‐м, в конце 58‐го плюнул на столицу и поехал в геологоразведочную партию на Украину. Там работал 59‐й год. В 60‐м году – плюнул, в свою очередь, в Украину и работал дежурным в милиции в городе Орехово-Зуеве. Потом вышибли меня из Орехово-Зуева, я поехал во Владимир, то есть дальше nach Osten (смеется). Во Владимире работал библиотекарем, потом работал на строительстве шоссейной дороги Москва – Пекин, тогда строилась эта дорога. Она как раз проходила через Владимир. Так вот, я строил эту дорогу. Помнишь: «Папаша! Кто строил эту дорогу?» – у Некрасова? «Граф Петр Андреич Клейнмихель, душенька». И тут же поступил во Владимирский пединститут. Через полгода меня вышибли оттуда…
ДС: Почему?
ВЕ: Приказ гласил так: «За идейное, дисциплинарное и нравственное разложение студенчества института». Хотя я учился без единой четверки и при поступлении… Единственный человек в институте получал повышенную стипендию. Она уже не сталинской называлась, а ленинской, по-моему, стипендией… или премия… стипендия имени Лебедева-Полянского, что-то в этом роде. Одним словом, несмотря на то, что я первую сессию сдал на все «отлично», меня тут же попросили уйти. Мало того, потребовали органы, чтобы я выехал в 48 часов из города Владимира и Владимирской области. И вообще, чтоб не въезжал в пределы Владимирской области. А уж состав преступления не знаю какой… Я, по-моему, только и делал, что лежал, посасывал из горла водку (смеются оба)… и группировал вокруг себя людей, которые занимались примерно тем же. И еще стихами и разве что Евангелием.
ДС: А ты писал тогда?
ВЕ: Вот тогда написал… Да нет, после изгнания из Владимирского пединститута работал еще грузчиком и немножко кочегаром во Владимире. Потом, после изгнания в 61‐м году… вру, в 62‐м году, после изгнания из Владимира поселился в Павлово-Посаде. Там работал на поточной линии на кирпичном заводе. Потом-потом-потом-потом… в Коломне грузчиком на мясокомбинате, тоже Московская область. В это время как раз написал «Благую весть». Но она тоже потеряна. Она пользовалась успехом у владимирской молодежи. Ее переписывали от руки, я знавал даже энтузиастов, которые знали наизусть, хотя она все-таки размером солидным…
ДС: А ты не подумал о том, чтобы сохранить свою работу?
ВЕ: Ее сохранили. Я ее отдал приятелю – Цедринскому. Цедринский дал почитать своим друзьям. Кто-то из друзей дал одной из своих тетушек, а тетушка я уж не знаю… Куда сгинула – один Бог ведает, с 62-го же года я ее не видел. А потом, в 63‐м году, мне повезло, я определился на службу. «Кабельные…» – как же это называлось? Ну, плевать на название организации, одним словом, строительство и монтаж кабельных линий телефонной связи. То есть мы опутывали всю Россию телефонными связями. Ровно десять лет там оттарабанил – с 63‐го по 73‐й, даже десять с нахлестом. Приходилось работать в Московской области, Владимирской, Ивановской, Горьковской, Тамбовской, Липецкой, Смоленской, Черниговской, Гомельской, Могилевской, Тульской, в Литве даже, Брянской…
ДС: А как ты воспринимал это путешествие?
ВЕ: Какое?
ДС: Это хождение в народ…
ВЕ: Это хождение? Да почти ничего оно путного мне не приносило, но у меня было положение таково, что у меня не было ни паспорта, ни постоянной прописки, ни постоянной крыши над головой. А тут все-таки в разъездах мы жили постоянно в вагончиках. Знаешь, такие крохотные вагончики, в которых ютятся строители?
ДС: Да-да-да.
ВЕ: Мы эти вагончики цепляли и колесили с ними, как циркачи прежних времен свой фургон гоняли из угла в угол. Это хорошо Теофилю Готье было писать своего «Капитана Фракасса» – там все у него очень выглядит заманчиво, а тут ничего подобного нет. Сплошная грязнотища и все такое… Одним словом, сплошная харкотина.
ДС: А в гостинице невозможно было?
ВЕ: Да какие гостиницы, когда мы всегда в полевых условиях, в поле… Ну, правда, свои записные книжки очень обогатил, распух записными книжками. Во время этих разъездов писал немножко стихи для… Родился сын в 66‐м году. Для него вот я рассказывал…
ДС: Расскажи, это интересно.
ВЕ: В начале 70‐х годов стихи в разных жанрах. То есть начиная с катулловского размера или там с подражания… сапфической строфою и кончая современным верлибром. Во всех жанрах.
ДС: Они сохранились?
ВЕ: Сохранились, но часть из них пустила на растопку моя теща, то есть матушка моей первой жены. У меня все хранилось в Петушинском районе, где в это время жил сын. Я же к нему наезжал ежемесячно.
ДС: А когда ты поехал в Петушки?
ВЕ: А в Петушки… Я из Владимирского пединститута вывез одну девицу, и у нас в 66‐м родился сын. Пришлось срочно с ней обручиться, как говорится, потому что уже истекал месяц. А по истечении месяца младенцу надо давать, во-первых, отчество, а во-вторых, фамилию, разумеется. Пришлось срочно обручаться, прямо в последний день, потому что месяц истекал в этот день. А жену распределили по окончании института в Петушинский район, село Караваево. Это еще автобусом от Петушков к северу. Так что мне приходилось, сколько бы я ни колесил по Руси, примерно каждый месяц приезжать в Петушки. К сыну с гостинцами…
ДС: Как долго ты жил там, в Петушках?
ВЕ: Я там почти и не жил, только наезжал туда. Приезжал к сыну, допустим, на три-четыре дня, потом опять исчезал на месяц. Это до 73‐го года.
ДС: И когда ты написал «Заметки психопата»?
ВЕ: «Заметки психопата» – это я говорил… Когда я учился на первом курсе МГУ и немножко после изгнания из МГУ, когда пошел на московскую стройку.
ДС: Но тогда ты не вернулся в МГУ…
ВЕ: Нет, не вернулся. И не намерен был. В 72‐м, тут же прямо спустя два года после «Петушков» написал – почти целиком было написано – примерно такого же объема, чуть-чуть побольше, «Дмитрий Шостакович». Но он у меня пропал, у меня его свистнули.
ДС: Это что значит?
ВЕ: Что значит? (Оба громко смеются.) Это хорошенький вопрос! Я ехал в электричке поздно вечером и с большого похмелья. И у меня в сумке, в сетке то есть, с собой были две бутылки вина, которые прямо торчали из сумки. А рядом с сумками лежал пакет. В пакете были мои записные книжки. И вот как раз все черновики «Дмитрия Шостаковича», которые надо было просто сесть и переписать набело.
ДС: Это роман? Повесть?
ВЕ: Ну я не знаю… Я в названиях жанра не силен, как угодно можно называть. Я вообще терпеть не могу эти подзаголовки – там «поэма», «повесть», «роман» или… Какая разница, по существу? Просто «Дмитрий Шостакович». Хотя там речи о Дмитрии Шостаковиче почти нет. Хорошо, если три страницы попадались, где упоминался Шостакович. Он там совершенно ни к делу, и ни к месту, и ни ко времени.
ДС: Но почему ты назвал это «Дмитрий Шостакович»?
ВЕ: А «Дмитрий Шостакович» там потому, что по ходу дела начинались сцены не совсем цензурного свойства. И вместо того, чтобы описывать то, что не годится для печати, я начинал говорить о Шостаковиче. О том, что такой-то Шостакович – лауреат там трам-пам-пам, командор Ордена Почетного легиона, почетный член итальянской академии Санта-Чечилия и все такое… Одним словом, о Шостаковиче шла речь, пока не кончалась непристойная сцена. Как только она кончалась, повествование продолжалось дальше. Очень веселое повествование. Но когда опять случались сцены нехорошие, не для воспитанного слуха, а уж тем более не для советского слуха, хотя не на него было рассчитано, опять приходилось прибегать… дальше говорить о Шостаковиче. Попеременно о его симфониях… (Оба смеются.) Веселая была вещь. С печальным окончанием. Я, когда ее потерял, прямо… У меня ее выкрали вместе с сеткой. Я уснул в электричке, а это был вечер воскресенья, когда всему народу очень хоц-ца похмелиться, а уже достать негде – все магазины закрываются самое позднее в восемь. А я ехал уже в позднюю пору, в совершенно почти пустой электричке. Когда я проснулся… То есть кто-то соблазнился этой сумкой. Им все эти рукописи, черновики и не нужны были, никакой им «Шостакович» не нужен, они это, конечно, выбросили из окошка электрички. Им нужно было вино, а вот эти две бутылки… Если бы я их завернул хорошо в бумагу, ничего бы подобного не случилось.
ДС: Очень жалко…
ВЕ: Это 72‐й год. Я тогда, когда вышел из электрички и увидел пропажу, упал на траву и рыдал, как Печорин, расставшись с княжной Верой или кем-то там, уже не помню…
ДС: Ужас такой…
ВЕ: Вот. И потом попробовал было восстановить, потому что она мне самому очень нравилась. Попробовал восстановить, делал несколько буденновских наскоков на этот сюжет, но уже получалось не то… Безвдохновенно, бескрыло. Так что решил забросить эту затею. Хотя и настаивали очень многие именитые люди, но я отказался от этого. И надолго вообще забросил писание. Если и писал, то крохотные рассказики там, крохотные эссе о ком-нибудь или по заказу мелкие статьи о поэтах русских начала ХХ века.
ДС: Они вышли?
ВЕ: Да нет, не вышли они, я все их раздаривал именно тому, кто мне их заказывал. И они это все вклеивали в свои альбомы, только и всего. То есть по таким мелким заказам. Вот, например, человек заказывает написать три страницы о Саше Черном. И я ему пишу эти три страницы о Саше Черном, он мне за это дарит какую-нибудь книгу, для меня вожделенную. То есть он не берет денег за книгу, не обменивает ее ни на какую другую, а просто с меня требует что-нибудь написать. И все это хранится в альбомах у разных людей. А так – ничего серьезного. Ну, то есть уже сколько-то лет подряд вынашиваю «Еврейские мелодии». Но пока еще не нашел, как говорят шашлычники, шампура… Материала-то бездна, стопы уже лежат. Столько материала, что придется девяносто процентов отсеивать из того, что накопилось, и оставить только самое наилучшее, наивеселейшее и, наоборот, наичернейшее. И даже хочу выкроить пьесу из этого, где гибнут, по шекспировскому образцу, все герои. Но в основном речь идет о евреях исключительно. Как в «Петушках» речь идет исключительно как будто бы только о спиртном и больше как будто бы ни о чем другом, так здесь речь идет только о евреях.
ДС: Как называется?
ВЕ: «Еврейские мелодии»,
ДС: Кто-то мне сказал, что называется «Семь с половиной евреев».
ВЕ: Нет, это чепуха. У меня был план написать для журнала «Бронзовый век», по их настоянию, «Мои семь евреев». То есть жизнеописания коротенькие тех семи евреев, которые посильнее других на меня оказали влияние. Или просто чуток потрясли хотя бы. То есть самых запоминающихся.
ДС: Веня, а какие книги очень подействовали на тебя?
ВЕ: Смотря в какое время… Из самых ранних… В юности «Преступление и наказание», пожалуй, в шестнадцать лет прочитанное. В восемнадцатилетнем возрасте из самых сильных впечатлений – «Голод» и «Мистерии» Кнута Гамсуна. Уж тут я ходил ошалелый несколько недель, да даже больше, чем недель, и не мог ничего больше в руки брать после этой литературы. Потом, в возрасте примерно девятнадцать – двадцать, ибсеновская полоса началась. В особенности «Бранд», да и «Пер Гюнт», да даже и поздние пьесы, весь Ибсен совершенно, с головы до пят. Потом, кто же из литераторов-то… Да, пожалуй, сильнее этого потом и не было. А! Потом, конечно, Стерн. Но это уже в возрасте двадцати двух, примерно, лет. Потом на меня уже навалился своей тяжелой, грамотной, <нрзб> массой Томас Манн. Томас Манн меня раздавил года на три. Это уже возраст двадцать пять – двадцать восемь лет.
ДС: Все это – иностранная литература, кроме Достоевского…
ВЕ: Кроме Достоевского, оказалась только иностранная. Длительных действий на меня среди русских не было никого, пожалуй. Ну и, конечно, стихи. Стихи-то, в основном, конечно, русских поэтов. Если из заморских поэтов – то в русских переводах в хороших. Поэтов-то я, пожалуй, даже больше читал, чем прозаиков. Всех, то есть, поэтов, от силлабической русской поэзии семнадцатого века и до Николая Заболоцкого, примерно так.
ДС: Когда ты написал «Москву – Петушки»?
ВЕ: Вот как раз осенью 69‐го года, покуда ездил со своим вагончиком. Мы строили эту кабельную линию связи от станции Лобня с ответвлением на Долгопрудную и в сторону аэропорта Шереметьево. Совершенно безалаберное время…
ДС: Но как ты мог вообще писать, когда жил в поле, в вагончиках?
ВЕ: Да, в поле, в вагончике… В том-то и дело. Нас в крохотном вагончике было восемь рыл. Причем писать при них было невозможно, потому что каждый из этих обитателей вагончика постоянно справлялся: «А что ты там кропаешь?» Приходилось кропать по ночам. И то спрашивали: «Не пора ли гасить там свет?» Или: «Что ты там, готовишься, что ли, к экзаменам? Все равно не поступишь никуда. Сейчас никуда, кроме как по блату, не поступишь». Несли вот такую гиль, мне это все приходилось выслушивать…
Ну что же делать, раз уж на меня накатило, одолело, я продолжал. Что-то у меня это отняло немного времени – месяца два. Это учитывая, что писалось только урывками, вечерами. Быстро. А «Дмитрия Шостаковича» вообще пришлось писать в сторожке под Москвой, где я охранял склад всего этого кабельного хозяйства, где чуть ли по мне не бегали крысы. (Смеются.) Маленькая сторожка, в которой – мой кабинет. Кабинет был примерно в мою длину длиной и в мою ширину шириной. Ровно раскладушка устанавливалась и больше, по-моему, ничего. Да, крохотная-крохотная узенькая скамейка рядом – письменный стол, «бюро» назовем его… (Смеются.) И вот, как на грех, сейчас-то, с 74‐го года, когда я поселился в Москве, а уже с 77‐го года прописан в Москве, и уже созданы, пожалуйста, все комфорты для писания – пишется уже хуже. Черт его знает, почему так. То есть мне-то не к спеху, я не спешу. «Мне некуда спешить», – как писал Самед Вургун, великий азербайджанский поэт, советский, кстати. Но посмотрим, я все еще рассчитываю, что поездка на Север меня немножко порастрясет…
ДС: И потом ты будешь заниматься пьесой?
ВЕ: Хочу из «Еврейских мелодий» еще выкроить пьесу. Трагедию непременно. В трех действиях – и все действие происходит в приемном пункте стеклопосуды, винной посуды.
ДС: А тебе нравилось разговаривать с рабочими…
ВЕ: Не очень, не очень. Я их общества почти избегал. Не так чтобы избегал, но и не очень панибратствовал с ними.
ДС: Но ты пил с ними?
ВЕ: Еще как! Еще как! Еще как! Все, начиная от тройного одеколона и кончая резолью.
ДС: И ты все это испытывал?
ВЕ: Ну конечно, да еще задавал иногда тон. Многим малопосвященным расширял кругозор в этом отношении.
ДС: Было скучно с ними?
ВЕ: Да не совсем скучно… Среди них, во всяком случае, за все время работы с ними из пяти-шести тысяч людей, с которыми приходилось хотя бы пить, – я считаю, я с человеком знаком, с которым хоть раз выпил, – так вот, их примерно было тысяч пять-шесть. Из них нашлось штук пять-шесть экземпляров хороших людей. Ну, не то что хороших, но более или менее доброкачественных. А так они… Общение с ними не дает ничего абсолютно. Иногда какие-нибудь их случайные обмолвки, маленькая их придурь дает какой-нибудь толчок для какого-нибудь поворота прихотливого, глупой мысли… А больше от них толку никакого. Это ж не XIX век, где они учились у русского народа говору и все такое. А сейчас…
ДС: Но все-таки чувствуется большая симпатия к народу в книгах.
ВЕ: Так ну еще бы им не симпатизировать, этим беднягам, господи! Кто же тогда им будет симпатизировать? Господь на них плюнул, власти – тоже, по существу, так что…
ДС: А ты старался, были какие-то попытки официально опубликовать свою работу?
ВЕ: Нет, никогда, ни разу. Ни одного мгновения в жизни мне не приходило в голову здесь хоть что-нибудь опубликовать. Ни разу. Вот тут я прямо…
ДС: Просто потому что знал, что это бессмысленно?
ВЕ: Да не то что бессмысленно – и желания не было. Тут уж я совершенно стерильное существо. Ни секунды даже мысли не было. Да и смешно было бы думать…
ДС: Но когда ты написал «Москву – Петушки» – это было для друзей?
ВЕ: Я рассчитывал примерно на аудиторию из дюжины человек. И я не подозревал, что спустя восемь лет будет уже не дюжина человек, а дюжина держав (смеются), опубликовавших… К вопросу о неисповедимостях…
ДС: Скажи, Веня, когда ты начал пить?
ВЕ: Пить? Ну, вообще-то говоря, до десятого класса меня тщательно оберегала матушка от этого, потому что мой покойный папенька был самый известный во всем городе алкоголик. Он дома не жил никогда, переходил из пивной в пивную… Зарабатывал только тем, что у него никогда за душой ничего не водилось… Он только что вернулся, отсидел непонятно за что семь лет.
ДС: Он был сломленный человек?
ВЕ: Не совсем. Он был известен еще своим голосом. Он бродил по городу, всегда в подпитии, хотя и не имел денег… Пел что-нибудь вроде «Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды… / Там-прам-пам-пам. / И одинокую тропинку…» Или там из «Фауста»: «Привет тебе, приют невинный, / привет тебе, приют священный». Вот такой у него был репертуар. Мне не позволялось даже при встрече с ним… Я иду, допустим, в школу, уже будучи взрослым, девятый-десятый класс – при столкновении не разрешалось ни приветствовать его, ни подавать ему руки, если тот протянет. Матушка боялась не влияния его, а просто самой элементарной наследственности. Так что впервые мне пришлось глотнуть водки – и вообще спиртного напитка – на выпускном вечере по окончанию десятилетки.
ДС: Сколько тебе было лет?
ВЕ: Мне было шестнадцать, неполных семнадцать. Сепаратно, нелегально, в кустах, на пятерых – одну бутылку водки! И я чувствовал себя лейб-гусаром, экое дерзновение! Ну а потом в МГУ, в связи с неурядицами, ну, там еще начались маленькие неурядицы такого чисто женского плана, но это более-менее все понятно… Как-то, находясь в слишком темном расположении духа, просто сходил и по собственному почину взял себе четвертинку, благо они были… Четвертинка – знаешь, двухсотпятидесятиграммовые бутылочки?
ДС: Водки?
ВЕ: Водки, да. Просто ее взял и, запершись в аудитории опустевшей вечером, шлепнул до дна из горлышка. Ну а потом через две недели еще примерно одну. Ну а потом, когда уже был вышиблен из МГУ… Вышиблен-то я был, разумеется, не за это. А уже когда перешел на стройку, и в кочегары, и все такое – тут уже стало это каждодневным.
ДС: Это началось, когда ты общался с рабочими?
ВЕ: Не-ет, как раз рабочие тут ни к чему. Наоборот, слишком много рабочих приходилось сбивать с толку – юных и не совсем юных, некоторые даже постарше меня. А так начал совершенно самопроизвольно и изнутри. По божьему попущению…
ДС: И с тех пор ты пьешь?
ВЕ: Да, ну как то есть пью… Иногда ведь случаются антракты более или менее длительные, от нескольких часов до нескольких месяцов. И ничего. Во всяком случае, 82‐й у меня, по-моему, год с меньше всего выпитым… ни разу с тех пор, как мне стукнуло восемнадцать лет, никогда я так мало не пил, как в тысяча девятьсот восемьдесят втором году.
ДС: И как ты себя чувствуешь?
ВЕ: Прекрасно себя чувствую, за исключением нескольких утр, когда все-таки пить накануне приходилось. А что будет дальше – неизвестно. Возьму да как-нибудь и запью. А возьму да и… Ну, впрочем, об этом так много в последнее время приходилось говорить с друзьями-психиатрами, которые уж слишком «готовы на все услуги», как говорил у Гоголя Городничий дочери.
ДС: Синявский где-то говорит, что народ пьет для душевных целей.
ВЕ: Для каких душевных целей… да мелет твой Синявский. Мне его «Голос из хора» очень не понравился. Совершенно не понравился.
ДС: Почему?
ВЕ: Не знаю, какая-то выспренняя манера. Можно простить, что адресовано жене, да еще из лагеря и все такое. Но не знаю, для чего эта штука написана. Если не считать двух-трех коротких реплик, которые он расслышал в этом лагерном быту. А сам Синявский… Вот «Прогулки с Пушкиным» – это прелесть, разумеется. Я прочел залпом и даже двумя залпами, то есть два раза подряд прочел. А все, что Синявский говорит об этой стороне дела, о русском питии, тут он уж дилетант. Хоть он с ними и был тесноват, будучи в лагерях, но, по-моему, мало что понял в этом. Пусть бы не совался…
ДС: Тебе очень нравится музыка?
ВЕ: Музыка – да! Пожалуй, чуть ли не больше, чем русская поэзия.
ДС: Ты играешь на рояле?
ВЕ: Нет, ни на чем. В отрочестве, в юности пытался играть, но увидел, что у меня получается хуже, чем хреново, и забросил.
ДС: У тебя здесь есть рояль…
ВЕ: Ну рояль что же, потому что слишком много знакомых пианистов. У меня из людей, входящих в квартиру, каждый третий играет. Так что он у меня почти не умолкает, этот рояль. Пусть тешится народ…
(Перерыв в записи.)
(Следующий вопрос на пленке отсутствует.)
ВЕ: Писалось окрыленно, если выражаться старомодно. Во всяком случае, когда писал, я, уже доехав до Орехова-Зуева – уже полкниги, – еще не знал, приеду ли я, собственно, в Петушки. Что со мной случится на следующей станции – я не знал. То есть такого, как выражается Константин Федин, всеохватывающего плана, обдуманности от начала до конца – у меня не было абсолютно. Все являлось само собою. Причем писалось совершенно без черновиков.
ДС: Да?! Первый раз – вот так?!
ВЕ: Совершенно без черновиков.
ДС: И у тебя не было книг, в условиях твоей жизни…
ВЕ: Какие там книги… Просто за день, покуда рылся в земле и прокладывал этот кабель, я примерно обдумывал главу, а вечером, когда возвращался, я ее тут же моментально набрасывал в тетрадь, почти не отрывая пера от бумаги.
ДС: Когда работал, писал «Москву – Петушки», ты читал ее рабочим, с кем ты пил?
ВЕ: Нет, упаси бог! Они бы ничего не поняли, ничего.
ДС: А ты называешь это «поэма» – от Гоголя?
ВЕ: Не-ет, я не знаю, кому в голову взбрело назвать это «поэмой». У меня это слово совсем отсутствовало. Я же говорю, что я к названиям – «жанровка» это называют – или нет?.. – я к этому совершенно индифферентен. Можно было назвать как угодно… Да лучше никак не называть, потому что некоторые считают, что это не подходит ни под одну категорию ни одного жанра.
ДС: А как ты так хорошо знаешь русский язык, народный язык?
ВЕ: Ну так, господи, поневоле его будешь знать.
ДС: Блат и мат – и все…
ВЕ: Ну блат, мат – это несложно было… (смеется), слишком несложно, он всегда был под рукою, не под рукою, а под ухом. Ну а все остальное – я все-таки пишу-то с детства, слава богу. Первую свою штуку я написал, когда мне было пять лет. Она всего была длиною что-то такое две странички совершенно детским почерком. Это еще было за два года до поступления в школу, в первый класс. Я-то этого не помню, но моя покойная матушка, когда меня в последний раз навещала, она рассказывала, что первое сочинение было в пятилетнем возрасте и называлось «Записки сумасшедшего». <нрзб> Уж не знаю, о чем там речь…
ДС: Ты хорошо знаешь Библию?
ВЕ: Да не то что уж досконально, но считаю, что знаю… Считаю, что знаю.
ДС: Ты религиозный человек?
ВЕ: Пожалуй, что нет. У меня пиетет перед религией. Я вообще считаю, что… (Долгая пауза.) Ну господи, кроме Евангелия, ну что же, собственно… никаких впереди спасений других, по-моему, и быть не может. Не то что уж полная приверженность Евангелию, но хотя бы – принсипы евангельской этики…
ДС: Веня, ты очень любишь слушать радио, следить за новостями…
ВЕ: Еще как! Да, конечно! Ко мне обращаются люди, которые тоже каждый день слушают радио, но почему-то для них это служит фоном. Я только что вернулся из больницы, навещал свою знакомую, которая тоже слушает радио, потому что оно у них там постоянно включено. Она меня спрашивает: «Ну как там Сальвадор?» Объясняешь ей, что такие-то гондурасские части введены на территорию Сальвадора. О том, как обнимались после третьего итальянского гола испанский король с президентом Пертини на поле, и все такое. О том, что делается на ханойско-пекинском фронте. Да… Обо всех…
ДС: А как ты думаешь о событиях Falklands…
ВЕ: Очень рад, очень рад был за Маргарет Тэтчер. Аплодировал каждому ее выступлению, даже каждому телодвижению.
ДС: А почему?
ВЕ: Потому что терпеть не могу аргентинский режим и хулиганство. Это, в сущности, мелкое хулиганство – одобрить захват островов, которые не им принадлежат. У меня твердое убеждение, что британцы должны были отстоять Фолклендские острова. И не только потому, что это разогрело бы аппетиты тех, которые зарятся на Гонконг, на Гибралтар и все такое…
ДС: Ты говорил, что Галтьери репрессировал человека, который тебе очень нравился, репрессировал какую-то партию.
ВЕ: Да, он всех поголовно репрессировал. И не он первый, те два генерала, что были до него, занимались тем же самым. Во всяком случае, за Фолклендскими островами очень следил. В особенности за приближением эскадры – я отсчитывал дни, когда же, наконец, эта милая моему сердцу эскадра… (смеются оба) достигнет берегов этих гнусных аргентинцев. И каждый день – неистовствовал: ну что же они медлят?! Почему же они не начинают штурмовать Порт-Стэнли, Пуэ́рто Архенти́но? И почему такие неудачи поначалу? Уже мои любимые израильтяне врываются в Бейрут, уже их танки под окнами президента Ливана Саркиса, а эти британцы все еще возятся в четырех километрах на подступах к Порт-Стэнли. Я параллельно следил за своими любимцами – за Тель-Авивом и британской эскадрой.
ДС: Можно сказать, что тебе нравится Англия?
ВЕ: Англия очень нравится. Даже своими географическими очертаниями на карте. (Смеются.) Что-то в этом есть! Сравни хотя бы с дурацкими очертаниями Ирана, допустим. Или даже Бельгии… Какая-то несуразность в самой конфигурации государства. А Британия мне очень по сердцу, да и вообще британцы… Британцы, если разве что только не в области музыки, так оказали уж слишком сильное на нас на всех воздействие. И уж к британцам-то, кто же равнодушен к ним?
(Вторая сторона кассеты.)
ВЕ: Ну так вот. Музыка, пожалуй, даже большее влияние оказала, чем и поэзия и проза. И многие почему-то находили в этом следы… Но музыка – не манеры XVIII века. Этой всеобщей одержимости вивáльдями, бáхами, генделя́ми, альбинóнями, чимарóзами, монтевéрдями, палестри́нами я не разделяю. А вот уже понемногу, начиная с позднего Бетховена, через Шопена, Шумана, Мендельсона…
ДС: А Бах?
ВЕ: И к Баху совершенно равнодушен. Ни одна строчка Баха меня не трогала, ни единая. Если уж любимцев называть, так Густав Малер, Ян Сибелиус, ну, в какой-то степени, Брукнер, Дмитрий Шостакович… Из советских еще, когда попадет удачно под расположение духа, – Прокофьев. Да иногда даже Кабалевский.
ДС: А Стравинский?
ВЕ: Ну и, конечно, Игорь Стравинский. Вот Игорь Стравинский тут не вписывается в картину, поскольку мне-то больше по вкусу музыка прочуйствованная, что сейчас почему-то кажется пошловатым. Но мне плевать, как кажется, я не боюсь быть старомодным. Главное – неохлажденная игра в музыке. Поэтому не могу понять никаких ни куперенов, ни Рамо… Понятнее мне только музыка, начиная с раннего романтизма.
ДС: А ты занимаешься только классикой?
ВЕ: Только. И поэтому из нынешних слушаю только тех, на ком обнаруживаю хоть малый след своих любимцев. Борис Чайковский или Альфред Шнитке – из наших. А из западных когда-то очень любил в особенности раннего Мийо, Артюр Онеггер даже не так, а вот Дариус Мийо – да, носился… Со штучками Жана Кокто очень носился – с «Быком на крыше» того же Мийо, с Пуленком… А, да, Карл Орф, еще я забываю, Карл Орф. Вот это – грешен, что забыл, такого человека забыть…
ДС: А как ты считаешь – Высоцкий, Окуджава…
ВЕ: Высоцкий, Окуджава – само собой. Это настолько каждодневная любовь к ним, что прямо об этом не говоришь. То есть настолько привычная любовь, как к ближним людям, без которых невозможно. То есть клясться в любви к ним не станешь, поскольку это излишне, как не делаешь это в применении к людям, без которых не обойтиться… И меня очень радует, что и русские их любят. Любят, может, немножко с другой стороны и по другим причинам, – но все равно любят. Мне радостно, когда в самых дурных квартирах все-таки иногда бывают проблески. Из окошка, например, хриплый голос Высоцкого… И уже радостно на сердце, и не так черновато смотришь на русских, что-то еще в них теплится.
ДС: Я хотела узнать: ты читал фольклор?
ВЕ: То есть чей фольклор?
ДС: Русский фольклор или…
ВЕ: Русский фольклор сам-то по себе, сказки эти, были… особенно эти глупые былины – терпеть не могу. Но вот русская песня – вот что, пожалуй, даже сильнее всяких влияний… стернов, Рабле, Гоголя, да и музыкальных, Малера… Да и сильнее влияний всяких цветаевых, и фетов, и тютчевых, все-таки – русская песня. Вот это, пожалуй, наититаничнейшее из влияний. «Об этом больно говорить», – как говорил Томас Манн. (Смеются.) То есть русская песня – такая глубинная, основная, без всяких этих веселых примесей, без того, чем она стала вдруг к концу прошлого века, а уж тем более чем она стала нонче.
ДС: Мне непонятно, а что ты имеешь в виду, когда говоришь «русская песня»? Народная песня?
ВЕ: Русская народная песня… Прямо начиная от «Липа вековая»…
ДС: А романсы?
ВЕ: Ну и романсы, но романсы… Вот уже я, например, не могу понять романсы там Метнера, или Черепнина, или Катуара, или Гречанинова. Ну Гречанинов – за маленьким исключением. Вот как раз романс нравится прямо пропорционально близости к настоящей русской песне. Как это называется – глубинная русская… У испанцев есть хороший термин для обозначений этого, у всяких де фалей. Это они называли… или Альбенис – Альбенис, по-моему, это называл cante hondo…
ДС: А цыганские песни?
ВЕ: О, цыганщина, ну ее к чертям собачьим! Как только вклинивается хоть самая малая цыганизированность, вот это меня уже… я рыло ворочу. Не могу. Поэтому, например, я без ума от романсов Гурилева, потому что они, по существу, русские песни, но терпеть не могу какого-нибудь Дюбюка, его же современника, с его романсами вроде «Зацелуй меня до смерти – от тебя и смерть мила» или «Ах, почему я не бревно» там и все такое… (Смеются.)
(Конец записи)