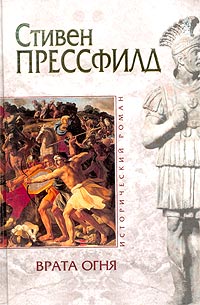Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава седьмая
Прошу у Великого Царя терпения выслушать повествование о событиях, последовавших за разграблением города, о котором он никогда не слышал,– неприметного полиса, ничем не славного, не породившего ни одного легендарного героя, не связанного с великими событиями нынешней войны и с битвой, в которой войско Великого Царя сражалось против спартанцев и их союзников в Фермопильском проходе.
Я хочу через ощущения двух подростков и раба выразить лишь малую долю того душевного страха и опустошения, которые покоренное население вынуждено терпеть в часы исчезновения с лица земли их государства. Хотя Великий Царь руководил разорением могущественных держав, все же, если говорить откровенно, он видел страдания тех народов лишь издали, с высоты пурпурного трона или покрытого чепраком жеребца, защищенный золочеными копьями своей царской стражи.
3а последующие десять лет между греческими городами случилось более десяти дюжин столкновений и войн. Были целиком или частично разрушены по меньшей мере сорок полисов, включая такие неприступные крепости, как Книд, Арефуза, Колоная, Амфисса и Метрополис. Было сожжено бессчетное число крестьянских хозяйств и храмов, потоплено множество военных кораблей, убиты сотни и тысячи воинов, угнаны в рабство десятки тысяч их жен и дочерей. Ни один эллин, как бы ни был могуч его город, не мог быть уверен, что через несколько месяцев еще будет по-прежнему пребывать на своей земле с головой на плечах, со спокойно живущими рядом женой и детьми. Такое состояние дел не было каким-то исключительным. Не хуже и не лучше, чем любая другая эпоха со времен Ахилла и Гектора, Тезея и Геракла, от рождения самих богов. Дела как дела, как говорят эмпоры, торговцы.
Каждый в Греции понимал, что означает поражение в войне, и каждый сознавал, что рано или поздно эта горькая чаша совершит свой круг по столу и в конце концов окажется перед ним.
И вдруг, с возвышением в Азии Великого Царя, показалось, что этот час наступит скоро.
Страх разорения распространился по всей Греции, когда начали приходить слухи о размахе военных приготовлений Великого Царя на Востоке и о его намерении предать огню всю Элладу, и эти слухи исходили из слишком многих уст, чтобы можно было им не поверить.
И таким всеобъемлющим был этот страх, что ему дали имя.
Фобос.
Не просто страх, а – Страх.
Страх перед тобой, Великий Царь. Ужас перед яростью Ксеркса, сына Дария, Великого Царя восточной державы, Повелителя всех людей от восхода до заката солнца. Вся Греция узнала, что несметные полчища под его знаменем уже выступили в поход, чтобы поработить нас.
Прошло десять лет после разорения моего родного города, но страх от тех дней неизгладимо продолжал жить во мне. Мне уже исполнилось девятнадцать. События, о которых я еще упомяну в свой черед, разлучили меня с моей двоюродной сестрой и Бруксием и привели, согласно моим желаниям, в Лакедемон, а через какое-то время я стал служить моему хозяину Диэнеку Спартанскому. Я и еще три оруженосца были отданы в распоряжение ему и троим другим посланникам Спарты – Олимпию, Полинику и Аристодему,– чтобы служить им на острове Родос, во владениях Великого Царя. Там эти воины и сам я впервые краем глаза увидели малую долю всей военной мощи Персии.
Сначала появились корабли. На вторую половину дня меня отпустили, и я воспользовался этим временем, чтобы узнать, сколько смогу, об острове. Подойдя к ватаге упражнявшихся в поле родосских пращников, я смотрел, как эти кипящие энергией парни с удивительной быстротой бросают свои свинцовые шары диаметром в три больших пальца Этими убийственными снарядами они со ста шагов могли пробить сосновую доску толщиной в пядь и три раза из четырех попадали в мишень размером с человеческий торс. Один из пращников, юноша моих лет, демонстрировал мне, как они на своих свинцовых снарядах вырезают кинжалами причудливые приветствия: «Слопай это» или: «Люби и, поцелуй». И вот тогда, пока мы болтали, все остальные смотрели на море и указывали на горизонт в направлении Египта. Мы увидели паруса, возможно, целой эскадры, примерно в часе ходу от нас. 3абыв про корабли, пращники вернулись к своему занятию, но, как показалось, всего лишь через мгновение вновь закричали – на сей раз почти в суеверном ужасе. Все поднялись и уставились в одну сторону к нам приближалась эскадра триер с парусами, забранными для скорости гитовами. Корабли уже меняли курс и быстро причаливали к волнолому. Никто никогда не видел таких больших весел, гребущих с такой скоростью.
Это были боевые корабли. Тирренские триеры, такие низкие что скамьи фаламитов (гребцы нижнего ряда весел на триере) возвышались над волнами не более чем на ладонь. Они гнались наперегонки под флагом Великого Царя. Упражнялись перед походом на Грецию. Перед войной. Готовились к тому дню, когда их обитые бронзой тараны отправят на дно моряков Эллады.
В тот вечер Диэнек и другие посланники прошли пешком до бухты в Линдосе. Боевые корабли были вытащены на берег, и их оцепила египетская пехота. Египтяне узнали спартанцев по их алым плащам и длинным волосам. Последовала забавная сцена. Командир египтян-пехотинцев жестом подозвал спартанцев, улыбаясь им из толпы зевак, собравшейся у кораблей. Нам устроили осмотр эскадры. Египтяне через переводчика спрашивали, как скоро, по нашему мнению, мы окажемся на войне друг против друга и не сведет ли нас судьба снова – уже на поле боя.
Египетские воины ростом превосходили всех людей, кого я встречал в жизни, и их кожу почти дочерна опалило солнце. Они были при оружии, в замшевых башмаках, в бронзовых чешуйчатых латах и инкрустированных золотом шлемах со страусовыми перьями. Оружием их были копья и кривые мечи. В приподнятом настроении эти воины сравнивали мышцы своих ягодиц и бедер со спартанскими и шутили на своем непонятном для остальных языке.
– Рад видеть вас, гиеноподобные ублюдки,– проговорил, осклабившись, Диэнек командиру египтян на дорийском диалекте и по-дружески хлопнул его по плечу.– Жду не дождусь вырезать твои яйца и в корзине послать их домой.
Тот рассмеялся, не поняв, и, сияя, ответил на своем языке каким-то оскорблением, без сомнения столь же угрожающим и грязным.
Диэнек спросил египтянина, как его зовут, на что тот ответил: Птаммитех. Диэнек спросил, сколько боевых кораблей Великий Царь насчитывает в своем флоте. «Шестьдесят»,– передал переводчик.
– Шестьдесят кораблей? – переспросил Аристодем.
Египтянин не удержался от ослепительной улыбки.
– Шестьдесят эскадр.
Египтяне шли рядом со спартанцами и позволили поближе осмотреть корабли, которые, вытащенные на песок, накренились набок, подставив днище для очистки и конопаченья. Этой нелегкой работой с энтузиазмом и занимались тирренские моряки. Я почуял запах воска. Мореходы натирали днище воском для лучшего скольжения по воде. Все доски были соединены встык, а шипы и пазы были подогнаны с такой точностью, что казалось, это делали не корабельные плотники, а столяры-краснодеревщики. Соединительные панели между тараном и корпусом были покрыты увеличивающей скорость керамикой и вымазаны какой-то смазкой, которую матросы разогревали и наносили лопатками. Рядом с этими быстроходами спартанская галера « Орфия» напоминала посудину для перевозки мусора. Но наибольшее наше внимание привлекли кое-какие вещи, не имевшие отношения к морю.
Это были кольчуги, которыми пехотинцы обернули бедра, чтобы защитить интимные части тела.
– Что это, узорчатая ткань? – спросил Диэнек, смеясь и дергая начальника египетских воинов за край кольчуги.
– Осторожнее, дружок,– ответил тот с театральным жестом.– 3наю я вас, греков! Слышал.
Египтяне стали расспрашивать спартанцев, почему у тех такие длинные волосы. Олимпий ответил, процитировав законодателя Ликурга:
– Потому что никакое другое украшение не делает красивого мужчину еще более красивым, а безобразного – еще более безобразным. И оно бесплатное.
Потом египтянин стал дразнить спартанцев за их удивительно короткие мечи – ксифосы. Он отказывался поверить что это настоящее оружие, которое лакедемоняне берут с собою в бой. Должно быть, это игрушки. Как могут эти крошечные ножички для чистки яблок причинить вред врагу?
– Хитрость в том,– продемонстрировал Диэнек, сойдясь грудь в грудь с египтянином,– чтобы удобно прильнуть. При расставании спартанцы подарили египтянам два меха фалерского вина – лучшего, какое имели, предназначавшегося для Родосского консульства. А египтяне дали каждому спартанцу по золотому дарику (месячное жалованье греческого гребца) и по мешку свежих нильских гранатов.
Миссия вернулась в Спарту ни с чем. Родосцы, как известно Великому Царю,– это дорийские эллины, они говорят на диалекте, сходном с лакедемонским, и зовут своих богов теми же именами. Но их остров еще до первой Персидской войны был протекторатом Великой Державы. А что еще оставалось родосцам, как не подчиниться,– ведь их государство лежит непосредственно в тени мачт персидского флота! Спартанская делегация лишь попробовала, сама не веря в успех, воспользоваться родственными связями, чтобы отговорить некоторую часть родосского флота от службы Великому Царю. Но никто на это не пошел.
Успеха не имели, как узнала наша делегация, вернувшись на материк, и сходные миссии, направленные на Крит, Кос, Хиос, Лесбос, Самос, Наксос, Имброс, Самофракию, Фасос, Скирос, Миконос, Парос, Тенос и Лемнос. Даже Делос, родина самого Аполлона, выказал знаки покорности персам.
Фобос.
Этот страх можно было вдохнуть вместе с воздухом Андроса, куда мы зашли по пути домой. На Хиосе и Гермионе он ощущался испариной на коже – там не было ни одной бухты или причала, где не нашлось бы шкиперов и гребцов с рассказами о готовности Востока к войне и донесениях очевидцев о несметных полчищах врага.
Фобос.
Этот попутчик сопровождал делегацию и когда она высадилась у Фиреи и начала двухдневный тяжёлый переход по пыли через Парнон в Лакедемон. Поднявшись на восточный горный массив, посланцы могли видеть, как прибрежные жители и горожане уносят свои пожитки в горы. Мальчишки погоняли ослов, нагруженных мешками с пшеницей и ячменем, их охраняли вооруженные члены семьи мужского пола. Вскоре за ними отправятся старики и дети. Высоко в горах семьи закапывали амфоры с вином и маслом, строили загоны для овец и высекали грубые пещеры в скалистых склонах.
Фобос.
У приграничной крепости Кари наша группа присоединилась к направлявшемуся в Спарту посольству из греческого города Платеи – дюжине человек, включая верховой эскорт. Посольство возглавлял герой Марафона Аримнест. Говорили, что этот благородный муж в той славной битве десять лет назад вошел в полном вооружении в полосу прибоя и рубил мечом весла персидских триер, когда персы, спасая свои жизни, отходили от берега. Спартанцы любили подобное. Они настояли, чтобы делегация Аримнеста разделила с нами ужин и сопроводила нас на остатке пути до самого города.
Платеец поделился с нами своими сведениями о противнике Персидское войско, сообщил он, насчитывало два миллиона человек, собранных со всех покоренных стран. Предыдущим летом оно сосредоточилось у Суз, столицы Великого Царя, после чего выступило в Сарды и перезимовало там. Из этого места, как мог безошибочно предугадать любой начинающий младший командир, полчища должны были направиться на север вдоль побережья Малой Азии, через Эолию и Троаду, затем по понтонному мосту или на множестве лодок форсировать Геллеспонт, двинуться на запад пересечь Фракию и Херсонес, потом на юго-запад пройти через Македонию, а потом и на юг, в Фессалию.
В саму Грецию.
Спартанцы рассказали то, что услышали на Родосе: персидское войско уже на марше из Сард. Основной корпус уже остановился в Абидосе, готовясь к переправе через Геллеспонт.
Через месяц они будут в Европе.
В Селассии моего господина ожидал посланец от спартанских эфоров с дипломатической почтой. Диэнеку надлежало покинуть делегацию и немедленно направиться в Олимпию. Он отделился от остальных на Пелланской дороге и, взяв с собой одного меня, пошел быстрым маршем, намереваясь за два дня одолеть почти пятьсот стадиев.
Нет ничего необычного в том, что в этих путешествиях к путнику пристраиваются стаи воодушевленных собак и даже полудикие местные мальчишки. Иногда подобные беспечные спутники сопровождают тебя весь день, с веселым шумом труся по пятам. Диэнек любил этих бродяг и никогда не упускал случая приветить их и развлечься в такой благообретенной компании. В тот день, однако, он сурово отгонял всех, кто ни попадался навстречу, собак и людей, решительно шагая вперед и не глядя по сторонам.
Никогда я не видел его таким озабоченным и таким мрачным.
На Родосе произошло одно событие которое, как я ощутил, определенно послужило причиной беспокойства моего хозяина. Это случилось в бухте сразу после того, как спартанцы и египтяне закончили обмен подарками и собрались расстаться. Возникла одна из тех пауз, когда противники часто отказываются от формальностей, с которыми общались до сих пор, и говорят друг с другом от души. Мой хозяин и полемарх Олимпий, отец Александра, явно завоевали доверие Птаммитеха, и он отозвал их в сторону, заявив, что хочет кое-что показать. Египтянин отвел их в возведенный на берегу шатер командующего эскадрой и с его позволения сотворил чудо, какого спартанцы, а я и подавно, никогда не видели.
Это была карта.
Графическое представление не только Эллады и островов Эгейского моря, но и всего остального мира.
Карта была шириной около шести локтей, с мельчайшими подробностями, тончайшей работы, начертанная на нильском папирусе – необычайном материале: если поднести его к свету, сквозь него можно было видеть, но даже руки сильнейшего мужчины не могли разорвать его, если не надрезать лезвием.
Египтянин развернул карту на столе командующего эскадрой. Он показал спартанцам их родину в сердце Пелопоннеса, Афины более чем в тысяче стадиев к северо-востоку, Фивы и Фессалию к северу оттуда и горы Осса и Олимп на самом севере Греции. К западу от Греции стилос картографа начертил Сикелию, Италию и всю сушу и море до Геркулесовых Столпов. Однако карта только начала разворачиваться.
– Я хочу лишь произвести на вас впечатление, господа, – для вашей же сохранности – протяжённостью державы Великого Царя. Посмотрите на ресурсы его владений, на силы, которые находятся под его властью и которые он двинет на вас,– через переводчика обратился к спартанцам Птаммитех.– Чтобы вы сами, основываясь на фактах, а не на домыслах, могли решить, стоит вам сопротивляться или нет.
Он развернул папирус дальше. Под светом лампы появились острова Эгейского моря, Македония, Иллирия, Фракия и Скифия, Геллеспонт, Лидия, Кария, Киликия, Финикия и ионические города Малой Азии.
– Всеми этими странами правит Великий Царь. Всех их он собрал себе на службу. Все они идут на вас. Но разве это Персия? Мы еще не добрались до самой Державы…
Он развернул карту еще больше. Рука египтянина обвела контуры Эфиопии, Ливии, Аравии, Египта, Ассирии Вавилонии, Шумерии, Каппадокии, Армении и 3акавказья. Он произнёс несколько слов о славе этик царств, упомянув число их воинов и оружие, которое они несли.
– Если двигаться быстро, путешественник может пересечь весь Пелопоннес за четыре дня. Посмотрите сюда, друзья мои. Только чтобы добраться от Тира до Суз, столицы Великого Царя, требуется трехмесячный поход. Вся эта земля, все ее люди и богатства принадлежат Ксерксу. Все эти народы не воюют между собой, как любите делать вы, эллины, и не распадаются на ненадежные союзы. Когда царь велит им собраться воедино, его войска собираются. Когда он приказывает идти в поход, они идут. И все же, сказал Птаммитех,– мы еще не добрались до Персеполиса и сердца Персии.
Он развернул карту дальше.
Перед нами возникли новые земли с еще более замысловатыми названиями. Египтянин представил нам новые цифры. Двести тысяч из этой сатрапии, триста тысяч из той. Греция на западе казалась все ничтожнее и ничтожнее. Она словно съеживалась на фоне бесконечной Персидской державы. Теперь египтянин говорил о диковинных зверях и химерах. О верблюдах и слонах, о диких ослах размером с ломовую лошадь. Он очертил земли самой Персии, потом Мидии, Бактрии, Парфии, Каспии, Арии, Согдианы и Индии – стран, о которых его слушатели никогда ничего не слышали.
– Из этих обширных земель Великий Царь призвал новые мириады воинов, людей, выросших под обжигающим солнцем востока, привыкших к трудностям, которые вам и не представить, вооружённых оружием, противостоять которому у вас нет опыта, и он платит им золотом и сокровищами, которые не имеют счета. Каждое изделие, каждый плод, зерно, свинья, овца, корова, лошадь, добыча каждого рудника, каждого поля, рощи и виноградника принадлежат Великому Царю. И все это он влил в укрепление своего войска, которое уже идет поработить вас. Послушайте меня, братья. Племя египтян – древнее племя, насчитывающее сотни поколений, и его корни уходят в древность. Мы видели, как приходят и уходят великие царства. Мы правили, и нами правили. Да и теперь мы считаемся покоренным народом – мы служим персам. Но выслушайте мои соображения, друзья. Похож ли я на бедняка? Веду ли я себя униженно? Загляните в мой кошелек. При всем уважении, братья, я могу купить и продать вас со всем вашим имуществом на одни только те деньги, что ношу при себе на расходы.
Тут Олимпий прервал египтянина и потребовал не отвлекаться от сути.
– Суть вот в чем, друзья: Великий Царь окажет вам, спартанцам, не меньшую честь, чем нам, египтянам, или любому другому воинственному народу, если вы проявите мудрость и добровольно пойдете на службу под его знамена. Мы на востоке постигли то, чего вы, греки, еще не поняли. Колесо вращается, и человек должен вращаться вместе с ним. Сопротивляться – не просто глупость, это безумие.
Я следил за глазами моего господина. Он, несомненно, понял, что намерения египтянина искренни и что его слова предполагают дружбу и уважение. И все же не смог сдержать гнева, выдав его прилившей к лицу кровью.
– Ты никогда не знал вкуса свободы, друг,– сказал Диэнек, – а то бы понял, что она приобретается не золотом, а сталью.
Он быстро обуздал свой гнев, по-дружески похлопал египтянина по плечу и с улыбкой взглянул ему в глаза.
– Что касается колёса, о котором ты сказал,– закончил мой господин,– как и всякое другое, оно вращается в обе стороны.
Мы прибыли в Олимпию после полудня на второй день после отбытия из Пеллены. Олимпийские игры в честь Зевса – у эллинов самый священный праздник. В недели их проведения ни один грек не смеет поднять оружие на другого грека и даже на иноземного захватчика. Игры должны были состояться в тот самый год, через несколько недель. Олимпийскую территорию и жилища уже заполняли атлеты со своими учителями из всех греческих городов; как предписывает небесный закон, атлеты готовились к состязаниям на месте. Как только прибыл мой хозяин, участники состязаний – атлеты в расцвете молодости и несравненные в резвости ног и доблести – окружили его, громко требуя рассказать новости о персидском наступлении. Не мне было спрашивать о миссии моего господина, однако я мог догадываться, что за этим последует просьба к жрецам снять пресловутый запрет.
Пока Диэнек был занят своими делами в помещении, я ожидал снаружи. Когда он закончил, до захода солнца оставалось несколько часов. Нашему отряду из двух человек, все так же без сопровождающих, предстояло немедленно пуститься в путь обратно в Спарту. Но мой хозяин был по-прежнему обеспокоен. Казалось, он что-то замышляет.
– Пошли,– сказал он, направляясь на Аллею Победителей, что лежит к западу от Олимпийского стадиона,– я покажу тебе кое-что для твоего образования.
Мы обогнули столбы почета, где были высечены имена победителей Игр и названия пославших их городов. Там мой глаз заметил имя Полиника, товарища моего хозяина по миссии в Родосе. Его имя было высечено дважды: за победу на двух подряд Олимпиадах в беге с полным вооружением. Диэнек показал мне имена победителей-лакедемонян, которым теперь было уже за тридцать или даже за сорок и которых я знал в лицо, а также других, которые пали в боях десятилетия или даже века назад. Потом он показал последнее имя – имя того, кто одержал победу в пентатлоне четыре Олимпиады назад:
ЯТРОКЛ
Сын Никодиада
Лакедемонянин
– Это мой брат,– сказал Диэнек.
В ту ночь мой хозяин заночевал в спартанском доме для участников Игр, ему освободили ложе внутри, а мне отвели место под портиком. Но его не оставляло беспокойство. Не успел я устроиться на холодных камнях, как он вышел, полностью одетый, и сделал мне знак следовать за ним Мы прошли по пустынным улицам к Олимпийскому стадиону, вошли в тоннель для участников состязаний и вышли на обширное и безмолвное пространство напротив арены в свете звезд казавшейся пурпурной и словно бы задумчивой. Диэнек поднялся выше места судей – сидений на траве, выделявшихся на время Игр для спартанцев, – выбрал на вершине склона укромный уголок под соснами и устроился там.
Я слышал, что для любовника времена отмечены воспоминаниями о тех женщинах, чья красота воспламеняла его сердце. Он вспоминает этот год как год, когда, помешанный, он преследовал по городу одну любимую, а тот – когда другая избранница сдалась наконец его чарам.
С другой стороны, для матери и отца времена исчисляются рождениями детей: тогда-то ребенок сделал первый шаг, тогда-то – произнес первое слово. Этими домашними вехами отмечен календарь жизни любящих родителей, и они занесены в книгу их памяти.
Но для воина времена отмечены не такими милыми мерами и не самими календарными годами, а сражениями, боевыми действиями и потерянными товарищами, смертельными испытаниями выживших. Стычки и конфликты того времени стирают все поверхностные воспоминания, оставляя лишь поля сражений и их названия. Эти воспоминания приобретены за священные монеты пролитой крови и оплачены жизнью любимых братьев по оружию. Они занимают в памяти бойца особое место за пределами других знаменательных событий. Подобно жрецу со своим графисом и вощеной дощечкой, пехотинец тоже ведет записи. Его история высечена стальным стилом в нем самом, и этот алфавит нестираемо выгравирован копьем и мечом на его теле.
Диэнек устроился на земле в тени деревьев над стадионом. Я приготовил подогретое масло, приправленное гвоздикой и окопником, и начал умащать им тело моего хозяина. Он потребовал этого, чтобы просто улечься на земле и заснуть,– так делают все спартиаты после тридцати. Диэнек был далеко не старик, ему едва исполнилось сорок два, но все его суставы хрустели, как у старика. Его бывший оруженосец, скиф по прозвищу Самоубийца, научил меня, как правильно разгонять узлы и отеки в ткани шрамов, оставленных на теле моего господина многочисленными ранами, и маленьким хитростям по облачению его в доспехи, чтобы эти дефекты не проявлялись. Левое плечо Диэнека не могло выдвигаться вперед дальше уха, а левый локоть не поднимался выше ключицы. Панцирь следовало надевать сначала на торс, чтобы господин поддерживал его за скрепы локтями, пока я прилаживаю плечевые ремни и закрепляю их в нужном положении. Его позвоночник не сгибался, и он не мог поднять щит, даже встав на колени. Бронзовый наруч мне следовало держать на весу и прилаживать на предплечье в стоячем положении. К тому же правая ступня Диэнека не сгибалась, если не помассировать сухожилие, пока не восстановится ток крови и не пройдет онемение.
Однако самой страшной раной моего господина был ужасающий рубец шириной в палец, который рваными зубцами опоясывал поперек лба всю его голову чуть ниже линии волос. Обычно его не было видно под длинными ниспадавшими на лоб волосами, но когда Диэнек забирал их, чтобы надеть шлем, или завязывал сзади на ночь, этот багровый шрам показывался. И теперь я видел его в свете звезд. Очевидно, любопытство на моем лице показалось моему хозяину забавным, поскольку он усмехнулся и поднял руку, чтобы провести ею по рубцу.
– Это подарок от коринфян, Ксео. Давний, полученный примерно в то время, когда ты родился. Кстати, его история связана с моим братом.
Мой господин посмотрел вниз по склону, в сторону Аллеи Победителей. Возможно, он чувствовал близость тени своего брата, или рядом витали обрывочные воспоминания о детстве, или о сражении, или об агоне Игр. Он дал мне знак, что можно налить в чашу вина и что я могу налить себе тоже.
– Тогда я никем не командовал,– не дожидаясь вопросов, начал Диэнек.– Я носил хохолок, а не скребок для шкур.– Это означало: шлем с идущим со лба до затылка гребнем, какие носят рядовые пехотинцы, а не с поперечным, выделяющим командира эномотии.– Хочешь выслушать эту историю, Ксео? В качестве сказки на ночь.
Я ответил, что хочу, очень. Мой хозяин задумался. Очевидно он сомневался, не содержит ли такой рассказ тщеславия и не будет ли он излишней откровенностью. В этом случае он бы сразу прервал себя. Однако, видимо, рассказ имел в себе элемент поучительности, поскольку еле заметным кивком Диэнек дал себе разрешение продолжать и поудобнее устроился на склоне.
– Это случилось при Ахиллеоне, в сражении против коринфян и их аркадских союзников. Я даже не помню, из-за чего началась та война, но за что бы она ни шла, те сыновья шлюхи нашли в себе мужество поднять против нас оружие. Они сломали наш строй и смяли первые четыре шеренги. По всему полю воины сошлись один на один. Мой брат был во главе эномотии, а я был третьим.– Это означало, что он, Диэнек, командовал третьим стихо – отрядом из девяти человек, шедшим в походной колонне на шестнадцать позиций сзади.– Поэтому когда мы перестроились в колонну по четыре, я оказался на своей третьей позиции рядом с братом, во главе моего стихо. Мы, Ятрокл и я, сражались как диас, мы с детства упражнялись в паре. Но теперь это было не упражнение, это было настоящее кровавое безумие.
Передо мной оказался чудовищный противник – шести с половиной футов ростом, он справился бы с двумя воинами, будь один даже на коне. у него не было копья, оно сломалось, и он кипел такой яростью, что ему не хватило самообладания вспомнить про меч. Тогда я сказал себе: приятель, тебе лучше поскорее вонзить клинок в этого ублюдка, пока он не схватил свой резак для маргариток.
Я бросился на него. Он встретил меня щитом, используя его вместо оружия и размахивая им, как топором. Его первый удар расколол мой щит. Я сжал копье, стараясь ударить противника снизу, но вторым ударом он разбил древко в щепки, так что я остался безоружным перед этим демоном. Он взмахнул своим щитом, как блюдом, и попал мне прямо сюда, по шлему, чуть выше прорезей для глаз.
Я почувствовал, как обод шлема рванулся вверх и назад, унося с собой половину моего черепа. Прорезь для глаз нижним краем ободрала бровь, и мой левый глаз залило кровью.
Я ощутил то беспомощное чувство, какое бывает, когда ты ранен и понимаешь, что серьезно, но не знаешь, насколько серьезно; когда кажется, что ты уже умер, но все же не до конца уверен в этом. Все происходит замедленно, как во сне. Я упал ничком и знал, что тот гигант стоит надо мной и следующим ударом отправит меня в мир иной.
И вдруг он оказался рядом. Мой брат. Я видел, как он шагнул и метнул свой ксифос, словно метательный нож и попал этой коринфской горгоне прямо под нос.
Клинок выбил коринфянину зубы, пробил челюсть и застрял в горле, оставив лишь торчащую перед лицом рукоять.
Диэнек покачал головой и мрачно усмехнулся, хорошо понимая, как близок был тогда к гибели. Я думаю, что он испытывал глубокое почтение перед богами за то, что как-то выжил.
– Но это даже не поколебало того рукоблуда. С голыми руками и штырем в челюсти он бросился на Ятрокла. Я обхватил его снизу, а мой брат сверху, и мы повалили его, как в борьбе. Обломок моего копья я вонзил прямо коринфянину в брюхо, потом поднял из грязи еще чье-то копье и, вложив весь свой вес, нанес такой удар, что оно прошло через пах и пригвоздило гиганта к земле. Мой брат выхватил меч того ублюдка и снес ему полголовы, прямо вместе с бронзой шлема. Но коринфянин снова встал. Ни когда раньше я не видел брата действительно испуганным, но на сей раз это было так. «Всемогущий Зевс!» – воскликнул он, и это было не проклятие, а молитва – молитва мочащегося себе под ноги.
Становилось холодно. Мой хозяин закутался в плащ и еще отхлебнул вина.
– У моего брата был оруженосец из Антавра, что в Скифии ты мог слышать о нем. Спартанцы прозвали его Самоубийцей.
Мое лицо выдало недоумение, но Дианек лишь усмехнулся в ответ. Этот парень, скиф, до меня служил оруженосцем Диэнека, а потом стал моим ментором и учителем. Для меня было внове, что до Диэнека он служил его брату.
– Этот нечестивец пришел в Спарту сам, как и ты, Ксео. Безумный ублюдок! Он бежал от возмездия за кровь: в каком-то раздоре горных племен из-за девчонки он убил то ли отца, то ли тестя – не помню, кого именно. Придя в Лакедемон, он попросил первого встречного прикончить его и еще несколько дней приставал с тем же к десяткам других но никто на такое не пошел, боясь осквернения. В конце концов мой брат взял его в сражение, пообещав, что там с ним расправятся.
Парень оказался истинным кошмаром. Он не держался в тылу как остальные оруженосцы, а сунулся в гущу сражения – безоружный, ища смерти и призывая ее. Его оружием был дротик. Он делал эти дротики сам – отпиливал не длиннее человеческой руки и называл «штопальными иглами». Этот скиф брал их с собой двенадцать в колчане, как стрелы, и выхватывал пучками по три. Первые два он метал подряд в одного и того же противника, а третий оставлял для ближнего боя.
Такое описание действительно характеризовало того человека. Даже теперь – наверное, лет через двадцать – он оставался бесстрашным до безумия и совершенно не заботился о своей жизни.
– Как бы то ни было, теперь он оказался рядом, этот скифский сумасшедший. Бац, бац, бац! – он метнул свои штопальные иглы в печень коринфского чудовища, так что они вышли из спины, и еще одну прямо ему в детородные органы. И это подействовало. Титан уставился на меня, взревел и упал, как мешок с воза. Позже я заметил, что с половины моего черепа содрана кожа, лицо превратилось в кровавую массу, а вся правая сторона бороды и подбородка содрана.
– И как же вы выбрались из битвы? – спросил я.
– Выбрались? Нам пришлось пробиваться еще десятки стадиев, прежде чем враг наконец повернул к нам задницу и все было кончено. Не могу описать, в каком состоянии я находился. Брат не позволял мне дотрагиваться до лица. «У тебя несколько царапин»,– сказал он. Я чувствовал, как ветер обвевает череп, и понимал, что рана серьезная. Помню только, как этот мерзкий лекарь, наш друг Самоубийца, сшивал меня морской бечевкой, а брат поддерживал мою голову и отпускал свои шуточки: «После этого ты уже не будешь таким красавчиком. Теперь я могу не опасаться, что ты уведешь мою жену».
Здесь Диэнек замолк, и его лицо вдруг приобрело спокойное и торжественное выражение. Он заявил, что с этого момента история становится личной и здесь следует поставить точку.
Я попросил его продолжить.
– Ты ведь знаешь,– насмешливо предупредил он, что случается с оруженосцами, выносящими рассказы за пределы школы? – Диэнек отхлебнул вина и, задумчиво помолчав, продолжил: – Тебе известно, что я не первый муж у моей жены. Сначала Арета была замужем за моим братом.
Я знал об этом, но никогда не слышал этого из уст самого хозяина.
– Это вызвало печальный раскол в моей семье, поскольку я обычно отказывался разделить трапезу в доме у брата, а всегда находил какую-нибудь отговорку. Моего брата это глубоко ранило – он думал, что я не уважаю его жену или и вижу за ней какую-то вину, которую не могу разгласить. Он взял ее из семьи совсем молодой, когда ей было всего семнадцать, и я знал, что эта поспешность беспокоила его. Он так хотел ее, что не мог ждать, боясь, что его опередит кто-то другой. Поэтому, когда я избегал бывать в его доме, он думал, что я осуждаю его за это.
Ятрокл ходил жаловаться нашему отцу и даже эфорам, стараясь заставить меня принять его приглашение. Однажды, борясь в палестре, месте для упражнений, он чуть не задушил меня (я никогда не мог сравниться с ним в борьбе) и велел в тот же вечер явиться к нему в дом в лучших одеждах и с наилучшими манерами. Он поклялся, что сломает мне хребет, если я еще раз оскорблю его.
Приближался вечер, когда я заметил, что брат снова идет ко мне. Я как раз заканчивал свои упражнения на Большом Круге. Ты знаешь Арету и ее язык. Так вот, она поговорила с мужем. «Ты слепец, Ятрокл,– сказала она.– Разве ты не видишь, что твой брат влюблен в меня? Потому он отклоняет твои приглашения прийти к нам. Ему стыдно за свои чувства к жене родного брата».
Мой брат прямо спросил, правда ли это. Я солгал, как собака, но он, как всегда, видел меня насквозь. Можешь сам понять его чувства. Но он оставался совершенно спокоен – как в детстве, когда что-то обдумывал. «Она будет твоей, когда я паду в бою»,– объявил он. Казалось, что для него проблема решена.
Но не для меня. Через неделю я нашел повод уехать из города, чтобы сопровождать одно заморское посольство. Мне удалось пробыть вдали всю зиму. Когда я вернулся, наше подразделение лох (самое большое соединение тяжеловооруженных воинов-пехотинцев (гоплитов) в спартанской армии) Геракла призвали, чтобы послать к Пеллене. Там мой брат погиб. Я не знал об этом, пока битва не была выиграна и нас не собрали для переклички. Мне было двадцать четыре года. Ему – тридцать один.
Лицо Диэнека стало еще серьезнее. Действие выпитого вина словно бы испарилось. Он долго колебался, обдумывая, продолжать ли свой рассказ или же закончить на этом. Потом внимательно посмотрел мне в лицо и, как будто удовлетворившись, что я слушаю с должным вниманием и почтением, опорожнил чашу и продолжил:
– Я чувствовал свою вину за смерть брата, как будто я желал ее и боги некоторым образом ответили на мою постыдную молитву. Это было мучительнее всего, что со мной случалось в жизни. Я чувствовал, что не могу жить дальше, но не знал, как достойно закончить жизнь. Мне пришлось вернуться домой – ради отца и матери, а также для игр после похорон. К Арете я не приближался. Я собирался снова покинуть Лакедемон, как только закончатся игры, но ко мне подошел ее отец:
«Разве ты не хочешь ни слова сказать моей дочери?» Он не догадывался о моих чувствах к ней. Он говорил просто об учтивости – я был обязан проследить, чтобы Арете достался достойный муж. Он сказал, что я сам должен стать ее мужем. Я был единственным братом Ятрокла, наши семьи уже были тесно связаны, а поскольку Арета еще не родила ни одного ребенка, мой ребенок от нее был бы как будто и ребенком брата.
Я отказался.
Этот достойный человек не мог догадаться о действительной причине – что я не могу принять такого позора: исполнения своих глубочайших желаний на костях собственного брата. Отец Ареты не мог этого понять и потому был глубоко задет и оскорблен. Ситуация сложилась невозможная, она плодила страдания со всех сторон, но я не имел никакого представления о том, как ее исправить. В тот день я боролся в Гимнасионе, отравленный внутренними муками, когда в его воротах раздался шум. Вошла какая то женщина. Как известно, женщинам не позволено вторгаться в Гимнасион. Послышался возмущенный ропот. Я встал,– как и все, гимнос, то есть голый,– чтобы вместе с другими вышвырнуть нарушительницу.
И тогда – увидел… Это была Арета.
Мужчины расступились перед ней, как колосья перед жнецами. Она остановилась прямо у линии овала, где обнаженные кулачные бойцы ожидали своего выхода.
«Кто из вас возьмет меня в жены?» – спросила она у всех собравшихся, которые разинули рты и онемели, как телята.
Арета и теперь прелестная женщина, даже после рождения четырех дочерей, но тогда, еще бездетная, когда ей едва исполнилось девятнадцать, она была ослепительна, как богиня. Не было мужчины, который бы не желал ее, но все были слишком ошеломлены чтобы издать хотя бы звук.
« Что ж, никто не подойдет, чтобы заявить свои права на меня?»
Она повернулась и пошла – прямо ко мне:
«Тогда ты должен сделать меня своей женой, Диэнек, иначе мой отец не вынесет такого позора».
Мое сердце перевернулось от этого – оно наполовину онемело от непомерного бесстыдства этой женщины, а наполовину было глубоко тронуто ее мужеством и сообразительностью.
– И что случилось дальше? – спросил я.
– Что мне оставалось? Я стал ее мужем.
Диэнек рассказал еще несколько историй о мастерстве своего брата на Играх и его доблести, выказанной в сражениях. Во всех областях: в быстроте, и сообразительности, и красоте, и добродетели и выдержке, даже в пении – во всем брат затмевал моего господина. Было ясно, что Диэнек глубоко почитал его – не просто как младший брат старшего, но как человек, трезво его оценивая и восхищаясь им.
– Какая это была пара – Ятрокл и Арета! Весь город ждал, какие будут у них сыновья. Какие воины и герои родились бы, слив воедино достоинства обоих!
Но у Ятрокла и Ареты не было детей, а от Диэнека она рожала только девочек.
Диэнек не говорил об этом, но можно было заметить печаль и сожаление на его лице. Почему боги даровали ему и Арете только дочерей? Чем это могло быть, как не проклятием, насланным богами возмездием за преступную любовь, выросшую в сердце моего хозяина? Диэнек вышел из задумчивости или из того состояния, что я принял за задумчивость, и указал вниз на Аллею Победителей.
– Теперь ты видишь, Ксео, что проявлять мужество перед врагом мне, может быть, легче, чем другим. Я держу перед собой пример брата и знаю, что какие бы чудеса доблести ни позволили мне совершить боги, я никогда не сравняюсь с ним. Это моя тайна. И она придает мне скромности. Он улыбнулся. Странной, печальной улыбкой.
– Теперь, Ксео, ты знаешь тайну моего сердца. А насколько я стал достойным человеком, судить тебе.
Я рассмеялся, как и хотел мой хозяин.
– А теперь я устал,– объявил Диэнек, поворачиваясь на земле. – Извини меня, но пора, как говорится, лишить девственности соломенную деву.
С этими словами он свернулся на своем тростниковом ложе и мгновенно заснул.