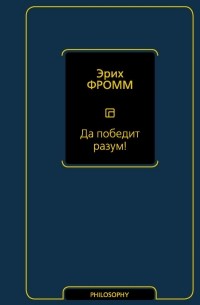Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
2. Исторические истоки современного кризиса и перспективы на будущее
После длившегося почти тысячу лет – от начала феодализации Римской империи до позднего Средневековья – процесса, в ходе которого европейский континент был пропитан христианством, вобравшим в себя идеи и элементы мышления, заимствованные у греков, евреев и арабов, Европа породила новую культуру. Западный человек открыл в природе объект интеллектуальных спекуляций и эстетической радости; он создал новую науку, которая в течение нескольких столетий стала фундаментом техники, каковой было суждено преобразовать природу и повседневную жизнь невиданными ранее способами; он открыл себя как самостоятельного индивида, наделенного почти неограниченной силой и энергией.
Этот новый период породил также и новую надежду на улучшение и даже усовершенствование человека. Надежда на совершенствование человека, на его способность построить «доброе общество» – одна из самых характерных и уникальных черт западного мышления. Эту же надежду питали пророки Ветхого Завета и греческие философы. Она никогда полностью не утрачивалась, хотя была затемнена внеисторическими идеями спасения и утверждения греховности в христианском мышлении; эта надежда нашла свое новое выражение в утопиях XVI–XVII веков, в философских и политических идеях XVIII–XIX веков.
Параллельно с возрождением надежды после Ренессанса и Реформации началось взрывоподобное экономическое развитие Запада, произошла первая промышленная революция. Организационные формы, которые она приняла, приобрели вид капитализма, характеризующегося частной собственностью на средства производства, существованием политически свободных наемных работников и регулированием всей экономической деятельности на принципах расчетливости и максимизации прибылей. К 1913 году промышленное производство выросло в семь раз по сравнению с 1860 годом, и почти весь этот рост пришелся на Европу и Северную Америку. (На весь остальной мир приходилось около 10 % всего промышленного производства.)
После Первой мировой войны человечество вступило в новую фазу. Природа капиталистического способа производства претерпела глубокие изменения. Новые производительные силы (такие как использование нефти, электричества и атомной энергии) и технологические открытия увеличили объемы промышленного производства материальных благ во много раз по сравнению с серединой XIX века.
Новые технологические открытия принесли с собой новую форму производства. Производство сконцентрировалось на крупных предприятиях, господствующее положение заняли крупные корпорации и управленческая бюрократия, возглавлявшая корпорации, но не владевшая ими. Изменился и способ производства: на предприятиях слаженно трудились тысячи рабочих и инженеров, поддерживаемых мощными профсоюзами, которые часто копировали бюрократическую организацию корпораций. Централизация, бюрократизация и манипуляция стали характерными чертами нового способа производства.
Ранний период промышленного развития с его потребностью создания тяжелой промышленности за счет удовлетворения материальных потребностей рабочих привел к ужасающей нищете миллионов мужчин, женщин и детей, работавших на заводах и фабриках в XIX веке. Реакцией на эту нищету, на попрание человеческого достоинства стало повсеместное распространение в Европе социалистического движения. Это движение грозило опрокинуть старый порядок и заменить его новым, при котором труд будет приносить благо широким массам населения.
Усовершенствованная организация труда в сочетании с техническим прогрессом и результирующим повышением производительности труда позволила рабочему классу получить большую долю национального продукта. Страшная неудовлетворенность системой, господствовавшей в XIX веке, вызвала к жизни дух сотрудничества внутри капиталистической системы. Возникло новое партнерство между промышленниками и рабочими, представленное профсоюзами и (за исключением Соединенных Штатов) социалистическими партиями. После Первой мировой войны тенденция к насильственным революциям сошла на нет в Европе, за исключением самой отсталой из великих держав – России.
В то время как пропасть между имущими и неимущими в промышленно развитых странах Запада значительно сузилась (она медленно, но неуклонно сужалась и в Советской России), пропасть между имущими странами Европы и Северной Америки и неимущими странами Азии (за исключением Японии), Африки и Латинской Америки остается такой же широкой, какой она была раньше внутри каждой отдельно взятой страны, и до сих пор продолжает расширяться. В начале XX века колониальные народы еще мирились со своей эксплуатацией и нищетой, но уже к середине нашего века мы стали свидетелями полномасштабной революции бедных стран. Точно так же как рабочие в капиталистических странах XIX века отказались и дальше верить в то, что их судьба ограничена божественным или социальным законом, так теперь и бедные народы отказались мириться со своей нищетой. Они потребовали не только политической свободы, но и уровня жизни, приближающегося к уровню жизни западного мира, и быстрой индустриализации как средства достижения этой цели. Две трети рода человеческого не желают смиряться с положением, когда их уровень жизни составляет от 5 до 10 % от уровня жизни в богатейшей стране мира – США. Эта страна при населении, составляющем 6 % населения мира, производит 40 процентов всех промышленных товаров.
Колониальная революция была запущена многими факторами, среди которых на первое место надо поставить военное и экономическое ослабление Европы после двух мировых войн первой половины XX века, националистические и революционные идеологии, перенесенные из Европы и Америки XIX века, а также новые способы производства и социальной организации, которые повысили шансы превратить клич «Догнать Запад!» из лозунга в реальность.
Китай, позаимствовав коммунистическую идеологию, а также экономические и социальные методы у Советской России, стал первой колониальной страной, добившейся впечатляющих экономических успехов; Китай начал превращаться в одну из великих мировых держав, которая с помощью собственного примера, убеждения и экономической помощи предпринимает попытки возглавить колониальные революции в Азии, Африке и Латинской Америке.
После 1923 года Советский Союз окончательно отказался от надежды на пролетарскую революцию на Западе и начал в итоге сдерживать западные революционные движения, все еще надеясь, однако, на поддержку со стороны националистических революций Востока. Теперь, когда Советский Союз и сам стал одной из «имущих» стран, он ощущает угрозу натиска со стороны отсталых стран, руководимых Китаем, и ищет взаимопонимания с США, однако без попыток установления с ними союза, направленного против Китая.
Любое описание основных тенденций развития Запада за последние четыреста лет будет неполным, если не принять во внимание глубинных духовных изменений. Несмотря на то что влияние богословского христианского мышления неуклонно ослабевало с XVII века, духовная реальность, которую раньше выражали в форме теологических концепций, нашла свое выражение в философской, исторической и политической формах. Философы XVIII века, как заметил Карл Беккер, в своей вере не уступали богословам XIII века. Они просто облекли свой опыт в другую концептуальную оболочку. На фоне взрывоподобного роста богатства и технических возможностей в XIX веке произошли фундаментальные изменения во всех отношениях. Не только «бог умер», как выразился Ницше, постепенно начал умирать гуманизм, присущий как богословам XIII, так и философам XVIII века; формулы идеологий – религиозной и гуманистической – продолжали использоваться, но истинный их опыт становился все более призрачным и менее реальным. Человек словно опьянел от собственного могущества и превратил материальное производство, бывшее когда-то средством достижения достойной жизни, в цель.
Сегодня для всех индустриальных обществ характерны крупные предприятия, вмешательство государства в экономику и упор на контроль, а не на владение собственностью на средства производства. Западная капиталистическая система, хотя и сохранила много черт капитализма XIX века, смогла усвоить и достаточно новых черт, создав систему, разительно отличающуюся от предыдущей. В наши дни существуют три формы социализма, которые намного резче порвали с традициями прошлых экономических стадий, но демонстрируют новые тенденции в разной степени: а) хрущевский социализм как система всеобъемлющего централизованного планирования и государственной собственности в промышленности и сельском хозяйстве; б) китайский коммунизм (особенно начиная с 1958 года), ставший системой тотальной мобилизации своего самого главного капитала – шестисот миллионов человек – и такого же тотального манипулирования их физической и эмоциональной энергией и мышлением без учета индивидуальности каждого отдельно взятого человека; в) гуманистический социализм, целью которого является смешение необходимого минимума централизации, вмешательства государства и бюрократии с возможным максимумом децентрализации, индивидуализма и свободы. Этот третий тип социализма представлен в разных формах во многих странах – от Скандинавии до Югославии, от Бирмы до Индии.
Основываясь на различении этих исторических трендов, я хочу представить тезис, который постараюсь обосновать на следующих страницах:
Советский Союз под руководством Хрущева являет собой образец консервативной, контролируемой государством индустриальной экономики, а отнюдь не революционной системы; Советский Союз заинтересован в законе и порядке и изо всех сил пытается защититься от натиска революции «неимущих» народов.
По этой причине Хрущев ищет взаимопонимания с Соединенными Штатами, хочет покончить с холодной войной и приступить к разоружению. Война ему не нужна, и он ее не хочет.
Тем не менее Хрущев не может отказаться от коммунистической революционной идеологии и не может обратиться против Китая, не подорвав свою собственную систему. Вследствие этого ему приходится осторожно маневрировать, чтобы сохранить идеологию для русского народа и защититься от Китая и его союзников.
Если его попытки закончить холодную войну с Западом завершатся неудачей, он (или его преемник) будет вынужден пойти на тесный союз с Китаем, а это означает политику, которая оставит мало надежд на мир.
Развитие бывших колониальных народов не пойдет по капиталистическому пути, потому что по психологическим, социальным и экономическим причинам капиталистическая система не годится для них и не является привлекательной. Вопрос заключается не в том, к какой системе они присоединятся – к коммунистической или капиталистической. Вопрос в том, какую форму коммунизма они примут – русскую или китайскую, став ближайшими союзниками одной из этих стран, или они выберут одну из форм демократического децентрализованного социализма и станут союзниками нейтрального блока, представленного Тито, Насером и Неру.
Таким образом, Соединенные Штаты столкнулись со следующей альтернативой: либо продолжать борьбу против коммунизма и гонку вооружений, что приведет к повышению вероятности атомной войны, либо достигнуть политического взаимопонимания на основе статус-кво с Советским Союзом, пойти на всеобщее разоружение (включая и Китай) и поддерживать нейтральные режимы демократического социализма в бывших колониях. Последнее решение приведет к созданию многополярного мира, состоящего из западного блока под руководством США и Европы, советского блока под руководством СССР, Китая, а также социалистического демократического блока под руководством Югославии и Индии и блока других нейтральных стран.
В сегодняшнем мире конкурируют две силы – Россия с Китаем и США с Западной Европой. Любая попытка одной стороны сокрушить другую посредством военной силы не только провалится, но и приведет к уничтожению обеих систем. Есть только один способ, с помощью которого Соединенные Штаты могут конкурировать с коммунизмом: показать, что уровень жизни в отсталых странах можно поднять до той же степени, что и с помощью тоталитарных методов, но без режима насильственного принуждения.
Само существование многополярного мира зависит от принятия современного статус-кво всеми державами при условии эффективного всеобщего и полного разоружения. Напряженность и подозрительность, обусловленные гонкой ядерных вооружений, не допускают достижения политического взаимопонимания, а неурегулированные политические отношения не позволяют приступить к разоружению. Разоружение и политическое взаимопонимание являются необходимыми условиями сохранения мира. Однако, для того чтобы сделать это возможным, надо предпринять и некоторые другие шаги.
1. Психологическое разоружение, прекращение истерической ненависти и подозрительности в отношениях между главными действующими лицами, так как ненависть и подозрительность сильно затрудняют реалистичное и объективное мышление и даже делают его невозможным, причем с обеих сторон. (Такое психологическое разоружение не предполагает отказ от политических или философских убеждений, или от права критиковать другие системы. Напротив, психологическое разоружение предоставит больше возможностей для критики и отстаивания собственных убеждений, потому что они не будут уже затуманены ненавистью и перестанут подпитывать дух войны.)
2. Массированная экономическая помощь отсталым странам продовольствием, вложением капиталов и техническим содействием, что станет возможно только при условии прекращения гонки вооружений.
3. Укрепление и реорганизация Организации Объединенных Наций таким образом, чтобы эта организация стала обладать реальной возможностью контролировать международное разоружение и организовывать масштабную экономическую помощь отсталым странам.
В тесной связи с этой альтернативной внешней политикой находится еще одна, не менее важная проблема. В борьбе с нищетой, создавая богатства, Соединенные Штаты, так же как остальные страны Запада (и Советский Союз), усвоили дух материализма, в условиях господства которого производство и потребление стали самодовлеющими целями, а не средствами создания достойной человека творческой жизни. Эти и другие институциональные вторичные цели и ценности для большинства людей стали неотличимыми от первичных целей жизни. Даже если отвлечься от всех внешних опасностей, наша внутренняя пустота и укоренившееся отсутствие надежды в конце концов приведут к падению западной цивилизации, если истинное возрождение западного духа не займет место нынешнего самодовольства, покорности и растерянности. Это возрождение должно быть таким же, каким было Возрождение XV–XVII веков, – живительным восстановлением связи с гуманистическими принципами и вдохновленностью западной культуры.
Подытоживая, можно сказать: мы сегодня являемся свидетелями настоящей, стремительно развивающейся революции; революции, которая началась на Западе четыреста лет назад. Она привела к созданию новой системы производства, которая сделала Европу и Америку мировыми лидерами. Она сделала трудящиеся массы Европы бенефициарами системы и поэтому революция масс в Европе (за исключением России) и в Северной Америке была мирной. Ныне разворачивается новая стадия мировой революции – революция отсталых стран Азии, Африки и Латинской Америки. Вопрос заключается в том, будет ли эта революция мирной, что представляется возможным, если великие промышленно развитые державы смогут уловить и принять исторические тенденции и предпримут адекватные упреждающие шаги. Если же они этого не сделают, то не остановят колониальную революцию, хотя, вероятно, смогут на короткий исторический миг подавить ее силой. Однако попытка сдержать колониальную революцию приведет к нарастанию напряженности между двумя блоками, угрожающими друг другу ядерным оружием, что оставит мало надежды на мир и сохранение демократии.