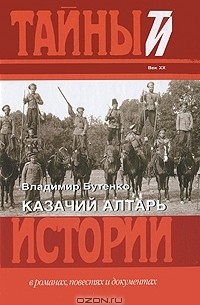Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Часть вторая
В эту осеннюю ночь как никогда тревожно было на душе и у Полины Васильевны. Дальняя поездка в чужой город, да по немирной степи, волновала безвестностью и грозила любым лихом. Как проснулась она при вторых кочетах, так и промаялась до самой зорьки. Дважды становилась на колени молиться. Лампадка озаряла чело Богородицы и прильнувшего к ней младенца. Чуть выше проступал образ Георгия Победоносца со старинной иконки. Крестясь и творя поклоны, страстно взывала казачка к святым, просила их защиты и милости к родной семье…
…Господи, давно ли она держала на руках, вот как дева Мария, своего сыночка-первенца? И он точно так же всем тельцем прижимался к ней и темными глазенками водил по сторонам, с интересом разглядывая все, что окружало. Давно ли кормила его грудью и пеленала, и баюкала в зыбке под колыбельные песни, в любовном материнском самозабвении целуя его розовые пяточки?.. А как беспокоилась молодая мать, когда Яшеньку, ровно в годик, посадили верхом на коня! На радость всем, особенно деду Тихону, карапуз вцепился ручонками в гриву и улыбнулся. А его отец-казак был в те дни на фронте, на пригляде у смерти. Да неужто планида такая казацкая: отец в бою, а сын – стремена примеряет?!
Явственно помнился Полине Васильевне и черноволосый, как вороненок, Яшка-мальчуган. Рос он смышленый и крепенький. Слишком не бедокурил, но и не слыл тихоней. В учебе угадывалась отцовская жилка. Степан Тихонович, не скрывая гордости, частенько повторял: «Мне не довелось ученой ухи похлебать, а Яшку вытяну! Нищим стану, а его до института доведу!»
Три последних года семилетки проучился Яша в Пронской, квартируя у дальних родичей. Как ни тянулась душа за первенцем, а с младшими хлопот было не меньше; сидел уже на руках полугодовалый Егорка и мотался по куреню трехлеток Ленька.
Низались, точно бусины на нитке, один за другим дни. Только от каникул до каникул и видела она своего старшенького. И всякий раз зоркими материнскими глазами замечала, как меняется он, ходко идет в рост. И о чем ни спроси – растолкует обстоятельно и умело. Летом, в рабочую пору, делил с отцом и дедом степняцкую долю: был погонычем на косовице хлебов, помогал молотить, рыбалил, работал в саду и в огороде. При возможности раскрывал книжки и просиживал у керосинки до глубокой ночи…
Коллективизация грянула, что гром среди ясного неба. Как ни уговаривал Степан Тихонович отца подать заявление в колхоз, тот отказался. Сторону свекра взяла и Полина Васильевна. Председательша сельсовета, красная партизанка Матрена Барабаш, узнав, что Степан Шаганов остается единоличником, тут же нашла своему секретарю замену. Снова ключевской люд раскололся на две враждебные половины. И тем невероятней было известие, что Яшка-семиклассник со школьной агитбригадой разъезжает по району и ратует за новую социалистическую жизнь. Дошла очередь до родного хутора. Ради любопытства в клуб пошел и Тихон Маркяныч. Получаса не минуло, как оскорбленный старик прилетел домой туча тучей. Оказывается, не кто иной, как мил-внук, приклеив бороду, разыгрывая сценку, говорил такой интонацией, что даже дети угадали в нем Тихона Маркяныча. Едва нерадивец ступил на порог, как отец встретил его негодующим вопросом: «Так ты науки постигаешь? Вместо учебы в клоуны записался?» Яшка не оробел, твердо заявил, что с учебой все в порядке и, поскольку дано такое комсомольское поручение, то он будет его выполнять.
– Поручению дали деда позорить? – гневно переспросил Тихон Маркяныч и сдернул с крюка уздечку.
– Всех кулаков!
Первый удар пришелся по плечу. Подросток стиснул зубы, по-прежнему стоял у двери, держа в руке сумку с артистическим реквизитом.
– Сучонок! Да я тобе… Голову откручу! Надо мной, Георгиевским кавалером, надсмехаться?!
– Не запугаете. И ваши царские побрякушки…
Второй раз взбешенный старик стеганул по лицу. Мать кинулась на защиту. Яшка попятился к двери, тронул на щеке взбугрившийся рубец.
– Нагаечник! Ты не дед мне больше, не дед, а кулацкий враг! – выпалил Яшка и выбежал из куреня. Домой не показывался больше месяца…
С тех пор и занеладили с ним дед и отец. И хотя окончил Яшка семилетку хорошистом, дальше учиться не пожелал. Поступил подсобником в районную МТС, затем занимался на курсах трактористов, устроившись в общежитие для крестьянской молодежи. В Ключевской наезжал редко.
Апрель тридцать второго выдался ведрым, напористым. Степан Тихонович с батей и отроком Ленькой, на неделю оторванным от учебы, выехали в степь; на рубеже своего надела устроили пристанище: брезентовую будку, ясли для скотины да каменный очажок. Сев спорился. Управившись с яровой пшеницей, принялись за подсолнечник. Но, как и большинство хуторян-единоличников, отсеяться до конца не успели. Первого мая, в праздник трудящихся, лавиной обрушился град. Похолодало по-зимнему. Сутки ледяные глыбки сплошь крыли землю, точно суля напасти!
Ждать долго не пришлось. Сельсовет, выполняя распоряжения свыше, увеличил вдвое единоличникам подоходный налог и план по сдаче продуктов. Причем устанавливался твердый срок. Мзда со двора взымалась независимо от того, сколько в нем работников. За невыполнение – штраф, а затем конфискация имущества.
Призадумался Степан Тихонович. Может, пора в колхоз? Не против уже и супруга. Но старик воспротивился пуще прежнего! Нажитое своими руками безвозвратно отдать?!
Осень одарила пшеничкой. Полностью была внесена денежная подать. Но разнарядка на сельхозпродукты оказалась невыполнимой, заведомо убийственной для любого подворья. Не успели Шагановы продать одну корову и жеребенка, опустошить амбарец, оставив зерна на скудную еду да на будущий посев, как получили предупредительное письмо. Степан Тихонович яровое зерно в убыток сменял на озимое, засеял свой пай.
В декабре в район прибыла ватага добровольцев-пролетариев, чтобы организовать «выгрузку» продуктов из кулацких хозяйств. Красная партизанка повела в новый «бой» активистов.
У Шагановых подчистую конфисковали оставшееся зернецо, картофель, тыквы. Угнали быков. На следующий день, несомненно, оповещенные кем-то из соседей, архаровцы заявились опять. И длинными железными щупами обнаружили-таки под кучей хвороста, в огороде, картофельный тайник. Участковый уполномоченный увел Степана Тихоновича в школу, занятую под временный каземат.
Жуть коллективизации в Ключевском, по всей Казакии, постичь было невозможно. Вырванные арестами из куреней, хуторяне томились рядом, под охраной родственников и приятелей. Кормились тем, что приносили из дому. Полине Васильевне верилось до последнего, что мужа, как бывшего секретаря сельсовета, отпустят. Вместе с Ленькой приходила к школе, прибивалась к толпе голосивших баб, а сын карабкался к открытой форточке, звал изо всех силенок:
– Шаганов! Шаганов! – пока не показывалось за окном заросшее щетиной, угрюмое лицо арестанта…
Тихон Маркяныч, опасаясь расправы, в одночасье собрался и умыкнул аж на Кубань, к давнему знакомцу. Полина Васильевна, проводив его, осталась с мальчишками одна. Спустя неделю арестованных тайком, глубокой ночью, увели из хутора…
Февральским метельным вечером в шагановский курень вошел старец-побирун в обтрепанном тулупе и заштопанных валенках. Не сразу, когда лишь сдернул треух и раскутал лицо, Полина Васильевна признала свекра. Отощавший, безбородый, с красными обожженными морозом и ветром глазами, вид он имел самый жалкий. Греясь у печки, сквозь слезы рассказал о своих похождениях. На Кубани расправлялись с казаками еще похлеще. Особые военно-милицейские отряды начали погромы, аресты и выселение из станиц: Ново-Рождественской, Темиргоевской и Медведовской. Почти всю станицу Полтавскую – двадцать пять тысяч человек! – выгнали из хат на мороз, проводили в путь-дорожку на Урал. Та же участь постигла Урупскую, Уманскую и другие станицы… Старый односум, увы, в дальнейшем гостеприимстве отказал. На станции Кавказской Тихона Маркяныча раздели уркаганы. Слава богу, нашлись добрые люди, кое-как одели в старье… Выведав у снохи, что о нем уже справлялся милиционер, скиталец не пал духом. Искупался, поменял одежду, приказав лохмотья сжечь, и натощак лег спать. В предзорье поднялся, выложил из котомки весь свой заветный припас – пять сухарей, отдал его снохе. А сам пожевал размоченный в кипятке хвост воблы и засобирался, куда глаза глядят…
Разве измеришь муки, которые Полина Васильевна испытала в тот год? Да и кому было жаловаться, у кого в лихометной жизни искать защиты? Оставленные без кормильцев, многие казачьи семьи бедовали, рушились, вымирали поголовно.
На первых порах сердобольные хуторянки кое-чем помогали Полине Васильевне, а затем, запуганные председательшей сельсовета, приходить в шагановской курень перестали. И настал день, когда в нем не осталось ни крошки хлеба, ни горошины…
Собираясь с силами, Полина Васильевна уходила в немецкий колонок, за восемь километров, менять вещи на продукты. Ничего не жалела, чтобы подкрепить Егорку, исхудавшего так, что глядеть было больно: скелетик, обтянутый кожей. Леню, посещавшего школу, спасали бесплатные завтраки: крупяной супец да кукурузная лепешка. Половинку её он иногда приносил младшему брату. Но тот угасал день ото дня. Однажды, вернувшись с полбуханкой черного хлеба, мать увидела Егорушку лежащим на кровати. И как ни упрашивала она пожевать спасительные крохи, бедняжка даже рта не открыл. Немощь и сердечная боль в тот вечер свалили и саму Полину Васильевну. Надвинулась ночь. Вдруг оторвавшись от тяжкого забытья, мать вскинулась, увидела на столе горящую лучину, сидящего Леньку. Он плакал. Устремила растерянные глаза на кровать младшенького и мгновенно всё поняла…
Утром Устинья Дагаева и Ленька омыли и одели покойного. Дядька Петро Наумцев сколотил гробик. Вырыл за куренем яму. Хоронить на подворьях стало в хуторе привычным…
Дожили до мая. И, казалось, до спасения – рукой подать. Школьников водили на прополку колхозных полей. Там же кормили. И Лёнька мало-мальски выправился. А Полина Васильевна, отказывая себе в кусочке хлеба ради сына, наоборот, сдала. Юбки подвязывала веревками.
Накануне Троицы к Шагановым заехал дед Кострюк и обрадовал вестью, что на их клине, засеянном осенью, завощанела пшеница. В тот же час хозяйка устремилась в степь и вернулась с мешочком налущенных зерен. И мать, и Ленька неподвижно стояли у надворной печуры, пока варился суп, настоящий зерновой суп!
Остерегаясь потравы, Полина Васильевна решила озимку убрать. Пусть уж дойдет зерно в снопах, на подворье. Взяли серп, лантух из полотна и пряльник для обмолачивания. Дотопали до своего надела. При виде волнившейся нивы захватило дух! Набросились на работу – откуда только силы воскресли?! Пока Полина Васильевна жала и вязала снопы, сынишка собирал упавшие колоски и обмолачивал на полотнине.
Объездчик Зубенко, невысокий, скуластый, с глубоко посаженными сталистыми глазками, ставропольский хохол, подвернул к шагановскому участку внезапно. Бодро спросил:
– Шо вы туточки робытэ?
Полина Васильевна кротко улыбнулась:
– Вот, выросла… Убираем…
– Та хиба ж можно? Вин же ще зэлэный! – и круто развернул свою буланую, откормленную кобылу: – А ну, пийшлы до прэдши Совита! Хай вона дае разрешення.
– Это же – наш пай. Степа сеял! – взмолилась хозяйка.
– Такэ указання! Або ботигом пидмогнуть?!
…Матрена Барабаш, цыганского склада, грудастая баба, наградившая в гражданскую войну не одного красногвардейца триппером, выслушав объездчика, аж подпрыгнула на стуле, заорала:
– Кто разрешал?! У тебя же сельхозналог за прошлый год не выполнен! К муженьку в гости захотела? Подкулачница недобитая… Обойдемся без тебя силами трудящихся масс! Вон!
…Ленечка слег внезапно. Полина Васильевна подумала, что переел садовой зелени. Голод понуждал есть все подряд, вплоть до крапивы и сурепки. Отвар из конского щавеля не помог, колики в животе усиливались. На другой день мальчику стало еще хуже. Бабка Мигушиха пробыла возле больного недолго и всполошилась:
– Дизентерея у твово сынка. Надоть в больницу везть. Кабы раньше… Шукай, Полинка, подводу. Скорей шукай!
Председатель колхоза, Брыкало Алексей Семенович, встретил ее просьбу матюками. Как угорелая, металась плачущая мать по хутору, умоляла в райцентр отвезти Леню…
Ночью он стал уже бредить. Глаза на обрезавшемся лице ввалились, как у покойника. Спозаранку застала она деда Кострюка дома. И, вопреки председательскому запрету, старик быстро запряг на конюшне пару, вместе с хозяйкой подъехал к шагановским воротам. Спрыгнув с подводы, Полина Васильевна вбежала в курень. Ленька, выпятив острые лопатки, лежал на топчане лицом вниз. Сукровица пятнала светлую наволочку. Мать повернула ему голову, ощутив пронзительную прохладу щек, краем простыни утерла отверделые губы сына. И, безумно хохоча и всхлипывая, выскочила во двор…
Соседки, окутав отрока тем самым лантухом, на котором он обмолачивал колоски, похоронили Леньку рядом с братом.
Несколько дней Полина Васильевна пряталась от людей в вишеннике. Чудились ей голоса детей, просивших кушать. По-темному растапливала печуру, варила крапивные щи. Чугунок приносила к могилкам. И, находясь на грани помешательства, в полный голос звала сыночков, выла скорбяще…
И точно дозвалась Тихона Маркяныча! Странник принес полмешка кое-каких продуктишек. И полный короб рассказов! Это и вырвало осиротевшую мать из глухого, голодного безразличия.
В разгар уборочной, ввиду нехватки рабочих рук, Шагановых пригласили в колхоз. Старика определили сменщиком деда Кострюка и сторожем на бахчу. А Полина Васильевна сначала кухарила на полевом стане, а затем перешла в бригаду огородниц…
В середине дня, на ключевской развилке, подводу Шагановых догнала линейка. Сидевший на ней рябой человек в синем плаще оказался атаманом из Дарьевки Григорием Белецким. Объезжая по обочине, похлестывая своих справных дончаков, он сдержанно поздоровался и спросил:
– Откель правитесь? Должно, гостевали?
– Не время по гостям разъезжать, – возразил Степан Тихонович, почувствовав в голосе атамана скрытую насмешку. – Были в Ворошиловске. По делам.
– Ого-го! А я из волостного управления. Власть, Тихонович, трошки поменялась. Теперя Мелентьев у нас бургомистром. А прежнего немцы скинули. Вроде за коммунарские грешки… – Белецкий выправил линейку на дорогу, опустил кнутик и обернулся: – Объявили, казачок, новые разнарядки. Все зерно, что в наличии, приказано под гребло за недельку вывезти. Да ишо по мясу заданию завысили. Хоть роди, а полтонны сдай.
– А семенное? Тоже на вывозку?
– Под метелку! Семенной фонд озимой будут с элеватора отпущать. А про яровое зерно и речи не велось. Ну, как? Повеселел?
– Ага. Хоть вскачь, хоть в плач.
– А самую главную радость напоследочек приберег. Объявились в нашем округе партизаны. Ты старосту из Бунако-Соколовки знал? Мирона?
– Ну?
– Нонче хоронят.
– Да ты что?!
– Вчерась утрецом наскочили. Завели за сарай и шлепнули.
– А сколько ж их было? – зябко передернул плечами Степан Тихонович, поправляя холстину, взмокревшую от мороси.
– Ктой-зна. Его жинка троих видела.
– Не впоймали? – встревожился и Тихон Маркяныч.
– А энто все одно, что дожжок ситом ловить! Приказано создать по хуторам отряды самообороны. Вот такие пирожки с начинкой… Ну, бывайте здравы. – Григорий насунул картуз и дал коням ходу.
Мелкий дождик все гуще сек по лицам. Залоснилась наезженная дорога, подернулась понизовой пеленой. Крепче запахло от лошадей шерстью и сыромятью упряжи. По первой склизи ступали они отрывисто и напряженно. Слыша, как барабанят по фуражке капли, Степан Тихонович взбодрил кобыл кнутом. Замелькали у посторонок берцы, из-под копыт россыпью ударили в переднюю грядку комки грязи. Учащенно заскрипели колеса, и вскоре от нагретых втулок поднялся терпкий дегтярный дух.
Пустынно-сиротливо было в степи, придавленной тучами. Бурели мокрые жнивища, с ворохами бросовой соломы. Лишь одно поле наполовину было вспахано. Степан Тихонович вспомнил, что и ключевские поля до сих пор не тронуты плугом. Ждали дождей, чтобы распушилась земля. А ну как затянется слякоть? На быках и до Рождества не отсеешься!
– Надо тобе, Степан, пистолет выпросить, – неожиданно посоветовал отец. – Не дай бог, подстерегут…
– Я перед немцами, как Мирон, не выслуживаюсь. О покойниках плохо не говорят, но… Сволочной был! Учителя-еврея выдал. Это у него в хуторе повесили коммуниста…
– Перестренут партизаны – разбираться не станут. Раз на службе у немецкой власти, значится, изменник. Эх, простофиля ты кленовая! Ну, на кой ляд камень на шею нацопил? А? Кричал я на сходе? Оборонял? А он отца родного не послухал, как оглох!
– Опять завели? Я же не ради Гитлера стараюсь – ради своих людей! Надоело, батя, оправдываться! Неужели и вы мне не верите?
– Я-то, сынок, верю. А другие… Кочет в третий раз не пропоет – отрекутся. Никто не защитит!
– Что будет, то будет. Хватит!
– Да… Все забываю… А Фенька-то еврейской нации! Сама призналась. Слава богу, что проводили.
Степан Тихонович ответил совершенно спокойно:
– По паспорту она – полька. Гулимовская. А что болтает лишнее, то уж тут, как говорится, не от большого ума.
Когда в речной долине, сквозь дождевую мжицу, проступила ключевская окраина, Степан Тихонович, ненароком предавшись давним воспоминаниям, признался:
– Честно говоря, я евреев уважаю. Окажись председателем «тройки» не Арон Моисеевич, а кто-либо другой, то уже, наверно, и косточки мои бы сгнили. Помните, у нас сельсовет возглавлял?
– А как же! Маскин. Носатый такой.
– Я вам рассказывал… Заводят меня на суд, а посередине стола – Моисеевич. Вижу: узнал. И давай мне вопросы задавать, на удивление остальным. И так-то ловко подвел, что под пятьдесят восьмую статью не подпадаю. Иначе бы не четыре года лагерей получил, а все десять. Можно сказать, в рубашке родился…
Описав дугу по придворному спорышу, лошади повернули к воротам. Тихон Маркяныч валко слез и, сутулясь под тяжестью намокшего тулупа, поплелся их открывать.
– Не надо, – остановил его возница, торопливо наматывая вожжи на остяк грядки. – Пообедаю да в управу побегу.
Из летницы, услышав шум подъехавшей фурманки и голос мужа, метнулась Полина Васильевна. На радостно преображенном лице сияли глаза.
– Яша… Яша дома! Вернулся.
Старик оторопел. А Степан Тихонович уронил вожжи, спрыгнул на землю. На затекших, непослушных ногах дохромал и прислонился к верее. И вдруг оробел, осознав, каким трудным будет разговор с родным сыном…
На углу трехэтажного здания, бывшей мужской гимназии, Фаина невзначай увидела табличку, на которой по-немецки и по-русски значилось: «Нестеровская». А прежде была – «Советская». Не счесть сколько раз бывала она здесь, во втором подъезде, у Лапушинских.
Знакомо дилинькнул за дверью колокольчик. Послышались быстрые шаги. Дверь широко распахнулась. Улыбка тети Риты, старательно причесанной, наряженной в бежевое платье с голубой вставкой, мгновенно погасла.
– Фая? К нам? – Похолодевший взгляд скользнул вниз.
– Здравствуйте! Я приехала, а нашу квартиру опечатали…
– Ах, незадача! Что же, проходи.
В коридоре пол был еще влажноват, пахло цветочными духами. На кухне что-то шкворчало. В проем двери, в гостиной, виднелся стол под белой скатертью.
– Ты понимаешь, – доверительно начала Маргарита Сергеевна, сделав неопределенный жест рукой, – ты не вовремя… Я жду гостей. Георгий Георгиевич пригласил немецких офицеров. Он теперь служит в городском управлении. Консультантом по гражданским вопросам. Я… не хочу, чтобы у него были неприятности. Тебя многие знают. Ты понимаешь?
– Не совсем… Мне можно у вас переночевать?
– Фаина, у тебя же миллион подруг! Один из офицеров говорит по-русски. Начнутся расспросы… От мамы и папы нет вестей?
– Нет. А бабушку…
– Ну, не надо плакать. Понятно. Она же еврейка… Ты еще не прописалась?
– Я сегодня приехала.
– Ни в коем разе не являйся в полицейский участок! А зачем ты приехала? Откуда? Тебе лучше покинуть город.
– Не прогоняйте меня, тетя Рита, – всхлипнула Фаина.
– Деточка, я же тебе объяснила! Какая ты, право… Все в жизни изменилось. Да, мы дружили с твоими родителями, но идейной близости у нас никогда не было… Ты – хорошая девушка. Но представь, вдруг к нам нагрянут с проверкой… Не обижайся. Ты должна понять. Может, тебе денег занять?
– Прощайте, – не поднимая глаз, не в силах взглянуть в лицо жене бывшего адвоката, тете Рите, которая ко дню рождения всегда делала ей подарки, Фаина шагнула к незатворенной двери…
Мимо Верхнего рынка, мимо Андреевской церкви по улице Достоевского (прежде – Дзержинского) Фаина дошла до Мойки, крайней улочки, за которой начинался Таманский лес. Суматошно перебрав в памяти, кто бы приютил ее в это трудное время, Фаина поняла вдруг, что таковых мало. Неизвестно, кто из подруг остался в городе. Знакомые? Опасаясь неприятностей, не поступят ли так же, как Лапушинская?
А между тем она уже приближалась к дому Проценко. Не рассудок, а некое подспудное чувство вело к матери Николая, с которой видалась она всего несколько раз.
Во дворе, вымощенном гравием, сидела на корточках Галинка и колола на голыше орехи. В лад ударам молотка на худенькой спине вспархивал бантик. У ног лакомки горкой лежала битая скорлупа. Она так увлеклась, что даже не заметила пришедшей.
– Здравствуй, Галочка, – окликнула Фаина с той приглушенностью в голосе, которая появляется после слез.
Круглолицая сестренка Николая бросила молоток и вскочила. Чудесные, карие глаза на большеротом лице полыхнули радостью.
– Фая!
– Узнала меня?
– Конечно! Ты у Коли книжку брала. А теперь он на фронте.
– Да, я знаю. Перед оккупацией я успела отправить ему письмо. Мама дома?
– Она огород копает. Позвать? – Голенастая Галинка во весь дух пустилась по дорожке вглубь двора. За кизилом, испещренным бордовыми бусинами, Фаина увидела склоненную женскую фигуру. Звонко раздался девчоночий крик: «Ма! К нам Колина невеста пришла. С вещами!» Фаина ощутила странную неловкость, и, казалось бы, неуместную в эту минуту свою виноватость. Явилась незвано-непрошено…
Походка может вполне выдать настроение человека. Дородная, с тонкими чертами лица, Александра Никитична шагала позади дочки твердо и несуетно. Под взглядом светлых, доверчиво-строгих глаз соврать, наверно, никто бы не решился.
– Что случилось? Выселили, что ли?
– Одна я осталась, тетя Шура…
– Везде горе – куда ни глянь, – с участием сказала хозяйка и вздохнула. – Ну, в ногах правды нет. Галка, проводи Фаину в дом, а я только полоску докопаю…
Беленые стены и светлая отутюженная скатерть с каймой придавали прихожей вид уютный. Кроме печи в тесной комнатенке помещались стол, сундук да буфет с посудой. Двухстворчатая дверь в зал была заперта ручкой-скобой. За печью меж занавесками открывалась дверь. Галинка юркнула в дальнюю, угловую комнату.
– Вот тут я спала, а здесь мама, – стала объяснять девчушка, указывая на кровати под баракановыми покрывалами, стоявшие боковина к боковине вдоль стены. – А теперь мы вместе ляжем.
– Я до завтра, Галочка. Мне бы переночевать…
Галинка призадумалась.
– А куда ты пойдешь? Живи с нами.
– Тесновато у вас. Может, в зал сумку занести?
– Не-ет. Туда нельзя! Там немцы живут.
– Немцы?
– Они на службе. Ты не бойся, – успокоила девочка, обнимая Фаину за пояс и запрокидывая голову. – Дяденька Клаус меня шоколадкой угощал, а мама не разрешила взять. А другой квартирант ужасно ворчливый и дуется, как мышь на крупу, – с материнской интонацией заключила Галинка…
Вопреки всем опасениям, немецкие офицеры, узнав от хозяйки, что ее родственница прогостит недолго, больше Фаиной не интересовались. К тому же, она всячески избегала с ними встреч. По утрам, когда офицеры завтракали и без пяти восемь выходили на улицу к ожидающему автомобилю, Фаина оставалась в постели. А возвращались постояльцы, по обыкновению, глубокой ночью. Накрыв им стол, хозяйка тут же уходила в спаленку и закрывала дверь на крючок.
Фаина долго не засыпала, слыша, как хлопают створки двери, вникая в то, что делалось в зале. Несмотря на позднее время, нередко завязывался спор. Рассудительную речь Клауса перебивал раздраженный голос сослуживца. Привыкнув к их произношению, Фаина улавливала смысл отдельных фраз. Немцы обсуждали положение на Кавказском фронте, упоминали Туапсе, Грозный, Моздок; ругали каких-то генералов и много говорили о Германии. Однажды Клаус с явным неодобрением высказался о фюрере. Голос его оппонента сорвался на крик. После этого, – наверно, поссорившись – офицеры не разговаривали. И две ночи, пока не помирились, за стеной играла мандолина, певуче выводила моцартовскую мелодию. Вскоре, к счастью, квартиранты надолго уехали.
Во дворе, в отдельном поместительном доме, жили дед и бабушка Николая. Каково же было удивление Фаины, когда как-то заприметила за углом стариковского дома парня, очень похожего на Андрея Татаркина, инструктора горкома комсомола. Он, без сомнения, также увидел ее и скрылся за глухой стеной дома.
Другой раз, поднявшись ранним утром, Фаина стала очевидицей, как седобородый Лука Иванович провожал двух молчаливых мужчин, спрятавших глаза под козырьками фуражек. Неизвестные шмыгнули на улицу, подгадав к самому концу комендантского часа, когда уставшие патрули убирались восвояси.
В тот же вечер свекор тети Шуры пригласил Фаину к себе в дом, загадочно улыбнулся:
– Знакомая тебя спрашивает.
С первого взгляда узнать Лясову было мудрено. Вместо ракушки закрученных волос – короткая стрижка, молодящая челочка. Лицо простой, заурядной бабы, а не чело партработницы. Одежда затрепанная, точно с пугала, а не строгий темный костюм с белой кофтой…
– Ну, здравствуй, Гулимовская, – подавая Фаине руку, приветливо сказала Дора Ипполитовна. – Не ожидала?
– Нет, конечно…
В комнатенке, единственное окно которой выходило на задворок, было уже сумеречно. С тяжелым вздохом, утомленно опустившись на диван, Дора Ипполитовна забросала вопросами:
– Что известно о родителях? Как удалось избежать ареста?
– Я в Ворошиловске всего неделю. Ушла с беженской колонной, а жила в хуторе, в одной казачьей семье… Мама до оккупации работала в ессентукском госпитале, а папа… От него давно не было писем.
– Так-так… Я наводила о тебе справки… Как думаешь жить? Разумеется, злоупотреблять гостеприимством ты не намерена?
– Пожалуй, вернусь на хутор. Я до сих пор не сделала отметки в паспорте.
– И правильно поступила! С тобой, дочерью чекиста и членом горкома комсомола, церемониться в полиции не станут. Какая-то сволочь передала списки. Володю Кравченко помнишь, секретаря с шорного завода? А Голеву Аллочку? Ее отец тоже служил в НКВД. Оба безвестно канули в гестапо. И таких примеров множество.
– Значит, мне нужно немедленно уезжать.
– Прятаться? Отсиживаться? – с нескрываемым возмущением воскликнула Дора Ипполитовна и откинулась на спинку дивана. – Судьба Родины висит на волоске. Твои родители в Красной Армии. А ты хочешь остаться безучастной? Это, милая моя, похоже на предательство!
– Я… я согласна с вами, – стушевалась Фаина. – Но каким образом могу быть полезной?
Лясова сделала внушительную паузу.
– Разумеется, я тут не в гостях… Готова ли поклясться, что сказанное останется в этой комнате?
– Клянусь. Во имя дела Ленина и Сталина не пожалею жизни! – с пафосом воскликнула Фаина.
– Ну, этого пока не требуется. Ты молода. У тебя многое впереди… Ты спрашивала: чем можешь помочь? Я и другие товарищи оставлены для подпольной работы. Такова воля партии. А это – железный закон. Не жалея сил, мы должны бороться с фашистскими извергами. Сообща приближать победу…
– Я хочу быть с вами!
– Вместе с нами нужно не «быть», а действовать! Это разные вещи. Подполье – предельный риск. Случайная ошибка, расхлябанность и – провал… Ты способна общаться по-немецки?
– В пределах школьного курса.
– Надеюсь, роман Чернышевского не забыла? Рахметов осваивал языки, штудируя книги со словарем. Это же предстоит тебе, – заключила Дора Ипполитовна тоном, не допускающим возражений, и добавила: – Хорошо бы еще раздобыть скрипку.
– Она со мной.
– Вот как? Умница! Разучи, хотя бы на память, песенки Козина, Утесова, Юрьевой. Ну, все это мелкобуржуазное дрянцо.
– Для чего?
– После узнаешь.
На прощание, вручив Фаине томик Томаса Манна со штампом краевой библиотеки и немецко-русский словарь, Лясова ободрила:
– Духом не падай. Одну в беде не оставим. Занимайся. Офицеры не пристают? Ты девица смазливая… Смело вступай с ними в разговор, развивай навыки. И все, что поймешь, старайся запомнить. Встретимся, пожалуй, дня через три…
Запись в дневнике Клауса фон Хорста.
«Берлин. Гостиница при рейхсканцелярии. 29 сентября 1942 г.
По заданию генерала Иодля вчера я прилетел в столицу, отпраздновавшую двухлетие подписания пакта трех держав, и с величайшим трудом добился аудиенции у шеф-адъютанта фюрера генерала Шмундта, который одновременно возглавил управление кадров сухопутных войск после отставки Гальдера. Управлению кадров передано также ведение дел на всех офицеров генштаба сухопутных войск (назначение на должности, присвоение очередных званий и т. д.). По мнению большинства наших офицеров, Гальдер отстранен в связи с тем, что пытался убедить фюрера отвести дивизии с Кавказа и Волги, сузить фронт. Не обошлось, вероятно, и без интриги Кейтеля. Он не в самых хороших отношениях с моим шефом, генералом Иодлем. Слышал о его разногласиях с другими генералами. Новым начальником генштаба сухопутных войск назначен Цейтцлер. Будучи начальником штаба группы армий «Запад», он, как свидетельствуют некоторые офицеры, чаще всего пребывал в своем фешенебельном парижском отеле и не имеет достаточного боевого опыта. Гальдер находился на должности ровно четыре года. С его именем связаны многие победы вермахта. Потеря, на мой взгляд, весьма существенная. Впрочем, только фюрер вправе давать оценку тому или иному человеку…
Предметом моего разговора с Шмундтом была озабоченность штаба оперативного руководства, ее начальника, тем, что с каждой неделей возрастает разница между количеством убывающих сил и пополнением в группах «А» (Кавказ) и «Б» (Сталинград). Только за август мы потеряли там 132800 человек, а пополнились войсками в численности около 37000 солдат и офицеров. Директива фюрера от 12.9.1942 г. предписывает создание 42 дивизий (фактически новой армии) для ведения войны на Востоке. Кроме того, находившиеся до сих пор на Западе семь танковых и моторизованных дивизий также будут направлены в Россию. Но это предполагается осуществить лишь в начале будущего года. Поэтому дополнение фюрера к директиве, предписывающее военно-воздушным силам в ближайшее время передать в действующую армию подразделения и части общей численностью 200 тысяч человек, генералом Иодлем и штабом было воспринято с одобрением. Ни у кого не осталось сомнения в том, что должным образом не были подготовлены материальные и людские ресурсы для пополнения войск и не было обеспечено поддержание их боевой мощи в ходе наступления на Кавказ и Сталинград. Из-за этого силы и средства более не находятся в оптимальном соотношении. Атакующий порыв наших войск ослаб. И если бы 100 тыс. человек, частью с эшелонами запасников, частично в виде пополнения пехотных батальонов, изымаемых из дивизий на Западе, были немедленно переброшены в группы армий «А» и «Б», стратегическая ситуация на Кавказе и на Волге сразу бы улучшилась!.. Но наша радость была кратковременна. Фюрер отменил свое дополнение к директиве. Сухопутным войскам не передаются подразделения ВВС. Вместо того начнется формирование 20 авиаполевых дивизий. Для их создания, увы, потребуется несколько месяцев! В то время, когда каждый день может оказаться решающим…
Генерал Шмундт уклонился от обсуждения мероприятий, связанных с увеличением количества резервов для действующих в Южной России армий. Он повторил то, что уже известно из приказов фюрера. Неопределенность боеспособности и численности войск в предстоящие месяцы не позволяет нашему штабу вести полноценное планирование оперативных действий на Кавказе и у Сталинграда. Досадно, что в окружении фюрера имеются люди, которые думают только о собственных амбициях. Вероятно, рейхсмаршал Геринг отговорил фюрера от прежнего решения…
После двух месяцев работы в ставке на многое я стал смотреть другими глазами. Сегодня вечером мы долго спорили с братом. Он занимается разработкой политики рейха на оккупированных землях. Со слов Рихарда, секретный план «Ост», одобренный руководителями рейха, предусматривает долгосрочные преобразования на славянских территориях. Полное истребление русского народа отклонено. И по экономическим и, естественно, по политическим соображениям. Согласен я и с тем, что нужно произвести дробление территории, населяемой русскими, на отдельные районы с собственными органами управления, чтобы обеспечить в каждом из них обособленное национальное развитие. Например, Сталин искусственно размежевал, перекроил казачьи области. И эти бесстрашные воины-дикари присмирели! В качестве средства общения пригоден только немецкий язык. Что же касается ослабления русских в расовом отношении, то у нас с братом расхождения. Он считает, что население России должно состоять, в основном, из людей примитивного полуевропейского типа, так как эта масса глупцов и лентяев нуждается в жестком руководстве. Если удастся избежать сближения с русским населением и предотвратить влияние арийской крови на русский народ через внебрачные связи, то германское господство в этих районах будет обеспечено. Однако, по моему мнению, смешение немецкой и русской крови вполне допустимо! В том случае, если русская особь отличается высокими умственными способностями. В конечном счете, это будет на пользу Германии. Прогресс нации невозможен без усиления интеллектуального потенциала. Более того, следует выискивать среди русского населения самых одаренных, умных людей, молодежь, и всячески использовать для интересов рейха. Рихард ратует за то, чтобы подрыв биологической силы русского народа осуществлять крайними мерами: стерилизацией, снижением медицинской помощи, применением противозачаточных средств, расширением сети абортариев, запрещением большого количества детей. Этой точки зрения, как он утверждает, придерживаются и Розенберг, Гиммлер, сам фюрер. Я же полагаю, что такая политика, направленная на доведение рождаемости русских до более низкого уровня, чем у немцев, бесперспективна. Сейчас немецкие солдаты и офицеры проливают кровь для того, чтобы в будущем их потомки построили государство, где царить будут счастье и достаток, где каждый займется любимым делом и саморазвитием. Обеспечивать их и обязаны покоренные народы! Если следовать доводам Рихарда и этого плана «Ост», то в один прекрасный момент сгинет последний русский, поскольку рождаться их будет все меньше и меньше. Нелепость! Достаточно просто ограничить число детей. К карательным мерам прибегать не следует…
У брата, к сожалению, как и у многих берлинцев, искаженное пропагандой представление о ходе боевых действий на Востоке. Они ждут победы на Волге со дня на день. Еще более наивны их рассуждения, касающиеся Кавказа. Как будто для того, чтобы завоевать его, нужно всего-навсего перебраться через гору… Очень разочарован я своей поездкой. Все старания убедить Шмундта увеличить контингент войск в группах армий «А» и «Б» оказались безрезультатными.
Нервный срыв после сегодняшних аудиенций, разговора с Рихардом. Он стал грубоват и заносчив. От моих расспросов о здоровье матушки, о положении дел в имении постоянно уклонялся. Дозвониться домой, в Линдендорф, невозможно, поскольку англичане разбомбили линию телефонной связи. Полчаса назад, перед тем, как я стал записывать в дневнике, была воздушная тревога. Непривычно звучали здесь, в столице, нарастающие звуки сирен. Затем – пальба зенитных орудий, взрывы. К счастью, налет был непродолжительным. В прошлую ночь уснул часа на три. Сегодня вряд ли смогу. Крайне неприятное состояние от ощущения собственной правоты и беспомощности! Я – офицер оперативного штаба, поэтому и думаю о предстоящих боях. При отсутствии резервов и дополнительных средств только воля Провидения может принести нам победу на Кавказе и под Сталинградом…
В последнее время с трудом переношу одиночество. От мысли, что мой милый мальчик Мартин может стать жертвой английской бомбардировки, леденеет кровь! Погибнуть я не боюсь, но страшусь того горя, которое причиню близким, особенно любимой матушке. Все мы во власти бога!
Мысленно обращаюсь в прошлое. Безмятежное детство в Линдендорфе. Романтические школьные годы, увлечение живописью и ваянием. Студенчество. Упоительное изучение истории архитектуры. Встреча с Луизой. Два года жительства в благодатной сельской тишине… А потом – вступление в партию, утверждающую национал-социализм, учеба в офицерской школе, фанатическая вера в фюрера и его идеи! Почему так случилось? Потому, что позор версальского мира тяготел над Германией. А коммунисты пытались ввергнуть страну в хаос. Потому, что мы, немецкие дворяне, нуждались в вожде, который бы снова объединил нас и заставил забыть прежние распри… Впрочем, многие надежды не сбылись. Как заметил Мефистофель, «я не всеведущ, я лишь искушен».
Первая, медовучая ночка вымотала Лидию без остатка. Точно стараясь разубедить жену в тревоге за его здоровье, Яков был ненасытен. Только лишь под утро забылись они в сладостной истоме. Лидия очнулась первой. И затаилась, слушая, как размеренно и сильно стучало сердце родненького, любимого. Расслабленное кольцо рук, обнимавших ее, волновало упругостью и крепостью мускулов. Вдохнув запах волос и кожи на его груди, тихонько спросила:
– Спишь?
– Так, вполглаза…
– Яш, а я твоей одеждой дышала. Рубашку шерстяную прятала, чтоб мать не постирала. Возьму украдкой и нюхаю…
– А я тайком на твою фотокарточку смотрел. Хлопцы у нас – зубоскалы…
– Слава богу, дождалась. Сколько бы потребовалось, столько бы и ждала… Надежда, она как огонечек, в душе. С ней можно все снести.
– Я ненадолго, Лида. Отсиживаться не по мне…
– Как это? – Лидия встревоженно приподняла голову. – Разве ты не насовсем? Не пущу! – Она провела ладонью по темнеющим кровоподтекам на ребрах, потрогала твердый рубец под правой ключицей мужа. – Весь израненный, контуженный… Моя ж ты болечка! И опять на фронт?!
– Нужно еще окрепнуть. На хромой ноге далеко не уйдешь. Ты о партизанах ничего не слышала?
– Слышала. В Бунако-Соколовке старосту убили.
– Да? Молодцы! То же самое и отца ждет…
– Чему ж ты радуешься? Опомнись!
– Фашистского предателя больше я отцом никогда не назову! Он не только себя, но и мать, и меня, и Федьку навек опозорил! Вражья у него закваска, кулацкая. Я подумал, что в лагере перевоспитали. Нет! При первой возможности к фашистам переметнулся!
– Зря ты так, Яша. Ненависть тебя ослепила. Старостой его всем хутором избрали. Пойми. Не самовольно пошел. Старики выдвинули!
– Не защищай! Надо же, повели бычка на веревочке… На передовой красноармейцы в полный рост на пули идут, а он гитлеровской сволочи не мог сказать «нет»?
– Может, растерялся… А если бы чужого назначили? Тот бы из нас веревки вил. Возьми Шевякина или Звонарева. Горсточку зерна, и ту не разрешают унести. Следят. Трудодней лишают. А отец наш – он другой. И увидит, не покажет.
– Пустое толкуем.
– Нет, ты несправедливо рассуждаешь. Я как уважала отца, так и уважаю. Сердцем он чистый. Ради людей взвалил на себя такую обузу… Тебя тоже ведь дезертиром считают. Сегодня вечером, когда я корову из стада гнала, Верка Наумцева так и спросила: «Говорят, твой Яшка домой сбежал?»
– Наполовину она права. Только я – не дезертир! И не собирался я сюда! – Яков отстранил жену, слез с кровати и, нашарив на столе кисет и обрывки бумаги, стал скручивать цигарку. Прикурив, нагишом сел на стул.
Предвестник зари – разгулялся ветер. Временами со двора доносился закипающий листовой переплеск. Непонятные, случайные звуки настораживали. Лидия не смогла побороть слез. Прежде, одинокими ночами, в дурной истоме, хотелось исцеловать Якова до каждой клеточки. Вот исцеловала. А душа не унималась, не слушалась опустошенного ласками тела, забываясь в настоящем, – впереди ждали новые испытания…
– Яш, родненький, ты как будто не договариваешь, – решилась Лидия, подперев голову ладонью. – Как это не собирался?
– Что-то непонятное со мной приключилось, – скорым шепотом ответил Яков. – Как ни ломаю голову – не соображу. Там, в горах, я несколько раз терял сознание. Может, с ума сошел?
– Бог с тобой! Ты в здравом рассудке!
– Не шуми. Сегодня, какое уже число?
– Среда наступила. Девятое.
– Правильно. А вчера… Короче, я не знаю, как в хутор попал. Утром просыпаюсь и – глазам не верю! – вполголоса частил Яков. – Аж мороз по коже продрал. Лежу на ворохе соломы в Горбатой балке, напротив Ключевского. И в теле небывалая легкость, знаешь, как бывает, когда с кручи прыгаешь. Вечером был еще на Кубани, от полицаев убегал. За полтыщи километров! А очнулся – здесь… Только ты никому не болтай! А то, действительно, примут за сумасшедшего.
– Я думала, что-то страшное. А такое бывает, – с нарочитым спокойствием подхватила Лидия. – Находит затмение, и не помнишь: что делал, где шел. Ты, скорей всего, дни перепутал. Я и сама иной раз…
– Нет, тут иное. Неужели я несколько дней был без памяти? Никогда не боялся, а сейчас как-то не по себе… Слушай, может, громом меня оглушило? Как раз, помню, надо мной туча нависла. А неподалеку, допустим, сделал вынужденную посадку наш самолет. Летчик подобрал меня. Я сгоряча назвал ему хутор и ориентиры…
Это предположение даже Лидии показалось наивным. Стал бы военный пилот везти солдата на побывку в глубь вражеского тыла? И, стараясь унять волнение Якова, хотя и сама обеспокоилась, ласково сказала:
– Ты, Яшенька, об этом лучше не думай. Много мы знаем, да мало понимаем. Фаинка, что жила у нас, в домового не верит. А я сколько раз слыхала его шажищи… Главное – ты вернулся. Как наш сыночек обрадовался! – перевела Лидия разговор. – Заметил? Стал на тебя похож. Дед Тихон казачьему уставу его обучает. С коня не снимешь! Весь в тебя!
Яков замял окурок на блюдце и снова прилег. Лидия обцеловала его лицо, прижалась и судорожно вздохнула:
– И за что нам горе такое? Война эта проклятая? Все перевернула вверх дном. В других семьях жена с мужем – как кошка с собакой. А нам бы жить да детишек рожать… Ой, а немцы тебя не арестуют?
– Откуда мне знать.
– Кучерова Лешку, когда он вернулся, в полицию вызывали, в Пронскую. И отпустили… А за тебя отец заступится.
– И без него обойдусь!
– Не зарекайся, Яша. Других судить легко…
Яков вышел в посветлевший двор. По ветреному небу – сизая наволочь. С качающихся веток осокоря спархивали золотистые листы. Сухо шелестя, как обрезки фольги, ворохом сбивались у ворот. Пахло по-хуторскому волнующе и бестолково: поздними цветами, печным дымом, навозом, дегтем, пшеничной соломой. На надворном столе лежал отполовиненный арбуз с воткнутым в алую мякоть ножом. Яков отхватил скибку и с жадностью съел ее, сплевывая на спорыш крупные семечки. Вспомнилось детство. Промелькнуло светлым видением. Все вокруг было знакомым и прежним, и единственно родным на Земле. За этот кусочек огороженной степи, за живущих на нем близких людей он жизнью рисковал на фронте! От этой мысли снова ворохнулась в душе обида на отца. Но первоначальной злобы почему-то уже не испытывал. Путано, не сразу раздумья привели к выводу, что и отец, выходит, по-своему старался уберечь родной двор и помочь хуторянам. Выжить сообща в годину оккупации, – не ради этого ли решился на отчаянный поступок? Решился, наверняка зная, что обратной дороги нет… Невзначай Якову подумалось, что казаки, в отличие от прочих частей, потому так яростно сражались с немцами, что ощущали соседство своих подворий, притяжение милых сердец. Ясное представление о разграбленном хуторе или станице наполняло сердца ненавистью. Не витиеватые речи политруков, а месть за родных толкала в бой. Но этому комиссары находили собственное объяснение. И получалось, что станичники бились не ради спасения рода своего, а за то, чтобы отстоять социалистический строй. «Нет, все же дело не в идеях, – твердо осознал Яков, – а в том, что связывает каждого с землей. Мне все равно, какие идеи у немцев. Они пришли, чтобы захватить нашу землю, заневолить народ. И я буду убивать их до тех пор, пока здесь не останется ни одного гада!»
На забазье заржала отцова лошадь. Яков подошел к ней. В яслях – как подмели. Оглядел неказистую трудягу: короткие бабки, вислый живот, покривленная шея. От колодца принес ведро воды и наблюдал за лошадью, пока она пила, подрагивая опененными углами рта. Вспомнился Цыганок! И долго не мог отрешиться от думок о товарищах-эскадронцах…
Только во второй половине сентября окончательно решился вопрос о поездке представителя «Казачьего национально-освободительного движения» в родные места. Павел Шаганов вновь был вызван в Берлин, в кавказский сектор Восточного рейхсминистерства. И спустя неделю, получив также поручение встретиться в Кракове с руководством землячества, отправился в дальнюю дорогу.
Остановка в старой польской столице заняла день. И, купив билет на экспресс «Берлин – Киев», казачий есаул в мундире лейтенанта вермахта занял место в купе спального вагона. Его соседом оказался немецкий инженер-металлург, направляющийся в Кривой Рог. Лысый, толстенький и болтливый, он быстро надоел своей трескотней, россказнями о победах над красавицами-украинками. Сославшись на усталость, Павел забрался в постель. Первоклассный вагон, отделанный бархатом и палисандром, был радиофицирован. Из динамика бесконечно гремели бравурные марши. Наконец, диктор объявил, что сейчас будет транслироваться собрание из берлинского Спортпаласа, посвященное началу «кампании зимней помощи». И вслед за торопливыми словами послышался ликующий рев толпы и овации.
– Герр лейтенант! Сейчас будет говорить фюрер! – воскликнул толстяк, дожевывая кусок ветчины, пряный запах которой прочно устоялся в купе.
– Да, я слушаю.
– Не желаете польской водки? За здоровье фюрера…
– К сожалению, на диете. Катар желудка.
– Вы не пробовали лечиться прополисом? Великолепное средство! Настаивается на спирте. И принимается по тридцать капель трижды в день. Мой коллега по концерну таким способом излечился буквально за месяц. Настоятельно советую!
– Благодарю. Как-нибудь после войны…
Гитлер, приветствовав фельдмаршала Роммеля, «победителя Африки», продолжал, временами заглушаемый аплодисментами, свою тщательно продуманную речь.
– Мои германские соотечественники и соотечественницы! Уже прошел год, когда я в последний раз говорил с вами. Время мое, к сожалению, более ограничено, чем время моих врагов. Кто может неделями путешествовать по свету в широкополой шляпе и в белых шелковых рубашках или в других костюмах, тот, конечно, будет иметь много времени заниматься речами. Я же должен заниматься делами. То, что сказано сегодня, будет подтверждено делами наших солдат!
Мы твердо уверены, что враг будет окончательно разбит. Мы не можем, понятно, сравнивать свои «скромные» успехи с успехами врага. То, что мы продвинулись на тысячи километров, для него это ничто. Если мы, например, продвинулись к Дону, достигли Волги, окружили Сталинград и, безусловно, возьмем его, – это тоже «ничто». Если мы продвинулись на Кавказ, заняли Украину, овладели донецким углем – это все «ничто». Если мы получили 60 процентов советского железа – это тоже «ничто». Если мы присоединили величайшую в мире зерновую область к Германии и Европе – тоже «ничто»! – Гитлер сорвался на крик. – Если мы овладеем источниками нефти, это тоже будет «ничто»! А вот если канадские войска с маленьким, в виде приложения, английским хвостиком, появляются в Дьеппе и там едва удерживаются, чтобы, в конце концов, быть уничтоженными, то это якобы ободряющий, достойный удивления признак безграничной и победоносной силы английского империализма! Что в сравнении с этим авиация, наши бронетанковые и инженерные войска, железнодорожно-строительные части и так далее…