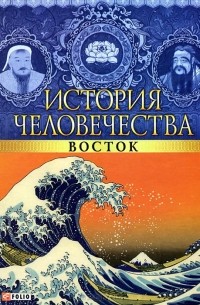Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
История забытого народа
Для владельца любой современной энциклопедии не составит большого труда узнать, что хеттами называют племена и народности, жившие в центре и на востоке Малой Азии во II–I в. до н. э. О хеттах упоминали египетские, ассирийские, вавилонские тексты. Судя по этим сообщениям, держава хеттов была могучей соперницей великих держав древнего мира.
«Вот идет побежденный владыка хеттов, вместе с царями из других стран, которые идут с ним, которых он силой ведет с собой из тех стран, что на территории хеттов… Вооружены они войсками, воинами на боевых колесницах, оружием, больше их, чем песчинок на берегу. Смотри, вот стоят они, готовые к битве, под Старым Кадешем».
Так говорили фараону Рамсесу II двое пленных из сторожевого отряда хеттской армии перед битвой у города Кадеш, в Сирии. Фараон был ошеломлен. Ведь ему донесли, что царь хеттов Муваталлис со своим войском отсиживается в окрестностях Халпы (теперешнее Алеппо) и не осмеливается продвигаться на юг, боится идущих на север войск фараона. Фараон немедленно созвал военный совет. Но было уже поздно.
«В то время как его царское величество совещался с сановниками, побежденный, презренный владыка хеттов приблизился со своим войском, воинами на повозках и сопровождающим его множеством чужеземных народов. Они переправились через находящийся на юге от Кадеша канал, прорвались между отрядов его царского величества, которые, находясь в походе, об этом не знали. Отряды и воины на боевых повозках его величества бежали от них на север, где находился его величество. Тогда вражеские отряды побежденного владыки хеттов окружили свиту его величества, находившуюся подле него…»
Отчет об этом походе был написан в Египте, во славу фараона, поэтому называется в нем царь хеттов презренным и побежденным, даже тогда, когда как раз одерживает победу. В действительности же не был он побежденным ни до, ни после битвы у Кадеша, которая, после того как фараону посчастливилось вырваться из окружения и даже хватило сил перейти в наступление, закончилась чем-то вроде ничьей. После этого враждующие стороны заключили соглашение; т. е., по словам египетских писцов, «великодушный, милостивый» Рамсес II, «продвигаясь к югу, протянул руку в знак мира».
Кадешская битва была одной из самых крупных попыток Хеттского государства и Египта померяться силами. Хетты, судя по дошедшим до нас сведениям, атаковали двумя с половиной тысячами боевых повозок, «с различными воинами бесстыдной страны Хатти и многих ее союзников из Арадоса, Педеса, Кешкеша, Ируна, Киззувадана, Хереба, Икерета, Кадеша, Реке. По трое стояли на повозках воины…»
Хеттское царство просуществовало более тысячи лет, и даже после его разгрома в небольших государствах, возникших на его развалинах, жили хеттские традиции. Между тем, еще 150 лет назад наука не знала о хеттах ничего.
В 1902 году норвежский ученый Кнудсон заявил, озадачив весь научный мир, что им открыт новый, доселе неизвестный индоевропейский язык. Он утверждал, что обнаружил его на двух глиняных табличках с клинописью, найденных пятнадцать лет назад в Египте, в Эль-Амарне, среди дипломатических документов времен фараона Эхнатона (1379–1362 гг. до н. э.) и его отца Аменхотепа III (1417–1379 гг. до н. э.). Поскольку одна из табличек была обращена к царю доселе неизвестного государства Арцава, язык получил название «арцавского». Гипотезу Кнудсона о том, что это один из индоевропейских языков, несмотря на приведенные аргументы, современники встретили с большим недоверием. Но было известно, что в Богазкёе (центральная Анатолия, Малая Азия) найдены отдельные фрагменты табличек с надписями на том же языке. В 1906 году там начались активные раскопки, и вско ре был обнаружен целый архив из тысяч глиняных табличек, многие из которых содержали надписи на «арцавском» языке.
Еще в середине XVIII века английский путешественник Мондрелл обратил внимание на то, что на территории нынешней Сирии вблизи Харрана – города, расположенного в излучине Евфрата, встречаются камни, испещренные какими-то неведомыми знаками. То, что камни эти древние, а письменность – иероглифическая, очевидно. Но чья это письменность? Что означали диковинные знаки, не похожие на египетские иероглифы? Судя по находкам, создатели этих иероглифов некогда населяли Северную Сирию примерно там, где Евфрат делает петлю, круто сворачивая на юг. Это был район двух древних городов – Харрана и Каркемиша. Если первый существует и сейчас, то местонахождение Каркемиша, упоминаемого в Библии, долгое время оставалось загадкой.
В 1876 году английский ученый Джордж Смит начал поиски древнего города. Руководствуясь указаниями ассирийских глиняных табличек, он добрался до холма Джераблус в Двуречье, где находились какие-то древние руины. Смит успел исследовать их и понять, что перед ним – не что иное, как развалины Каркемиша. Он подробно описал гигантские руины и загадочные иероглифы, которые нашел здесь. Через несколько месяцев Смит умер от холеры, и только в 1911 году стало окончательно ясно, что Смитом найден Каркемиш – город, располагавшийся на южном рубеже одного из самых загадочных государств древности.
В 1870-х годах наука не имела никакого представления о хеттах. А между тем об этом народе упоминали египетские, ассирийские, вавилонские тексты. Из них следовало, что хетты были могучим народом, что их государство являлось грозным соперником Египта, что в середине XI века до н. э. оно было великой державой Востока.
Но кто такие хетты? Где находилось их государство?
В 1903 году вышла книга английского языковеда Сейса «Хетты, или история забытого народа». В ней Сейс заявил, что все или почти все древние монументы и надписи, найденные в Северной Сирии и в Малой Азии, имеют хеттское происхождение. Сейс обратил внимание археологов на то, что таинственные иероглифы хеттов встречаются не только в Сирии, но и в северных областях Малой Азии, в том числе на скалах Язылыкая, близ деревни Богазкёй, расположенной в 150 км к востоку от современной столицы Турции Анкары.
Турецкое название Язылыкай означает «расписанные скалы». Здесь, среди нагромождений камней и горных расселин, сохранились высеченные на скалах изображения богов, крылатых демонов, воинов в островерхих шапках и вырезанные на камне иероглифы – знаки неведомого древнего языка. А рядом, на окраине забытой богом турецкой деревушки, заросшие кустарником холмы скрывали развалины огромного города…
Еще в 1882 году Отто Пухштейн, будущий глава немецкого Археологического института, составил план руин Богазкёя. Но только в 1906 году другой немецкий археолог, Гуго Винклер, начал здесь систематические раскопки. И одной из первых его находок стало письмо на глиняной табличке, написанное на вавилонском языке: письмо фараона Рамсеса II Великого, адресованное хеттскому царю Хаттусилису II о договоре между египтянами и хеттами, заключенном после битвы при Кадеше.
За этой находкой последовали другие. Вскоре в руках Винклера оказался весь хеттский государственный архив. Сомнений больше не было: Богазкёй – столица древней Хеттии, легендарный Хаттушаш, укрытый в горах Анатолии…
Весть об открытии Винклера облетела всю мировую печать. Более 15 тысяч глиняных табличек с клинописными надписями на хеттском, аккадском и других древних языках Азии, найденных в развалинах Хаттушаша, оказались хрониками, сводами законов, договорами, астрологическими предсказаниями, шумерско-аккадско-хеттскими словарями и т. д. Эти документы дали ценнейшие сведения о цивилизации, существовавшей на территории Анатолии еще в III тыс. до н. э.
Исследования показали, что в XVII–XIII вв. до н. э. город Хаттуса являлся столицей обширного и богатого царства, которое соперничало с Египтом за господство в Передней Азии. С ростом могущества хеттов город достиг площади свыше 121 га. С трех сторон он был окружен массивной оборонительной стеной циклопической кладки, с четвертой стороны естественной границей города являлась неприступная скальная гряда. Из пяти городских ворот трое были украшены монументальными рельефами с изображениями бога-громовержца («царские ворота»), львов и сфинксов («Львиные ворота»). Особенностью ворот Хаттусы была арка из двух циклопических монолитов.
Сам город состоял из двух частей – верхней и нижней, разделенных каменной крепостной стеной. На высокой скале была сооружена цитадель. В верхнем городе располагались многоколонный царский дворец с большим парадным залом и храмы, посвященные различным богам. Самый значительный из храмов был сооружен в честь бога ветров и бурь. Он имел длинный внутренний двор, на который выходила колоннада, украшавшая зал святилища. В ярко освещенном помещении храма стояла статуя грозного божества.
Сейчас факт существования одной из могущественных цивилизаций древности не вызывает сомнений. Хеттское наследие напоминает искусную мозаику, рассыпанную на Анатолийском плоскогорье: чем больше фрагментов собрано, тем больше остается собрать. Понятен хеттский язык – расшифровано несколько сот письменных памятников, относительно известно их мироустройство: государственный уклад, семейные отношения, есть информация о том, во что они верили, к кому обращали свои молитвы, с кем воевали и дружили, как умели ваять, рисовать, что выращивали и что ели на обед.
Но кто были их предки? О них ли – о «хеттеях» и «хеттеянках» – упоминается в Ветхом завете? Откуда пришли они в Анатолию, действительно ли разгромивших хеттов мушков можно считать их наследниками?
Вопросов много. Но даже при таких белых пятнах жители исчезнувшего царства оказались для хеттологов, в общем-то, достаточно щедрыми: из многих сотен хеттских деревень и городов около десятка уже раскопано и исследовано.
Итак, хетты. Регион обитания – Анатолийское плоскогорье на полуострове Малая Азия. Время – XVIII–XII в. до н. э. Форма государственности – царство с «неабсолютной монархией». Язык – индоевропейский. Предки – неизвестны. Этническая родина – неизвестна. Потомков нет.
Если говорить о предыстории, то на месте образования Хеттского царства в IV–III тысячелетиях до н. э. проживало несколько десятков народов. В горах и лесах Причерноморского Тавра от устья реки Галис и по направлению к Западному Закавказью жил народ каска, или каскейцы. Южнее каска, в излучине реки Галис и к югу от нее жили хатты. Впервые под таким именем они упоминаются в XXIII в. до н. э. Их не следует смешивать с собственно хеттами: название «хатты» относилось первоначально к жителям города Хатти (по-хаттски), или Хаттусы (по-хеттски). Язык хаттов известен по записям религиозных обрядовых текстов в найденных дворцовых архивах Хеттского царства. Хеттские писцы, записывавшие эти тексты и часто даже приводившие их хеттский перевод, сами-то хаттского языка, вероятно, уже не понимали, и их записи, скорее всего, просто неточны. Кроме того, система клинописи в том виде, в каком она применялась для записи хаттских текстов, совершенно не приспособлена для передачи звукового состава хаттского языка. Она позволяет различать только 13–14 согласных, хотя в хаттском их было несколько десятков. Поэтому до сих пор было невозможно восстановить звуковую систему хаттского языка, а это делало невозможным и решение вопроса о его принадлежности к определенной языковой семье.
Южнее хаттов, в горах Малоазийского Тавра и к северу от него, жили лувийские племена, а в долине верхнего Евфрата уже с III тысячелетия до н. э. проживали хурритские племена. Эти племена говорили на неиндоевропейских языках. Хатты, а также хурриты создали в Малой Азии на рубеже III–II тысячелетий до н. э. такие города-государства, как Пурусханда, Амкува, Куссара (Кушшар), Хатти, Каниш, Вахшушана, Мама, Самуха и многие другие. Они заключали соглашения с чужеземными торговцами, вели между собой войны и вступали в союзы. От ашшурских торговцев они восприняли особую разновидность клинописи и ашшурский диалект аккадского языка, которым пользовались в своей официальной переписке.
По мнению некоторых исследователей, первые носители индоевропейских языков появились в этом районе в III – начале II тысячелетия до н. э. Но откуда и каким образом эти племена пришли на территорию древней Анатолии – до сих пор невыяснено.
Случайные обстоятельства развития истории науки привели к тому, что вокруг терминов «хетты» и «хеттский» возникла большая путаница. Еще в XIX веке было обнаружено, что в египетских источниках времен Нового царства (XVI–XIII вв. до н. э.) в качестве главного врага Египта в Палестине и Сирии называется царство «ht» (условное чтение – «Хета»). Это название было сопоставлено с названием одного из народов Палестины, упоминаемого в древнееврейском тексте Библии под именем хитти. В различных европейских переводах Ветхого завета это название передавалось как Chetaioi (по-гречески), Hittites (по-английски), Hethiter (по-немецки), хетеяне, хеттеяне (по-русски). Тогда же, в XIX веке, этот термин был обнаружен и в ассирийских надписях I тысячелетия до н. э. в форме «мат-Хатти» – «страна Хатти». Так называли ассирийцы все области к западу от большой излучины Евфрата, включая сюда Малую Азию, Сирию и Палестину. Естественно, что Хеттское царство стали искать в Сирии. Поэтому, когда в конце XIX века в Сирии и юго-восточной части Малой Азии стали находить надписи, сделанные посредством особого иероглифического письма, отличного и от клинописи, и от египетских иероглифов, его приписали предполагаемому народу той великой державы, которая соперничала в Сирии с Египтом, т. е. народу царства «Хеты» – хеттам.
В 1915 году чешский ученый Б. Грозный расшифровал хеттские клинописные тексты и доказал принадлежность хеттского к индоевропейской семье языков. Действительно, его слова близки не только греческому и латинскому, но даже немецкому и английскому. Например: хеттское Vatar соответствует немецкому Wasser, английскому Water и русскому Вода; хеттское Petar – немецкому Feder, английскому Feather и русскому Перо. Правда, многие другие слова стоят ближе к кельтскому языку или вообще не находят параллелей.
Открытие Грозного стало сенсацией, и за короткое время появилось громадное количество серьезной научной литературы, в которой этот язык обозначался как «хеттский». Но в 1919–1920 годах швейцарцем Э. Форрером и тем же Б. Грозным было установлено, что так называемые хетты обозначали термином «хеттский» только свое царство – по его столице Хатти, или Хаттусе, основанной, однако, не ими, а народом хатти, который им предшествовал; свой же собственный язык они называли «неситским»; а подданные Хеттского царства сами себя считали «хеттами» вне зависимости от языковой принадлежности. Таким образом, за более древним народом хатти оставили обозначение хаттов, «неситский» же язык продолжают называть «хеттским», а его носителей – «хеттами».
Одновременно выяснилось, что в богазкёйском архиве, помимо документов на индоевропейском «хеттском» («неситском») и «хаттском» («протохеттском») языках, содержались еще и письменные памятники на шумерском, аккадском и хурритском языках. Были тексты и на двух родственных «хеттскому» языках – палайском и лувийском; из них на первом говорили в северной части Малой Азии, а второй был распространен по всему югу полуострова. Возможно, существовали и другие древнеанатолийские языки, не зафиксированные письменно.
Оставался еще вопрос о «хеттских» иероглифах Сирии и юга Малой Азии. Они были прочитаны лишь в 40—50-х годах XX века. Наиболее древние тексты, написанные этими иероглифами, и сейчас непонятны, но более поздние (XIII–VIII вв. до н. э.) написаны на диалекте лувийского, отличающемся от «лувийского клинописного» архивов Богазкёя. Вероятно, жители Царств, пользовавшиеся этой иероглифической письменностью, сами себя, как и «неситы», тоже называли «хеттами», и точно так же их называли их восточные соседи на Армянском нагорье и в Месопотамии.
Таким образом, вопрос происхождения того народа, который сейчас называют хеттами, очень сложный даже с точки зрения исторических понятий. Термин «Хатти» может обозначать: 1) город на месте нынешнего городища Богазкёй – Хатти, или Хаттуса, по-аккад-ски Хаттуша; 2) местный народ, для которого этот город был центром до начала II тыс. до н. э., – «хаттов», или «протохеттов»; 3) державу, имевшую этот город своей столицей, а официальным языком – индоевропейский язык хетто-лувийской, или древнеанатолийской, ветви, так называемый «хеттский», или «неситский», а также население этой державы в целом, независимо от языка; эту державу в науке сейчас принято называть Хеттским царством, а всех ее жителей – хеттами; 4) государства, возникшие на руинах Хеттского царства с XII в. до н. э. («позднехеттские царства»), население которых тоже называло себя «хеттами»; 5) все население территорий к западу от Евфрата в первой половине I тыс. до н. э.
Существование же самого Хеттского царства относится к периоду 1750–1180 гг. до н. э. Три века в истории этого царства – с XVIII по XVI в. до н. э. – называют Древнехеттским периодом. Именно в это время, как считают многие специалисты, пришедшие в область Хатти индоевропейцы под условным названием «хетты» объединились с автохтонным населением – хаттами.
Что же представляло собой Хеттское царство в начале своей истории?
Верховную власть в Хеттском царстве представлял «великий царь», который в период расцвета государства был наделен божественным статусом и титуловался «солнцем».
Однако вначале цари хеттов не были такими всемогущими «великими богами», как владыки Египта, Вавилона или Ассирии. Они правили совместно с так называемым панкусом. Первоначально это было народное собрание всех воинов, но затем, по мере разрастания государства, оно превратилось в совет, включавший граждан-воинов столицы Хаттусы, а также всех мужчин – родичей царя и важнейших царских военных и административных должностных лиц, которые нередко также были его родственниками. Судя по всему, первоначально в полномочия именно панкуса входило избрание царя, вероятно, из членов одного определенного рода. Панкусом руководил совет – тулия, который представлял и защищал интересы родовой аристократии, в большей степени – членов царского рода: братьев царя, его сыновей и других родственников. Наследовал царю поначалу не родной сын, а усыновленный племянник – сын его сестры. Поскольку панкус и тулия весьма ограничивали власть царей, то на этой почве между ними нередко возникали разногласия.
Примечательно, что если царь умирал, а царица переживала его, то она сохраняла за собой титул царицы в правление нового царя, а супруга последнего называлась лишь «женой царя» и только после смерти вдовствующей царицы приобретала ее статус. Наибольшим наказанием для родственников царя была почетная ссылка, в которой они пользовались всеми благами, им выделялись дворцы, земли, скот.
Хеттское могущество было порождено разведением и содержанием лошадей. Те, кто пересел на повозку, на несколько голов стали выше простых людей, ходивших пешком. Тот, кто был большим господином, становился еще бóльшим, ибо у него хватало богатства держать свиту из вооруженных воинов на колесницах, с помощью которых он мог заставить подчиняться себе кого угодно в любых далеких землях.
Хетты были не первым народом, приручившим лошадей. А вот научиться этому искусству они могли у хурритов. Этот народ жил к юго-западу от Каспийского моря. Ученые предполагают, что именно они превратили лошадь во мчащегося с повозкой боевого коня, участника войн, решавшего исход сражений. В Богазкёе были найдены глиняные таблички с клинописным текстом почти в тысячу строк, написанным поселившимся в столице чужеземцем «Киккули из Земли Митанни». Весь текст посвящен тому, как разводить и приручать лошадей. В написанных на табличках советах предписывается семимесячный срок приручения. Митанни – государство, основанное хурритами и завоеванное хеттами. Хурриты же стали одной из составляющих многоцветной мозаики Хеттского царства.
Шествие богов подземного царства, барельеф, святилище Язылыкая
Ростом своего могущества хетты были обязаны не только лошадям и боевым колесницам, но и железу. Олово плавится при температуре 232 градуса по цельсию, медь – при 1083 градусах, железо – при 1530. Поэтому человек гораздо раньше, чем железо, научился плавить медь и, добавляя к ней олово, получать бронзу. Для этого достаточно было использовать в качестве мехов простую трубку, а тому, кто раздувал древесный уголь, – мощь собственных легких. Выплавить из железной руды чистое железо было делом более трудным: для этого требовалось сооружение для раздувания огня – мехá, которые можно было бы приводить в движение руками или ногами. Мы не знаем, кто и как додумался до того, что красновато-коричневые, темно-серые или другого цвета тяжелые «камни» скрывают в себе железо, «небесный» металл, который до того встречался лишь в виде упавших с неба метеоритов и ценился дороже золота и серебра. Но, по-видимому, первооткрывателем или, по крайней мере, первым производителем железа было одно из племен Малой Азии. Известно, что жители горной местности Киззувадана первыми начали строить железоплавильные печи и из выплавленного металла ковать оружие и орудия труда. Вскоре выяснилось, что новые боевое оружие и инструменты более крепки, прочны, чем бронзовые, и что делать их легче, дешевле и к тому же можно изготовлять в большом количестве. И все же внедрялось новшество довольно медленно.
Кузнецы Киззувадана не спешили делиться своими секретами с другими народами, а у господствовавших над ними царей Митанни, а затем Хеттского государства хватало ума самим пользоваться преимуществами, даруемыми железом. Торговать железом могли только доверенные царские люди, и когда отправлялись посольства в чужеземные страны, в качестве царского дара они брали с собой несколько выкованных из железа предметов. В гробнице фараона Тутанхамона, например, наряду с множеством золотых и серебряных изделий археологи нашли всего лишь 19 предметов из железа. Но и спустя сто лет после смерти Тутанхамона владыки Египта и Ассирии напрасно просили хеттских царей подедиться с ними железом. Все равно они не получали от них столько железа, сколько им хотелось. «Что касается железа доброго качества, о чем ты писал мне, – отвечал, например, на одно такое письмо царь Хаттусилис III (около 1275–1250 гг. до н. э.), – в настоящее время на наших киззуваданских складах доброго железа нет. Погода в данный момент не благоприятствует изготовлению железа. Оно еще не готово, однако как только будет изготовлено, пошлю тебе. А пока что посылаю тебе одно железное лезвие для меча».
Подлинной причиной этого вежливого отказа вряд ли была нехватка железа. Хеттские войска всегда имели в достатке железного оружия. С ним отправлялись они во все новые и новые грабительские походы, на охоту за людьми. «Когда я, Солнечное Светило, покорил всю страну Арцаву, – читаем мы в одной из царских годовых записей, – привел я в царский дом в качестве добычи людей, всего 66 000 человек. А сколько людей и скота всякого захватили военачальники, воины и колесничие – и сосчитать было невозможно».
Жители покоренных долин платили хеттам дань зерном, соломой, шерстью, скотом, дровами, сообща работали: пахали, копали, возили, строили крепости, мосты, водопроводы, оросительные сооружения. Десятки тысяч людей подчинялись сотням, сотни тысяч – тысячам. Хетты были быстры на расправу всякий раз, когда где-то кого-то надо было наказать. Если вельможа отправлялся в поход, то дома всегда оставлял достаточное число воинов с боевыми повозками, чтоб было кого бояться безоружным земледельцам, было перед кем дрожать надрывающимся в тяжком труде рабам. А отправлялся он в поход часто: не только в грабительские походы в соседние страны, но и на собрания знати, где решались важнейшие вопросы, касающиеся общегосударственных дел. Территория самого Хеттского царства, без подчинявшихся ему стран, была не очень велика, члены панкуса, собрания воинов, или более узкого совета знати, тулия, могли съехаться за один-два дня.
Царь мог вершить приговор над знатными вельможами, лишь если собравшаяся на совет знать передала их в его руки: «Если кто поступает злоумышленно, будь то отец дома, будь то начальник дворцовых слуг, будь то начальник виночерпиев, будь то начальник телохранителей, будь то предводитель военных отрядов, состоящих из знати, – должно их арестовать и передать в целях наказания», – записал в законе царь Телепинус. А состоящий из многих разделов хеттский свод законов предписывал: «Если кто воспротивится приговору, вынесенному царем, – у того уничтожат всю семью. Если кто выступит против приговора, вынесенного военачальником, тому отрубят голову».
Правящий совместно, дисциплинированный народ коневодов сплачивал воедино лоскутное Хеттское царство. Здесь не обращали внимания на то, кто на каком языке говорит, какому богу поклоняется, лишь бы платил подати, выполнял предписанные законом общественные работы.
В конце XVIII в. до н. э. династия первого царствующего рода Анитты уступила власть другому царскому дому. Один из царей этого дома, Лабарна I (ок. 1675–1650 г. до н. э.), проявил себя, как выдающийся военный деятель и реформатор. Ему удалось расширить границы Хеттского царства «от моря до моря». Из договора между хеттским царем Муваталлисом и Алаксандусом, царем Вилусы, видно, что Лабарна добирался и до этого отдаленного уголка Малой Азии. Современники Лабарны по достоинству оценили его деятельность: имена царя и его супруги Таваннанны стали титулами всех последующих хеттских царей и цариц. Его преемник, племянник Хаттусилис I (ок. 1650–1625 гг. до н. э.), продолжил реформаторство: он перенес столицу царства в некогда бывший главным центр хаттов, Хаттусу, после чего государство стало называться Хеттским. Хаттусилис I еще более расширил владения хеттов вплоть до Сирии.
О Хаттусилисе более поздний текст царя Телепинуса рассказывает так: «Затем царил Хаттусилис. Его сыновья, его братья, его родичи, его свойственники, а также его воины были объединены, и, куда он ни отправится в поход, там он держал ту вражескую страну покоренной сильною рукой: он разорял страну, он страну обессиливал. Он оттеснял их к морю. Когда же он возвращался из похода, каждый его сын шел (правителем) в какую-либо страну; великие города находились в его руке».
От Хаттусилиса I дошли и собственные весьма интересные тексты. Один из них, аккадско-хеттская билингва (двуязычная надпись), представляет собой описание его деяний, главным образом военных; этот текст является как бы зачатком позднейших анналов хеттских, ассирийских и урартских царей. Хаттусилис говорит о походе на важное царство Арцава, которое надо искать в западной части Малой Азии и которое включало в свою сферу влияния также и Вилусу, то есть, возможно, Трою. (Хеттские цари правили всей этой территорией не непосредственно, а путем подчинения местных царей или сажали в каждый город-государство своих родичей.) Если не считать этого и еще двух походов (один из них опять в Арцаву), все военные кампании Хаттусилиса I были направлены в Северную Сирию. Хеттский царь хвастает, что он первым из царей после Саргона аккадского перешел здесь Евфрат и что город Хахху не удалось сжечь даже Саргону, между тем как он, Хаттусилис, не только сжег Хахху, но и запряг царя этого города в повозку.
Помимо удачных завоевательных походов, этот царь вошел в историю зачинщиком дворцовой смуты, хотя сам себя он, конечно, таковым не считал. Из письменных источников известно, что Хаттусилис I, игнорируя традиции, отстранил от наследования своего племянника. Причем предлог для этого он отыскал более чем убедительный: племянник равнодушно отнесся к болезни дяди. В результате ссоры царь ополчил против себя многих членов рода, даже собственных детей. Разбираться в таких давних перипетиях весьма любопытно: писцы зафиксировали по этому вопросу многие «выступления» Хаттусилиса I – красноречия ему было не занимать.
Весьма интересно сохранившееся политическое завещание Хаттусилиса I, записанное по-аккадски и по-хеттски, когда он лежал больной в Куссаре. Согласно завещанию, от наследования отстранялись два его мятежных сына и дочь, а также назначенный самим Хаттусилисом племянник (сын его сестры) Лабарна II. Все они были отправлены в ссылку, а своим «сыном» и наследником Хаттусилис сделал Мурсилиса – по-видимому, своего внука; право его на наследование престола должен был утвердить панкус. Хаттусилис I обращается к Мурсилису и к панкусу с такими словами: «Блюди слово отца! Пока ты будешь так поступать, ты будешь есть хлеб и пить воду. Когда (для тебя) наступит возраст зрелого мужа, ешь дважды и трижды в день и заботься о себе! Но лишь когда старость западет тебе в сердце, то пей досыта. А вы будете моими верховными слугами – и мои, царя, слова вы должны [соблюдать], – тогда вы будете есть хлеб и пить воду. [Тогда] возвысится [город Хаттуса, и страна моя упокоится в мире]! Но коль вы не станете соблюдать слово царя, то вы не останетесь в живых…» Хаттусилис наказывает своим ближайшим сановникам воспитывать наследника в строгости, а вельможам, гражданам Хаттусы и других городов, запрещает наговаривать друг на друга перед царевичем.
Государство Хаттусилиса было весьма рыхлым образованием; даже на важнейших государственных чиновников и военачальников он не всегда мог полагаться: до нас дошли известия об их изменах и о понесенных изменниками жестоких наказаниях.
После всех передряг новым престолонаследником стал усыновленный внук царя – Мурсилис, с которым, по всей видимости, он быстро нашел взаимопонимание. Мурсилис I (ок. 1625–1590 г. до н. э.) продолжил дело Хаттусилиса. По сообщению дошедших до нас исторических текстов, он «отомстил Халебу за кровь своего (приемного?) отца» (возможно, раненного в бою с халебскими войсками, когда он, по словам того же текста, «покончил с достоинством великого царя», которым до тех пор обладал правитель Халеба). царство Халеб было при Мурсилисе I вовсе упразднено, и им были разрушены «все» города хурритов. Согласно тексту Телепинуса, Мурсилис «разрушил Хальпу и доставил пленных и имущество Хальпы в Хаттусу; затем он пошел на Вавилон и разрушил Вавилон; он побил хурритов и удержал пленных и имущество Вавилона в Хаттусе». Однако главный трофей – статуя вавилонского бога Мардука – в Хаттусу не попал, а остался в Хане на Евфрате, может быть, в связи с ударом хурритов по отходящим войскам Мурсилиса.
Но его блестящим победам радовались немногие. Хеттская знать понимала, что тем самым царь укрепляет и без того сильную власть. В результате заговора некоего цитандаса, а также Хандилиса, зятя Мурсилиса, царь был убит. В Хеттском царстве началась полоса упадка и постоянно следовавших друг за другом заговоров и цареубийств. После убийства Мурсилиса I на престол взошел Хандилис, женатый на царице Харапсилис. Хандилис, не будучи сыном царской дочери (он был чашником), по-видимому, нe принимал царского титула, действуя как регент вместо своего сына (или сына своей жены) Кассениса. После смерти Хандилиса Кассенис и его родичи были умерщвлены цитандасом, убийцей Мурсилиса I, женатым на дочери Хандилиса и Харапсилис. Однако сын цитандаса Аммунас, вероятно, желая противодействовать принципу наследования престола не сыном царя, а мужем или сыном его дочери, «взошел на престол своего отца», убив его.
Хандилис, преемник Мурсилиса I, пытался поддерживать власть хеттов в Сирии, но хурриты сами совершили вторжение в Малую Азию, причем царская жена Харапсилис и ее дети были уведены в Сирию, в город Шуксию, где она и умерла. При Хандилисе же пришли в движение и стали наступать на Хеттское царство племена каска. Именно в это время они навсегда отрезали хеттов от Черного моря, и прежнее утверждение древнехеттских царей об их владычестве от моря до моря в хеттских текстах не повторяется. Хандилис был вынужден срочно укреплять хеттские города, в том числе и Хаттусу, однако ряд важных городов, как, например, культовый центр Нерик, были потеряны, хотя Хандилис и не дал каска перейти реку Кумесмаха. При Аммунасе хетты продолжали терпеть поражения и потеряли еще ряд городов и областей, в том числе Арцаву, на западе полуострова.
При Телепинусе (он правил около 1530–1500 гг. до н. э.) панкус был вновь возрожден, что доказывает «Указ» этого царя. Еще одним важным нововведением в «Указе» было запрещение царю предавать смерти кого-либо из остальных членов своего рода. Приказав умертвить родных, сам царь подлежал бы суду панкуса и мог быть предан смерти. В случае серьезной вины кого-либо из членов царского дома тот тоже подлежал суду панкуса, причем особо оговаривался принцип только личной ответственности: члены семьи виновного не должны были подвергаться каре или лишаться имущества. Все эти постановления Телепинус представил на утверждение панкуса.
Тем временем знать получала все большую власть. Во времена Телепинуса тулия добилась права не только судить, но и казнить царей. Причем без согласия тулии царь не мог казнить ее членов и отбирать их имущество. Но это было не единственное поражение царя. Около 1450 г. до н. э. удачливый сановник не хеттского происхождения захватил трон и основал новую хеттскую династию. С этого времени начался так называемый Новохеттский период – середина XV – начало XII в. до н. э. Теперь царь стал абсолютным правителем: он сам назначал себе преемника.
В начале XIV в. до н. э. в Хатти приходит к власти узурпатор Суппилулиума I (ок. 1380–1335 гг. до н. э.) – талантливый политик и полководец, покоривший почти всю Малую Азию и в итоге трех больших войн сумевший победить Египет и завоевать все Восточное Средиземноморье вплоть до южных рубежей Палестины. В итоге Хеттское царство вместе с зависимыми территориями простерлось от Закавказья до Южной Палестины и от Эгейского моря и Кипра до ассирийских и вавилонских границ. Вавилония и Ахейская держава считали необходимым поддерживать дружбу с Суппилулиумой. Все эти успехи, однако, грозили хеттам роковыми последствиями. Государственные таланты Суппилулиумы поставили под власть хеттов огромные пространства, контроль над которыми намного превышал возможности народа-гегемона. Поэтому существование огромной державы, основанной Суппилулиумой, его преемникам приходилось поддерживать почти непрестанными походами против мятежных окраин и посягавших на владения Хатти других держав. Кипевшие войны медленно, но верно истощали силы Хеттского царства. При последних хеттских царях – Тудхалии IV и двух его сыновьях – царство ведет борьбу на два «фронта» – в Верхней Месопотамии и Западной Малой Азии, где, помимо ахейцев, сталкивается с вторгшимися сюда с Балкан фригийцами. Тудхалия IV смог в конце концов отбросить ахейцев и разгромить Илион. Гомер в «Илиаде» упоминает неудачную войну Илиона и союзных ему сангарийских фригийцев против амазонок в дни молодости Приама. Ученые же полагают, что малоазиатские амазонки были в греческих преданиях отражением хеттов. При последнем хеттском царе, носившем имя Суппилулиума II, хетты снова захватили Кипр, но их дни были уже сочтены.
Как жили, как выглядели хетты? Повседневная жизнь Анатолии II тыс. до н. э. почти полностью была связана с сельским хозяйством. Письменные источники и археологические свидетельства позволяют нам составить достаточно ясное представление о флоре и фауне Анатолии, о ее одомашненных и диких животных и растениях.
Основными злаками были разновидности пшеницы и ячменя; кроме того, здесь произрастали горох, фасоль, чеснок, лен, фиги, оливки, виноград, яблоки, а также, возможно, гранаты и груши. Жители Анатолии содержали коров, свиней, коз, овец, лошадей, ослов, собак и буйволов, а также разводили пчел. В дикой природе встречались львы, леопарды, волки, олени, лани, дикие буйволы, кабаны, горные козлы, орлы.
Повседневная пища анатолийцев состояла в основном из всевозможной выпечки, сыра, молока, меда, разных каш и либо мясных, либо овощных похлебок.
В различных поселениях сохранились свидетельства сельскохозяйственной деятельности. В словаре хеттов мы находим такие названия: ферма, овчарня, свинарник, козий загон, стойло, молотильный ток, дровяной сарай, фруктовый сад, луг, пасека, зернохранилище, мельница, водоотвод, плуг, лопата, телега, сбруя. Иными словами, жизнь земледельцев древней Анатолии мало чем отличалась от жизни их современников на всем Ближнем Востоке и весьма походила на жизнь их преемников в современной Турции.
Однако сельское хозяйство было не единственным занятием хеттов. Сохранились свидетельства того, что среди них были врачи, строители, плотники, каменщики, ювелиры, медники, гончары, пекари, сапожники, прядильщики, портные, ткачи, рыбаки, повара, носильщики и стражники, хотя в основном все эти люди состояли на службе во дворцах или храмах.
Земля в Хеттском царстве принадлежала государству. На большей ее части располагались крупные хозяйства, которые обеспечивали царя и членов его рода. То есть работали на «дом царя», «дом царицы», «дом дворца» – местную администрацию. Был и общинный сектор, где землевладение уходило корнями в доклассовую эпоху. В нем, по всей видимости, можно было покупать и продавать участки земли. Старейшина общины имел довольно широкий круг полномочий, связанных с судебной и административной властью. И на государственных, и на общинных землях широко использовался труд рабов. Обязательная служба царю и уплата ему натурального налога называлась саххан, трудовая повинность – луцци. По-видимому, они распространялись на большую часть населения страны, в том числе и на общинников.
Все население делилось на две группы. В число «свободных» входили лица, освобожденные от повинностей в пользу государства и храма. Это были члены общин коренных хеттских городов. Из них же набиралась правящая верхушка. Вторая группа – «несвободные» – то есть лица, на которых распространялась государственная и храмовая эксплуатация. Среди «несвободных» производителей, стоящих вне общин, были рабы, кабальные должники, наемники, зависимые земельные собственники. Они иногда были достаточно богаты и имели собственных рабов.
Обычной, повседневной одеждой для хеттов служила похожая на рубаху туника, которая доходила до колен, имела длинные рукава и носилась без пояса. По праздникам хетты надевали более длинную и роскошную тунику, известную под названием «хурритская рубаха». Обычно эту одежду украшали вышивки или металлические аппликации, а иногда пояс и манжеты с вышитым на них орнаментом.
Легкая туника и «шотландская» юбка были, по-видимому, формой легковооруженных воинов, а длинная хламида или плащ, также часто встречающиеся на памятниках, обычно служили облачением царей и жрецов во время священных церемоний. Кроме того, цари и жрецы носили на головах круглые шапки или головные повязки. Иногда цари по случаю важных государственных торжеств надевали высокую коническую шапку – символ божественного происхождения.
Башмаки или сапоги с загнутыми кверху мысками изготовляли из разноцветных кож, со всевозможными украшениями. Хетты носили также чулки или гетры.
Одежда городских женщин, как правило, состояла из плаща, в который они закутывались с головы до пят, и легкой туники под ним. Оставаться в одной тунике женщины могли только дома. В длинную тунику, ниспадающую складками, с вышитым поясом и высоким головным убором, вероятно, первоначально облачали только богинь в Язылыкае, но позднее так стали одеваться и царицы, исполнявшие функции верховных жриц.
Все эти одеяния, как правило, скреплялись на плечах одной или двумя бронзовыми булавками. Обычно хетты носили длинные волосы, спадающие на шею и затылок, иногда заплетали их в косицу. Мужчины брились. И мужчины, и женщины носили ювелирные украшения – иногда серьги, но чаще браслеты и ожерелья. Особенно популярны были подвески, очевидно, игравшие роль амулетов: солнечные диски, полумесяцы, изображения диких животных или быков. Носили хетты и кольца. Один найденный экземпляр, видимо, служил личной печаткой, но в целом кольца с печатками, как и цилиндрическая печать, были у хеттов редкостью.
Во всей истории хеттов значительную роль играла армия. Насчитывавшая иногда до 30 000 человек она состояла из двух основных частей – пехоты и колесниц. В пехоту входило сравнительно небольшое число постоянных отрядов, из которых одни представляли личную охрану царя, другие патрулировали границы и подавляли мелкие бунты. О том, как формировались эти отряды, нам ничего не известно, но мы знаем, что в отдельные периоды среди них были и наемные войска.
Во время военных кампаний пехота пополнялась за счет рекрутов из местного населения, а в случае необходимости – отрядов из вассальных государств. В пехоту входили также специальные подразделения «саперов», которых использовали при осадных работах, и горные войска. Колесницы были главной ударной силой империи хеттов, как, впрочем, и других держав Ближнего Востока той эпохи.
Главным военачальником был сам царь, и достоверно известно, что хеттские цари лично участвовали в сражениях. царь перепоручал кому-либо командование лишь в тех случаях, когда сам был болен, занят военными действиями в другом месте или же исполнял культовые обязанности верховного жреца. Тогда во главе войска вставал, как правило, член царской семьи, носивший какой-нибудь громкий дворцовый титул вроде «главного виночерпия» или «главы пастухов». В отдельных беспокойных районах, например на северной границе и в Каркемише, требовалось постоянное присутствие царского военачальника. В таких случаях одному из принцев присваивали титул «царя» данной области и наделяли правами более или менее самостоятельного командования.
О том, сколь искусны были хеттские цари в тактике ведения боя, лучше всего свидетельствует подробно описанное в египетском тексте и уже упоминавшееся нами сражение при Кадеше (1296 г. до н. э.). Хеттской армии, вставшей лагерем в Кадеше, удалось укрыться от египетских разведчиков. Ничего не подозревающие египтяне подошли к городу и принялись разбивать лагерь. В это время отряд хеттских колесниц незаметно для неприятеля покинул город через противоположные ворота, переправился через Оронт и нанес сокрушительный удар по центру египетской колонны. Вероятно, египетская армия была бы полностью уничтожена, если бы в этот момент на выручку ей не подоспел отдельный полк, который двигался к Кадешу с другой стороны и, в свою очередь, застал врасплох хеттов, разорявших лагерь. Благодаря этой счастливой случайности фараон спас остатки своей армии и сумел представить своим подданным битву с хеттами великой победой. Следует, правда, иметь в виду, что армия, выступившая против египтян при Кадеше, была самой мощной из всех, какие когда-либо удавалось собрать хеттским царям.
Иерархическую лестницу хеттской армии сейчас уже воссоздать почти невозможно, но, по всей видимости, командные должности распределялись в соответствии со знатностью, а сама организация строилась по десятичной системе, где низшим было объединение из десяти человек, далее – из ста и, наконец, тысячи.
Так же мало мы знаем и об оплате воинов. Во многих случаях военная служба была одной из повинностей, но хетты наверняка рассчитывали на победы, за которыми немедленно следовал раздел захваченной добычи. Опасность этой системы ярко проявилась в битве при Кадеше, где сравнительно легкая победа хеттов едва не обернулась их поражением, когда колесничие бросились грабить египетский лагерь, не убедившись в том, что враг полностью разбит. Находясь на вражеской территории, хеттские воины наверняка старались поживиться за счет местных жителей. Гарнизоны пограничных крепостей, очевидно, собирали дань с местного населения, и, вероятно, та же система применялась, когда крупные воинские контингенты перемещались из одного конца хеттского царства в другой. Но, помимо этого, у хеттских воинов были большие обозы из вьючных ослов и влекомых быками повозок, в которых за ними следовало не только вооружение, но и, вполне возможно, провиант. Главной проблемой и в Анатолии, и в Северной Сирии была вода. Во многих районах число дорог, по которым могли следовать даже небольшие отряды, резко ограничивалось отсутствием этого жизненно важного ресурса.
Вооружение хеттского войска вполне соответствовало основному принципу воинского искусства: «чтобы превзойти противника, необходимы три вещи: маневренность, превосходство в мощи и надежность защиты».
В первом хеттам, как и некоторым другим древним народам, помогали легкие колесницы. Они появились у хеттов около середины II тысячелетия до н. э. и быстро распространились по всему Ближнему Востоку. Усовершенствованная колесница была шедевром инженерного искусства – маневренная, развивающая большую скорость. Основу ее составляла деревянная рама, обитая кожей. Она стояла на широкой оси с деревянными колесами с шестью спицами. Из-под рамы выступало дышло, к которому с обеих сторон припрягали двух лошадей. Однако превосходство хеттов объяснялось не тем, что у них были колесницы, а тем, что хетты умело видоизменяли основную конструкцию применительно к обстоятельствам.
Главная проблема в конструкции колесниц заключалась в том, чтобы совместить скорость и маневренность с атакующей мощью и безопасностью. Для достижения этих задач конструктор был обязан обратить особое внимание на легкость рамы, длину и расположение оси, а также на достаточную устойчивость повозки, чтобы эффективно использовать применяемое с нее оружие. Необходимо было еще придумать какие-то приспособления для обороны, найти способ, с помощью которого воин на колеснице мог бы защищаться. Египетские фараоны разрешили эту проблему по-своему. Например, в битве при Кадеше Рамсес II изображен в кольчуге, вожжи привязаны у него к поясу, и, таким образом, обе руки свободны, что позволяет ему разить врагов из лука. Кроме того, сбоку его колесницы прикреплен колчан с дротиками. Сама колесница, подобно всем египетским колесницам того периода, имела ось в задней части кузова; такое расположение делало ее чрезвычайно маневренной даже на большой скорости. Однако далеко не все египтяне обладали «универсализмом» фараона, и на обычных египетских колесницах ехали двое – возница и воин, вооруженный луком и дротиками. Совершенно очевидно, что египтяне рассматривали колесницы как «летучие» боевые платформы, с которых можно было на большой скорости поражать врагов метательными снарядами, внося в ряды противника замешательство.
Отношение хеттов к боевым колесницам было иным. Для них колесницы представляли собой тяжелую наступательную технику, способную мощной организованной атакой прорвать и уничтожить оборонительные линии вражеской пехоты. Поэтому основным оружием хеттских воинов на колесницах были копья для ближнего боя. Ось колесницы располагалась не сзади, а в середине кузова, из-за чего колесницы могли перевернуться на большой скорости. Но такой недостаток маневренности с лихвой окупался более мощной поражающей силой, потому что благодаря среднему расположению оси хеттская колесница несла не двух, а трех человек: возницу, воина с копьями и воина со щитом, защищавшего всех троих. Таким образом, дополнительный вес усиливал мощь атаки, а в последующей рукопашной схватке у хеттов сразу оказывалось численное превосходство. У других анатолийских держав, таких как Арцава, Аххиява и Каска, тоже были колесницы, но они лишь упоминаются в хеттских текстах, и мы ничего не знаем об их конструкции и вооружении. Дело в том, что в такой пересеченной местности, как Анатолия, от колесниц в сражениях было немного толку. По-видимому, они служили в основном для быстрого передвижения царей и высокопоставленных чиновников и, конечно, для поспешного бегства врагов хеттов, которые после поражения «бежали в одиночку», бросая свои войска и даже детей и жен на милость великого хеттского царя. Примером может служить обращение фараона Рамсеса II к богу Амону в знаменитом гимне о битве при Кадеше: «Я взываю к тебе, мой отец Амон!.. Я одинок, предоставленный себе самому, и нет никого со мной. Я брошен своим многочисленным войском, и никто из колесничих не видит меня. Я кричу им, но не слышит меня ни один из них».
Об организации хеттской пехоты мы знаем меньше. В битве при Кадеше она играла весьма незначительную роль, в основном защищала обозы с провиантом и вооружением от внезапных налетов противника. Однако в горах Анатолии пехота играла самостоятельную роль, и хеттская армия и здесь превосходила своих противников. Это превосходство достигалось не огневой мощью, а лучшей тренированностью и дисциплиной, позволявшей военачальникам скрытно и быстро передвигать свои войска на большие расстояния, пользуясь естественными складками местности или темнотой. Это давало им элемент внезапности, столь важный для успешного развития боя. А когда начиналась атака, маршевую колонну с хода разворачивали в боевые порядки, которые прорывали ряды врагов, прежде чем те успевали организовать оборону. Некоторое представление о быстром продвижении хеттских боевых колонн дает скульптурная галерея Язылыкая, где изображены зловещие в своем однообразии стремительно шагающие воины-боги.
Главное оружие хеттской пехоты варьировалось в зависимости от характера местности. В Северной Сирии, где сражения происходили на открытых равнинах, воин был вооружен длинным копьем. В Анатолийских горах хеттские воины использовали рубящие мечи – страшное оружие в форме больших серпов с режущим наружным краем. И только почти в самом конце II тысячелетия до н. э. мастерство кузнецов настолько возросло, что появились длинные прямые мечи. Кроме того, у хеттских воинов были короткие колющие мечи или кинжалы, которые часто изображались на скульптурах. Эфесы их часто имеют изогнутую серпообразную форму или искусно украшены головами животных.
В начале II тысячелетия до н. э. рукоятка мечей и кинжалов крепилась к лезвию с помощью заклепок, но позднее появилась более усовершенствованная форма: лезвие и основа рукоятки ковались из одного бруска металла, а уже к основе рукоятки заклепками и загибающимися краями крепили инкрустированные пластины из дерева или кости. Часто эфесы мечей и кинжалов были украшены головками из камня, кости или металла, которые сохранялись гораздо дольше, чем само лезвие. Еще одно оружие хеттских воинов – боевые топоры. Они имели две основные формы: первая – с отверстием, куда вставлялась рукоятка, и вторая – плоский топор, который вклинивали в расщепленное топорище, а затем привязывали для прочности.
Огромную роль в Хеттском государстве играла религия. Не случайно культовые функции царя считались важнее военных. Буквально каждое повседневное действие человека, а особенно царя, не говоря уже о каких-либо важных событиях общественной или личной жизни, было обставлено сложнейшей сетью ритуалов, заговоров, заклинаний, магических обрядов. Но культы играли свою роль и в экономике, ведь храмы сами были крупными хозяйствами. Божества обслуживал обширный штат разнообразнейших служителей – мужчин и женщин.
Хеттская религия складывалась в результате взаимодействия традиций многих народов – индоевропейских (хеттских и лувийских), хаттских и месопотамских. Подавляющее большинство божеств древнехеттского пантеона по своему происхождению хаттские, и прежде всего главные божества хеттского пантеона – небесный бог грозы (имя которого неизвестно) и богиня Солнца, покровительница города Аринна – Вуруму. Популярны были боги и богини плодородия, например Телепину – умирающее и воскресающее божество, связанное со сменой времен года. Исключительным влиянием пользовалась богиня любви, разрушения и войны Сауска. Второстепенный бог ворот Апуллуна стал, по-видимому, прообразом греческого Аполлона. В XIII в. до н. э. был создан единый пантеон богов, который представляют скальные рельефы города Язылыкая близ Хаттусы, изображающие две встречные процессии мужских и женских божеств, стоящих на зверях и птицах.
Вообще в древнехеттском государственном пантеоне очень мало собственно хеттских (индоевропейских) богов – бог дневного света Сиусумми, бог, восседающий на лошади, Пирвас (его имя считается родственным хеттскому «перуна» – «скала», славянскому Перун, литовскому Перкунас – «бог грозы») и некоторые другие.
В Новохеттский период в государственном пантеоне появляются лувийский бог Сантас, месопотамские божества Ану, Анту, Энлиль и Нинлиль, Эйя и другие. Некоторые исследователи отождествляют также хеттского бога по имени Акнис с индоевропейским богом огня Агни. Божествам хеттского пантеона, как правило, поклоняются в человеческом обличье, но известны и зооморфные образы. Так, бог грозы иногда фигурирует в образе быка (или горы). Обычно божество изображается стоящим на священном животном – льве, леопарде, лошади, олене, баране. Атрибуты – палица, жезл, копье, щит – подчеркивают функции бога.
Руины храма бога дождя
Боги принадлежат к одной из частей макрокосма – небесной, земной, подземной. По принципу «земной – небесный» могли различаться однотипные божества: небесный бог Солнца (Истанус) противопоставляется в ритуалах подземной солнечной богине земли (Вурусему). Любопытно, что одно и то же божество у людей называется одним именем, а среди богов – другим, то есть «язык богов» и «язык людей» отличаются друг от друга.
Божествам посвящали многочисленные праздники. Например, в хеттской столице Хаттусе их отмечалось восемнадцать. В древнем хаттском культовом центре Нерик в начале года (весной), при первых громовых раскатах, проводился праздник грозы. Для бога грозы города Нерика и бога грозы города цахалукка, божеств Инарас, Телепину и Хасамилиса устраивали также весеннее и осеннее празднества, а в честь бога Вурункатте – только осеннее. Кроме того, в текстах из Нерика говорится, например, о двенадцати ежемесячных праздниках бога грозы города Нерика и бога грозы города цахалукка. Эти последние происходили в середине месяца, по-видимому, в течение трех-четырех дней. В Нерике отмечались еще праздник урожая и факельный праздник.
Совершались также ритуалы и магические обряды по любому возможному случаю – сооружения нового дворца и храма, установления во дворце нового засова, очищения войска, потерпевшего поражение, изгнания болезней, восстановления функций органов тела, прекращения раздора в доме и т. п. Обряды же черной магии были запрещены. Согласно хеттским законам: «Если свободный человек убьет змею и (при этом) скажет имя другого человека, (то) он (должен) дать (в качестве возмещения) одну мину серебра. А если (совершит это) раб, (то) он сам умрет (будет умерщвлен)».
Во время ритуалов и обрядов приносились в жертву животные: бык, корова, козел, овца, свинья, собака (или какая-нибудь часть животного в сыром или жареном виде); напитки: вино, разные сорта пива, молоко или мед и масло; мучные изделия, фрукты. Некоторым богам можно было приносить в жертву только определенных животных. Иногда в жертву приносили человека («пленного», «уведенного» – арнувалас).
Богослужение, включая жертвоприношения, сопровождалось песнопениями (совершавшимися на языке того народа, к традиции которого относилось божество, фигурировавшее в обряде), танцами (иногда в подражание какому-либо животному) под аккомпанемент струнных и ударных инструментов.
Совершение ритуалов было основной обязанностью служителей храмов. Жрецы ежедневно совершали омовение божества (его статуи), снабжали его едой и питьем, услаждали песнями и танцами. Вся жизнь их была ограничена определенными запретами, и если они нарушали, например, особые правила взаимоотношений с семьей или обращения с огнем и т. п., то они сами, а также члены их семей могли быть осуждены.
Вместе со жрецами в ритуалах принимали участие придворные. Особенно часто упоминаются придворные с титулами «сын дворца», «виночерпий», «стольник», «повар», «чашник», «привратник», «брадобрей», «человек жезла». Придворные и служители культа нередко участвовали в ритуалах и ритуальных праздниках, проводившихся под непосредственным руководством царя и царицы. К царским ритуалам прежде всего относится новогодний ритуал Вуруллия, а также многодневные, до нескольких десятков дней, весенний – антахшум (по названию какого-то растения, возможно шафрана) и осенний – нунтариясха (от глагола нунтарну – «спешить»). Во время антахшума и нунтариясхи царь и царица ездили в важнейшие храмы Хеттского государства, где совершались обряды, посвященные различным богам страны.
Считалось, что от благополучия царя и царицы зависит благосостояние всего населения страны. Поэтому многие хеттские обряды посвящены «обновлению» сил царя и царицы, дарованию им и их потомству долгих лет жизни. С этой же целью проводились так называемые обряды «возмещения». В них пленный мужчина, одетый в царские одеяния, рассматривался в качестве ритуальной «замены» царя, а пленная женщина – в качестве «замены» царицы, для ритуальной «замены» использовали и статую.
Личности царя и царицы были окружены рядом ритуальных запретов. Ритуально нечистым лицам нельзя было приближаться к царю. Сапожники, скорняки, изготовлявшие кожаные предметы для царя и его колесницы, могли использовать шкуры, полученные только из «дома повара». Крайне осторожными должны были быть и лица, доставлявшие воду царю: «Вы, водоносы, которые внутри (во дворце)! И в деле воды будьте очень осторожны, и воду ситом процеживайте! Как-то я, царь, в городе Санахвиттас в медном сосуде обнаружил срезанный волос. И (моя) царская душа разгневалась, и на водоносов я рассердился: «Это-де осквернение!» Так ответил Арнулис: «цулияс был послан (за водой)». Так сказал я, царь: «Пусть цулияс пойдет к реке! Если он чист, то он очистится, а если же осквернен, то пусть он умрет!» Впрочем, существовали и предписания религиозного характера, которые ограничивали свободу действий самого монарха.
Царь и царица находились под покровительством богов, которые защищали их от козней подданных и внешних врагов: «Лабарна-царь богам угоден да будет! Страна принадлежит богу грозы. Небо, земля, воины принадлежат богу грозы. И он Лабарну-царя своим наместником сделал, и ему страну Хаттусу целиком отдал. И страной всей Лабарна рукой своей да управляет! Кто же к нему, Лабарне-царю, и к его области приблизится, того бог грозы да поразит!» Считалось, что боги оказывали содействие царю в сражениях. Например, хеттский царь Мурсилис II так сообщает о своем завоевании страны Арцава: «Когда горы Лаваса я достиг, и могучий бог грозы, господин мой, явил свою божественную власть, и показал палицу, и войско мое палицу видело, (и) страна Арцава (ее) видела. И палица пошла (разить врагов), и страну Арцава она поразила, и город Апасас Уххацитиса она поразила». Если правитель какой-нибудь страны, имевший договор с хеттским царем, нарушал условия соглашения, то «тысяча богов» хеттов должна была погубить виновного вместе с его домочадцами, «странами, городами, виноградниками, пустошами, угодьями, быками, овцами – со всем, что бы ни было у него».
Отношение к царской власти древними хеттами подразумевает определенную двойственность. С одной стороны, во время царского праздника «царь надевает «одежду божества», рубашку, праздничный наряд адупли и поясом [под]поясывается», то есть царь «становился богом» не только после своей смерти, но и выступал в роли божества при жизни. Тем не менее, другие хеттские тексты не содержат явных признаний божественности правителя, например, древний «Текст Анитты» отмечает лишь: «Он (царь) был мил небесному богу бури…». Хотя у хеттского царя и бога грозы много общих функций и атрибутов, основное проявление связи между ними состоит в том, что бог вручает царю царственность, делает его своим наместником, но не богом. Вот как говорит о себе царь Хаттусилис III (XIII в. до н. э.): «Хаттусилис, великий царь, царь страны Хатти, сын Мурсилиса, великого царя, царя страны Хатти, внука Суппилулиумы… потомок Хаттусилиса, царя Куссара». Он признает себя человеком и потомком людей, но «Иштар, госпожа моя, дала… царскую власть над страной Хатти, и я стал великим царем».
В случае смерти царя, когда он, по выражению хеттов, становился «богом», над телом совершался в течение четырнадцати дней погребальный ритуал. Сначала труп сжигался в так называемом постоянном огне, огонь поливался вином и пивом. Обгоревшие останки опускались на некоторое время в сосуд с маслом. Затем они заворачивались в ткани и красивые одеяния. Впоследствии прах помещался в «каменный дом» (личную усыпальницу, мавзолей). Здесь устраивалось угощение для участвовавших в ритуале, делались жертвоприношения в честь умершего и важнейших божеств страны. В дальнейшем новоявленному богу воздавались в «каменном доме» те же почести, что и другим божествам государственного пантеона. Сходным образом устраивались и похороны царицы. Хетты хоронили своих покойников либо в земле, либо в сосудах.
Некоторые заимствования из хаттского языка сохранились и в хеттском, и в других языках вплоть до настоящего времени. Это прежде всего относится к названию железа, изобретателями способа выплавки которого были хатты. Задолго до того, как началось широкое использование этого металла в различных частях света (IX в. до н. э.), у хаттов уже было налажено производство изделий из него. В «Тексте Анитты» (XIX в. до н. э.) говорится о железном троне и скипетре, которые в подтверждение своего «вассалитета» принес Анитте правитель Пурусханды, хаттского или хурритского города. Железо упомянуто и в документах ассирийских купцов. Именно с целью получения этого металла ассирийские купцы вели торговлю и создавали свои фактории в Анатолии. Существует предположение, что хатты делали свои изделия из метеоритного железа. Действительно, метеоритное железо было им хорошо знакомо, но исключительно важно именно то, что ими было освоено и производство железа сыродутным способом.
Другим заимствованием из хаттского является название леопарда. К хаттскому haprass восходит как хеттское название священного животного pars-ana – «леопард», так и название животного (со значениями «барс», «пантера», «тигр») в целом ряде языков Евразии. Существует и еще одна общая черта хаттской и хеттской культур – почитание льва. Лев наряду с другими «животными богов» часто упоминается в хеттских текстах. Хетты почитали его как божество, ему был посвящен специальный «львиный храм». Лев стал у хеттов одним из важнейших символов царской власти. В «Анналах» Хаттусилис I, описывая свою победу над страной Хассува, сравнивает себя со львом: «И страну Хассува, подобно льву, ногами [своими] я растоптал». В «Законодательстве» Хаттусилис I, требуя у «собрания» признать наследником престола Мурсилиса, заявляет: «[Только] льва божество может поставить на львиное место». Здесь перед нами не просто метафора. В обозначении наследника престола как льва явственно ощущается влияние хаттского обозначения царя как «правителя – отпрыска льва». В то же время под «львиным местом» подразумевается царский трон.
В хеттских мифах и ритуалах часто возникает мотив мирового дерева. В его корнях гнездится змей, символизирующий царский трон, на зеленой макушке сидит орел, воплощающий бога грозы, «середину же его пчела занимает» (сам царь). То есть царская власть священна, но царь ниже, чем орел-бог. На городской стене Аладжи-Хююка изображены участники странного ритуала. Один из них лезет по лестнице. По представлениям хеттов, лестница или дерево – это «дорога», по которой переходят из одного мира в другой боги и некоторые жрецы – посредники между богами и людьми. Видимо, на рельефе из Аладжи представлено восхождение жреца по такой лестнице.
Дерево для хеттов было и символом судьи. Существовал, например, высокий титул «глава лестницы». Он был ниже лишь статуса верховного правителя страны. «Глава лестницы» был помощником «верховного судьи» – царя; на него, видимо, возлагались функции в основном повседневного ведения судебных дел, в том числе и контроль исполнения решений царского суда.
Хетты многое о себе рассказали сами – в литературных произведениях, обнаруженных при раскопках хеттской столицы Хаттусы. Это прежде всего мифологические повествования, например сказание о борьбе бога грозы со змеем Иллуянкасом. Его рассказывали на празднике Нового года – Вуруллия. «Когда бог грозы и змей Иллуянкас в городе Кискилуссас сразились, и змей Иллуянкас бога грозы победил, бог грозы всех богов попросил: «Вы (ко мне) приходите!» И богиня Инарас устроила пир, и все во множестве она подготовила: сосуд с вином, сосуд с пивом марну-вандас, сосуд с пивом валхис. И с сосудом она вошла и устроила (праздник). Затем Инарас в город цигаратта пошла и (там) встретила Хупасияса, дитя человечества. Так (говорит) богиня Инарас Хупасиясу: «Смотри! Вот это дело я сделаю, и ты ко мне переселись!» Так (отвечает) Хупасияс богине Инарас: «Когда я с тобой как с женщиной посплю, (тогда) я приду и (то, что угодно) сердцу твоему, сделаю». Инарас с ним провела ночь, а потом увела Хупасияса и спрятала его. Затем Инарас принарядилась и змея Иллуянкаса из норы (то есть входа в подземный мир) позвала: «Смотри! Праздник я устраиваю. Приходи ты ко мне есть и пить!» Вот они – змей Иллуянкас вместе с сыновьями своими – вверх поднялись, и поели они, (и) выпили. Весь сосуд они выпили и упились, к норе уже не идут. (Тут) Хупаси-яс пришел и связал (с помощью) пут Иллуянкаса. Бог грозы пришел и убил змея Иллуянкаса. И боги были (вместе) с ним».
Один из любимых героев хеттских сказаний – Уликумми, человек из горной породы диорита, которого в детстве посадили на плечи великана, держащего на себе мир, и рос он в воде быстрых морских течений. В день вырастал он на локоть, как столп возвышался он над морем, и наконец он уже головой достал до неба. И тогда боги объединились против него. Сначала попытались они приручить его пением, потом послали ветры, дожди, молнии, чтобы разбить его на куски. Но напрасно: непоколебимо стоял каменный человек. Тогда семьдесят богов спустились в море, чтобы его свалить, но не смогли даже сдвинуть с места. Уликумми рос и рос дальше, как башня вздымался он ввысь, достиг он жилища богов и как легкое покрывало поднял небо. В вышину вытянулся он уже на девять тысяч миль. Тогда приготовился к новой схватке с Уликумми бог бурь. «Принесите-ка мне тот старый медный нож, – сказал он древним богам, – который в дни сотворения мира отрезал небо от земли! Я перережу им ноги Уликумми!»
Конец этой истории нам неизвестен, записи ее утеряны. Но лежащее на горах Хеттское царство в глазах соседних народов выглядело чем-то вроде великана, похожего на сказочного Уликумми.
Больше всего мифологических текстов связано с исчезнувшим богом. В роли божества чаще всего фигурирует бог Телепину, а в других – бог грозы. В мифах рассказывается, как, по-видимому, в результате какой-то ссоры со своим отцом, богом грозы, Телепину в гневе исчез. Гнев подчеркнут тем, что Телепину путает свою обувь. Правый башмак он надевает на левую ногу, а левый – на правую ногу.
После исчезновения Телепину «(густой) туман окутал окна, дым охватил дом. В очаге же замерли поленья, на постаментах замерли боги. Внутри скотного двора точно так же замерли овцы, внутри хлева замерли коровы. Овца отказалась от своего ягненка, корова же от казалась от своего теленка… Ячмень и полба не созревают, и коровы, овцы, люди не зачинают. (Те же), что зачали, не рожают. И горы высохли, деревья высохли, и побеги (на них) не появляются. Пастбища высохли, источники высохли, и внутри страны голод наступил, люди и боги от голода начали погибать». И далее повествуется о том, что бог Солнца организует «пир», на который собирается тысяча хеттских богов. Однако боги «ели, но не насытились, они пили, но не утолили жажды». Тогда боги (в том числе и отец Телепину) начинают разыскивать исчезнувшее божество, но нигде не могут найти его. На розыски Телепину «в высоких горах, глубоких долинах, черных волнах» отправляют «быстрого орла». Но и он не может нигде найти бога. Лишь пчела обнаружила Телепину на лугу и, ужалив руки и ноги бога, пробудила его. Возвратившись обратно в свой дом, Телепину «страну свою сосчитал. Туман покинул окна, дым покинул дом. На постаментах боги ожили, поленья в очаге ожили, внутрь скотного двора овец он впустил, внутрь хлева коров он впустил. И мать заботилась о своем сыне, овца заботилась о своем ягненке, корова заботилась о своем теленке, а Телепину – о царе (и) царице. И их жизнь и здоровье на будущее он сосчитал».
В этих мифологических сюжетах легко угадываются общие индоевропейские мотивы. Борьба бога-громовика с врагом в облике змея, умирающая и воскресающая природа – эти сюжеты напоминают хорошо известные истории греческих Зевса, Деметры и Персефоны.
Среди сохранившихся произведений хеттской литературы очень интересны назидательные рассказы, а также подробные царские «анналы» и «автобиографии», составлявшиеся, вероятно, писцами, но имеющие на себе явный отпечаток личности заказчика-царя. Эти тексты позволяют представить хеттов не только завоевателями, но и думающими, тонко чувствующими людьми. Они дают возможность даже выделить основной моральный принцип правителей этого государства – рыцарственное великодушие.
Хетты любили подчеркивать, что они не делали зла иначе, как в ответ на зло, и даже тогда могли отказаться от мести поверженному врагу, морально превозносясь над ним. В детальной «автобиографии» Хаттусилиса III, одной из первых в мировой литературе, этот царь считает нужным специально оправдать перед аудиторией свержение племянника, ссылаясь на нестерпимые притеснения с его стороны, а также санкцию богини любви Сауски, своей покровительницы. В доказательство этого он заявлял: «Если бы со мной он сам (первым) не начал враждовать, разве боги унизили бы праведного Великого царя перед малым царем? Но теперь из-за того, что он (стал) враждовать со мной, боги по суду его унизили передо мной».
Хеттская литература обращается прежде всего к человеку и его деяниям. Отдельный человек интересует ее как участник межчеловеческих отношений. Здесь хеттов занимает в первую очередь поступок – благо или зло, которое один человек может сознательно причинить другому, и проблема воздаяния за него со стороны этого другого. Человек, первым причиняющий зло, безоговорочно осуждался. Ко всему прочему, считалось, что такой поступок сам по себе обрушивает на голову виновного суд богов с тяжкими последствиями. Об этом суде даже не обязательно было просить, он творился автоматически. Хетты полагали, что неспровоцированное причинение зла возмущает самую природу мира, хранителями и средоточиями которой здесь и оказываются боги, которые сами по себе не более справедливые и благие, чем люди. В результате успех в спорном деле был для хеттов существенным свидетельством правоты победителя.
Хеттские государи, описывая свои войны, весьма настойчиво подчеркивают, что первый, причем неспровоцированный удар был нанесен не ими, а им. Указав на этот удар, они одновременно обращались и к суду богов, и к мнению людей. Например, в «Деяниях Суппилулиумы», составленных при его сыне, хеттский царь, враждуя с Египтом, считает необходимым оправдать свои действия перед самими же египтянами в следующих словах: «Я был к вам благосклонен. Но вы мне внезапно причинили зло! Вы напали на правителя Кинзы, которого я избавил от хурритов. Когда я услышал об этом, я прогневался, и я послал воинов и колесницы с военачальниками». Позднее, претерпев новые козни со стороны египтян, он немедленно обращается к богам со словами: «О боги! Я не совершал зла, но люди Египта его совершили, и они напали на границы моей страны».
В исторических предисловиях к договорам новохеттские цари стремились упомянуть, что они не делали никакого зла своим партнерам по договору. Так, Мурсилис II в договоре с одним из малоазиатских царей повторяет: «Я, Солнце, никогда никакого зла тебе не делал», «Я оберегал Масхуилуваса (твоего отца) и ему не делал никакого зла». Только нанесенный тебе неспровоцированный удар позволяет причинить ответное зло.
Что же, однако, делать, если ты все же подвергся неспровоцированному нападению? Особой доблестью, возвышающей человека, считался в этом случае отказ от мести. Предметом специальной гордости и похвальбы хеттов были ситуации, в которых они не ответили злом на зло. Примеров такого подхода, уникального для древнего Ближнего Востока, в хеттской литературе много. Еще древнехеттские государи оставляли в своих надписях пассажи такого рода: «Пусть она (речь идет о мятежной дочери царя Хаттусилиса I, помилованной им) ест и пьет! Вы же ей зла не делайте! Она делала зло. Я же в ответ ей зла не делаю! Но она меня не назвала отцом, и я ее не называю дочерью своей». Или другой фрагмент: «И сказал он (царь Телепинус о своих врагах, покушавшихся на его убийство): «Пусть идут они себе, и да будут они жить, и пусть едят и пьют. Зла же им никакого не причиняет Телепинус. И так я постоянно говорю: мне сделали зло, я же тем зла не делаю!»
Если в конце концов обиженный все же предпринимал справедливую расправу над обидчиком, для него считалось хорошим тоном подчеркивать свое долготерпение, выразившееся в том, что он долго сносил обиды, не желая воздавать злом за зло, но поневоле исчерпал все пределы миролюбия. Мурсилис II, проведя судебный процесс против своей мачехи Таваннанны, вдовы своего покойного отца, многократно повторяет в молитве богам, что он стерпел целый ряд злоупотреблений и преступлений обвиняемой и обрушился на нее только тогда, когда она поистине превзошла сама себя, уморив колдовством жену и детей самого Мурсилиса.
Близко к этому еще одно представление хеттов: считалось весьма достойным демонстративно предоставить противнику возможность оправдаться. Мурсилис II похваляется: «Я ему не делал зла, Масхуилувас же затеял со мной ссору, он подстрекал против меня страну Питасса и людей Хатти – моих подданных, и он пошел бы на меня войной. Когда я, Солнце, об этом услышал, я не замыслил на него никакого зла и не сделал ему ничего плохого, а сказал ему так: «Я пойду вновь привести в порядок это дело…» И я написал Масхуилувасу: «Приди ко мне!» Так как Масхуилувас видел свой грех, он ответил мне отказом и сбежал… тем самым вполне обличив свою вину перед всеми».
В самом воздаянии злом за зло считалось необходимым соблюдать определенную порядочность, не используя любые средства без разбора (тоже уникальный для Азии мотив). Конечно, описанная хеттская концепция не имеет ничего общего с привычными для нас христианским «всепрощением» и восходящей к нему современной «гуманностью», основанными на всечеловеческой любви к «ближнему». Любая культура отличает достойные поступки от особо доблестных. Люди не вправе их ожидать или требовать, но могут лишь восхвалять и превозносить. Именно таким актом свободной благой воли «сверхсправедливости» хетты считали прощение. Оно диктовалось не добротой, а великодушием: прощая врага, хетт руководствовался не состраданием, а презрительным пренебрежением к нему – по принципу «руки об тебя марать неохота».
Особенно ясно это видно в древнехеттском тексте об осаде города Уршу: «царь тогда сказал (полководцам о вражеском городе): «…Будьте осмотрительны! Не то (вражеский) город будет полностью разрушен и произойдет грех и (неоправданное) опустошение. Если же будешь осмотрителен, город не будет разрушен»… Они отвечали царю: «Мы будем внимательны и избежим греха опустошения города». Тогда царь сказал им: «Если город совсем погибнет, это будет грех, будет преступление!» И тогда они отвечали так: «Восемь раз мы шли на штурм, и теперь город, хотя и будет разрушен (в ходе столь ожесточенной осады), но греха мы не совершим (так как ожесточенность сопротивления делает разрушение оправданным)». И царь был доволен их ответами».
Итак, великодушие царя диктовалось вовсе не жалостью к жителям города (он доволен тем, что ему удастся истребить их как можно больше без ущерба для своей чести!), а стремлением не осквернить себя самого, свою честь неоправданной жестокостью. Поэтому прощение ни в какой степени не считалось обязательным: на деле получается, что достойным ответом на зло была как раз полномасштабная месть. Еще древнехеттский Хаттусилис I заявлял: «На вражду я отвечаю враждой!», а Хаттусилис III, который так подчеркивал свое великодушие, в том же тексте с нескрываемым удовлетворением пишет о других своих врагах, не видя здесь никакого противоречия: «Врагов моих и завистников богиня Иштар (…) в руку мне положила, и я с ними покончил». Или: «Богиня Иштар мне моих завистников, врагов и противников по суду в руки отдавала. Кто из них был убит оружием, кто умер в назначенный ему день, но я с ними со всеми покончил!» В самом деле, все оправдание Хаттусили в целом построено именно на том, что самооборона, ответный удар справедливы.
Если обидчик успевал сам отдаться в руки обиженного, признать свою вину и просить о милости, прощение считалось почти обязательным, во всяком случае, ожидаемым, хотя формально дело по-прежнему оставалось в воле обиженного. Именно такого прощения просит – собственно, почти требует – Мурсилис у богов в «Молитве во время чумы»: «Этот грех я признал во истину перед богами. Это истинно так, мы это сделали. Но после того как я признал грех, да смягчится душа богов. Я так скажу об этом: если раб совершает какой-либо проступок, но проступок этот перед хозяином своим признает, то хозяин его смягчится… и того раба не накажет». То есть повинную голову меч не сечет». Сам Мурсилис не только просил, но и с охотой давал такого рода прощение, всячески подчеркивая это в своих договорах и «Анналах»: «Когда люди (враждебного) города Туккама меня завидели издали, они вышли ко мне навстречу: «Господин наш! Не допусти, чтобы у нас все разграбили для (твоей) Хаттусы, как это было в городе Арипса… и не угоняй нас в Хаттусу, а сделай нас своими пешими воинами и колесничими! И тогда я, Солнце, не приказал разграбить город Туккаму, и те три тысячи пленных, что из Туккамы взяли (для угона) в царский дворец, я сделал своими пешими воинами и колесничими».
В разных текстах хеттской «политической царской публицистики» излагаются оригинальные моральные нормы. Если человек не делает зла первым, а в ответ на чужое зло щадит виновного «с позиции силы» (то есть предварительно победив его), а также ограничивает себя в выборе средств в ходе самой борьбы, то он пользуется особым уважением, дополнительно превозносится перед врагом и вправе хвалиться собой перед богами и людьми. Иными словами, он занимает «сильную позицию» в отношениях. Это позволяет ему гордиться перед окружающими.
Сами цари и поясняют логику своей морали. Мурсилис II в одном из договоров вскользь упоминает: «Затем, так как людям вообще свойственно поступать криво…» В «Молитве во время чумы» он же говорит: «Боги, господа мои, так все и совершается: кругом грешат». Если все люди грешат и совершают зло, то последовательное и полномерное воздаяние злом за зло окажется для них попросту путем к самоистреблению. Непрерывный круговорот зла должен быть где-то разорван, и особенный почет воздается как раз тому, кто способен разорвать его великодушным прощением. Но оставалась опасность, что подобный путь мог привести к одному лишь поощрению и умножению зла, поэтому прощение останется необязательным, и будет допускаться только «с позиции силы».
Царские ворота в Хаттусе
Многое о хеттах говорят и другие их творения. Самый выразительный вид хеттского искусства – каменный рельеф. Именно он наиболее ярко отражает дух Хеттской державы. За время ее существования не сложился единообразный канон, хотя какие-то основные принципы создания хеттских рельефов были, они придавали произведению собственное, неповторимое лицо. Рельеф всегда как бы возникает из массы камня. Это подчеркивается и его небольшой высотой, и ясностью и простотой крупных фигур, застывших в ритуальных «каменных» позах. Даже подробная разработка деталей на изображении бога Тархунтаса в царских воротах Хаттусы не нарушает целостности и монументальности изображения каменного стража, так как все узорные детали – орнамент на юбке, волосы на груди и т. п. – выполнены тонкой гравировкой и видны только вблизи.
Пропорции фигур и изображение лица были канонизированы уже в древнехеттское время: круглая голова всегда в профиль, чуть покатый лоб, резко выступающий вперед и слегка опущенный крупный нос, подчеркнутая носогубная складка, небольшой сжатый рот и несколько отступающий назад крепкий небольшой гладкий подбородок. Для хеттских мастеров этот канон – идеальный тип лица вне зависимости от пола и возраста. Египтяне изображали хеттов точно так же, поэтому можно предположить, что эти «портреты» созданы на основе непосредственного наблюдения.
Особенно интересен памятник конца эпохи Новохеттского царства – святилище Язылыкая. Оно представляет собой целую систему – сочетание созданных человеком храмов и естественных священных ущелий, покрытых рельефами. От трех храмов до нас дошли только фундаменты, позволяющие судить о планировке зданий. Храмы запирали вход в священные ущелья, в которых, вероятно, происходили главные действа. Изображения на рельефах свидетельствуют о богослужениях, посвященных различным божествам. (Божества эти хурритские, но имена их написаны лувийскими иероглифами.)
Ущелья Язылыкая говорят о культе священных мест. Многие рельефы связаны с такими священными местами – скалами, на которых высекались рельефы, с источниками, над которыми воздвигались кубические сооружения из обтесанных глыб, опять-таки покрытые рельефами. Судя по структуре расположения рельефов в Язылыкае, здесь был либо комплекс священных мест разных богов, либо одно священное место, где обитали разные боги. Все оформление Язылыкая соответствовало своему назначению и, должно быть, оказывало огромное воздействие на участников ритуала.
Львиные ворота в Хаттусе
Для хеттской архитектуры характерны строгость, монументальность, слитность с гористым, скалистым рельефом страны. Города, особенно столица Хаттуса, строились в виде мощных крепостей с одной или несколькими цитаделями, в которых размещались дворцы и главные храмы. Строители учитывали рельеф местности при возведении оборонительных сооружений, которые состояли из двух-четырех линий стен с башнями. Ворота помещались в проеме между двумя башнями.
Оборонительные сооружения возводились не только для того, чтобы остановить врага. Это вело бы к длительным осадам, когда защитники неминуемо оказались бы в невыгодном положении. Они должны были обеспечить защитникам превосходство в маневренности и огневой мощи. Это достигалось тем, что защитники находились над противником и на его флангах. Кроме того, их конструкция должна была позволять обороняющимся активно отвечать на любые действия противника.
Первое, что впечатляет при взгляде на остатки стен, – это их непомерная толщина. Именно она позволяла возводить достаточно высокие стены, чтобы обороняющиеся были недосягаемы для противника и господствовали над ним. Толщина фундаментов делала высокие стены устойчивыми и позволяла обороняющимся успешно защищать наиболее уязвимые места. Гребень делался широким, дабы защитники могли свободно по нему передвигаться и стрелять без помех. Отсюда необходимость в бойницах и в широкой дороге за ними. Подножие стены приходилось защищать от таранов и от атак нападающих со штурмовыми лестницами. Эта задача решалась так: нижнюю часть стены делали не вертикальной, а покатой, сооружая так называемые гласисы. Они давали еще одно преимущество – сброшенные сверху камни отскакивали от них во все стороны, нанося противнику максимальный урон и сея панику. Углы крепостных стен были наиболее уязвимы для подкопов, поэтому анатолийские строители старались обходиться вообще без углов. Их крепости явно тяготели скорее к круглым формам, а не к прямоугольным, и, если у крепости все же были углы, их, как правило, защищали массивные башни. То же самое относилось и к воротам – самому слабому месту любого укрепления. Кроме того, проход к воротам делался с несколькими крутыми поворотами, что мешало быстрому продвижению противника.
Наиболее крупные города, которые могут служить примером всех этих фортификационных ухищрений, это Богазкёй и Троя. Стены Богазкёя образуют неровный эллипс длиной более четырех километров. Они окружают участок, который поднимается от старого города на севере к высокому, скалистому хребту на юге. На насыпном фундаменте стояла главная городская стена. Она состояла из внешней и внутренней каменной кладки с разными перегородками, промежутки которой были заполнены щебнем. «Самая замечательная часть городской стены, – писал немецкий археолог Людвиг Курциус, – это сооружение на горе Джер Капу (1242 метра над уровнем моря). Здесь, на самом высоком месте акрополя, был сделан большой вал с укрепленными склонами, двойной стеной и башнями, к которым вели лестницы. От середины возвышенности начинался облицованный камнями туннель длиной около 70 метров, шириной 2,4 метра и около 3 метров высотой, который вел во внутреннюю часть города. Мы нашли этот туннель таким грязным и разрушенным, что сначала могли передвигаться в нем только ползком».
На гребне этого сооружения возвышалась еще одна стена из кирпича-сырца. Прямоугольные башни выступали из стен примерно на расстоянии трех метров друг от друга, а в некоторых местах дополнительные выступы нависали над крепостными стенами через каждые восемь метров над фронтальной стеной и усиливали бастионы между главными фронтальными башнями.
Центральные ворота охранялись высокими башнями, к которым примыкали с обеих сторон гребни главной стены. Между этими башнями стояли ворота, украшенные снаружи бронзовыми рельефами, но уже вторые ворота украшались со стороны города. К воротам можно было подойти только по пологому подъему, параллельному городским стенам, что заставляло атакующего противника подставлять открытый фланг защитникам. Кроме того, еще одна башня на внешней стороне прохода обеспечивала дополнительное прикрытие.
В самом южном районе города находились маленькие ворота («Ворота сфинксов») – только для пешеходов. Здесь крепостная стена возвышалась всего метров на десять, однако войти в эти ворота можно было лишь по двум лестницам, вырубленным в основании крепостной стены на некотором отдалении по обе стороны ворот.
Под этими воротами задолго до того, как появилась сама крепостная стена, был прорыт крытый туннель, который вел к центру города. Наверняка этот туннель не предназначался для сокращения пути ленивых горожан. Он был одной из характерных особенностей хеттской оборонительной архитектуры. Такие туннели использовались либо для контратак, либо для того, чтобы захватить противника врасплох, когда он уже ослабел. Но расположение этого туннеля в Богазкёе под южной стеной, противоположной обычному направлению постоянных налетов врагов, позволяет думать, что это – оставленный на крайний случай путь отступления в сторону дружественного юга во избежание позорного плена.
Внешнее кольцо стен Богазкёя – не единственная его оборонительная линия. Внутри город разделялся на отдельные кварталы, которые могли защищаться самостоятельно, если бы городская стена не устояла. Самым мощным из этих внутренних укреплений, несомненно, была цитадель, где располагались царские дворцы и архивы, самая высокая точка над старым городом. Естественное господствующее положение ее укреплялось такими же стенами, как внешняя. Еще одни стены делили город на отдельные меньшие кварталы, в которых иногда были укрепленные здания. Однако успех обороны любой фортификационной системы, даже самой продуманной, зависит от того, смогут ли защитники долгое время обходиться без общения с внешним миром. Это прежде всего означало, что крепость должна иметь достаточные запасы продовольствия и воды.
Продовольствие запасти сравнительно нетрудно. Например, в Трое в пол почти каждого дома были вкопаны многочисленные глиняные сосуды для хранения зерна и т. п. Другое дело – вода. Естественные источники внутри крепости тщательно оберегались, а если их не было, строили для сбора и хранения воды цистерны.
Охраняли города и сверхъестественные силы. В Хаттусе «царские ворота», «Львиные ворота», «Ворота сфинксов» были украшены рельефами, которые должны были отгонять от них злые силы и недобрых людей. Храмы и дворцы представляли собой целые комплексы помещений, предназначенных для самых различных целей, в том числе и склады.
Город не имел правильного геометрического плана. Но планы зданий достаточно легко читаются. Логическим центром дворца был огромный приемный зал. Его плоское перекрытие опиралось на ряды колонн. Храмовые помещения группировались вокруг главного двора, причем святая святых находилась в стороне, противоположной входу. Территория некоторых храмов явно делилась на две половины, может быть, предназначенные для богов разного происхождения.
Двухглавый орёл, барельеф, святилище Язылыкая
Простота и четкость хеттской архитектуры подчеркивались массивностью кладки стен и гладкостью оштукатуренных поверхностей. Они лишь иногда украшались «стражами ворот» и вертикально поставленными плитами с рельефами, изображавшими культовые сцены.
Трудно не обратить внимания на сходство оборонительных сооружений Хаттусы и городов Микенской Греции. «Львиные ворота», циклопическая кладка, туннели внутри крепостных стен – вот наиболее очевидные точки соприкосновения. Можно предположить, что и процесс строительства осуществлялся приблизительно одинаково. В Греции классической эпохи считали, что эти гигантские укрепления возвели пришлые мастера, циклопы, трудившиеся под надзором специалистов из далекой Ликии. цари Тиринфа, Коринфа и Аргоса – Прет, Беллерофонт и Персей – лица, несомненно, исторические и жившие в конце XIV – начале XIII в. до н. э., – по-видимому, пригласили для строительства укреплений целую армию наемных рабочих, которых традиция именует еще сторукими, гастрохирами или хирогастрами, то есть «теми, кто состоит лишь из рук и желудка».
Та же традиция различает четыре вида циклопов, сплошь чужеземцев и варваров, абсолютно необходимых микенскому миру: гиганты, несравненные металлурги, по легенде, сковавшие оружие богам-олимпийцам для битвы с местными божествами; чернорабочие и каменщики из Ликии, строители всех колоссальных памятников зодчества Греции и Сицилии; невиданно могучие пастухи, знаменитые скотоводы, державшие свои стада в пещерах, они же – большие любители поесть и выпить, а заодно превосходные музыканты; наконец, нечеловечески мощные воины – обитатели Горнего Края. Мастера-кузнецы, мастера-каменщики, мастера-пастухи и мастера-воины слыли необычайными умельцами, они якобы объединились в тайные братства и установили особые обряды посвящения для молодежи. Считалось, будто могуществом и умом циклопы были обязаны необычно расположенному глазу, наделявшему их ясновидением и мудростью.
Глядя на циклопические памятники, невозможно не думать о том, как их строили. Гигантские блоки известняка, обтесанные и необработанные, весят более 120 тонн и имеют 8,5 метра в длину. Четыре трехметровых каменных куба, обрамляющих знаменитые «Львиные ворота» в Микенах, весят никак не меньше. Во времена Троянской войны или незадолго до нее благодаря знаниям и энергии легендарных циклопов, инженеров и ремесленников был найден способ доставки этих махин из каменоломен в двух километрах к юго-западу от цитадели, поднять их более чем на 200 метров, обтесать, поставить и укрепить таким образом, чтобы стены устояли перед яростью стихий и натиском врагов.
Изучив египетские рельефы, микенскую отчетность, античные трактаты по архитектуре и античные надписи, можно хотя бы приблизительно представить, как работали строители малых и крупных сооружений второй половины II тыс. до н. э. На таком строительстве были необходимы мастера разных специальностей. В отличие от чернорабочих, чьи задачи сводились к трем операциям – идти, нести и тянуть, – бригадиры, старшие мастера и прорабы различных строительных работ должны были уметь обрабатывать как дерево, так и металл, глину или камень, быть одновременно макетчиками, угольщиками и плотниками, прокладывать дороги, возводить у стен крепости леса, строить печи, использовать известь, гипс, строительный раствор, мять глину, изобретать, обдумывать и управляться с разными инструментами – эталонами мер, транспортными средствами, ремесленными орудиями, приспособлениями для подъема и тяги.
Египет обожествил Имхотепа, строителя пирамиды в Саккара, Финикия почитала Котарава-Кази («Ловкий и хитроумный») как Повелителя всех ремесел. Микенская Греция также знала длинную череду демиургов-творцов, одни из которых превратились в богов (Прометей, Гефест, Афина), другие – в полумифических героев вроде Эвпалама («Ремесленника с ловкими руками»), Дедала («Мастера»), Эпея, сына Панопея, – художника, плотника и создателя Троянского коня. Все эти легендарные изобретатели владели многими ремеслами, и в их руках сосредоточивались все работы, которые в наши дни выполняют разные специалисты узкого профиля.
Предполагается, что строители циклопических стен пришли из Ликии, страны на юго-востоке Малой Азии. Именно в Ликии встречаются некоторые здания, святилища и гробницы, которые, скорее всего, вдохновили творцов микенских памятников. Деревянные балки составляли каркас зданий. Такая балка закладывалась в основание, на нее водружались вставленные в пазы угловые столбы и стойки. На разных уровнях находились поперечины, лежни или горизонтальные балки, которые поддерживали и выравнивали внешнюю поверхность камня, кирпича-сырца или глины. Кирпичные стены по углам укреплялись деревянной обшивкой. Дерево использовалось для изготовления дверных и оконных рам, обшивки стен внутри дворца, потолков, крыш, архитравов, опор и лестниц. Из него же делали сани, повозки, катки для перетаскивания камня, подъемники, приставные лестницы, леса и наклонные плоскости, по которым каменщики поднимали блоки и штукатурку.
Если были нужны крупные блоки для строительства храма или царского дворца, различных слоев укреплений или мола, приходилось поднимать и перевозить многотонные грузы. Вряд ли современники предводителя ахейцев в Троянской войне Агамемнона знали лебедку на шкиве, козловой подъемный кран, рычаги для переноски тяжестей, распространенные в классическую эпоху. Самое большее, что они могли делать, – это использовать ворот и подвижный деревянный цилиндр на оси, грузовую стрелу да колодезные журавли. Поставив рядом, ими поднимали тяжелые глыбы камня, которые, опутав канатами и обложив соломой, устанавливали на особого рода сани, если двигаться предстояло вниз, или на ломовые дроги, если требовалось перемещаться в обратном направлении. В первом случае сопровождающие придерживали сани канатами. Во втором – в дроги запрягали несколько пар волов или мулов (а то и людей): каждый такой «чернорабочий», перекинув канат через плечо, тянул изо всех сил. Ксенофонт в «Киропедии» уверяет, что упряжка тягловых животных по хорошей дороге могла перевезти около 900 килограммов. Диодор Сицилийский сообщает, что для перевозки на 19 километров тяжелых камней на строительство храма двух Богинь в Энне на Сицилии понадобилось 100 пар быков. Счета крупных святилищ показывают, что иногда 40 пар тягловых животных волокли всего один барабан для колонны. Но совместных усилий людей и животных не хватило бы, чтобы поднять 120-тонные каменные блоки некоторых циклопических укреплений приблизительно на 15 метров над землей, если бы инженеры не догадались установить, как в Египте, временные земляные платформы и опоясать, как на Сицилии, крупные глыбы, требующие транспортировки, множеством деревянных ободов. Их как бы заключали в гигантское колесо или цилиндр и потом катили, словно исполинские бобины. В конце пути доставить груз на место помогала система деревянных катков и рычагов. Наконец камень помещали между других блоков, а пустоты замазывали глиной.
Вероятно, хеттская культура стала посредницей между цивилизациями Ближнего Востока и Греции. Согласно одной из точек зрения, эти контакты осуществлялись через западную часть Анатолии, где, возможно, с глубокой древности существовали ахейские (греческие) поселения. С ними связывают царство Аххиява, которое неоднократно упоминается в хеттских документах XIV–XII вв. до н. э.
Среди ряда аргументов, которые приводятся в обоснование контактов хеттов и ахейцев, – возможное участие хетта или лувийца Муртила в обучении ахейцев езде на колесницах, несомненное хеттское влияние на тип колесниц, известных по памятникам микенской эпохи и микенским табличкам.
Особого внимания заслуживает влияние хеттских мифологических поэм на греческую мифологию. В языке раннего греческого эпоса сохранились заимствования из хеттского. Это, например, гомеровское противопоставление «языка богов» и «языка людей» в греческом эпосе при соответствующем различии и в хеттских текстах. Представления об особом «языке богов» и «языке людей» известны не только в греческой, но и в других индоевропейских традициях (древнеисландской, древнеирландской).
Возможно, заимствованными хеттскими образами были гомеровские образы Страха и Трепета, упомянутые и в хеттском гимне Солнцу. Когда Солнце объезжало четыре стороны света, справа от него бежали Страхи, слева – Ужасы. Аналогию этому образу видят в тексте «Илиады», где Страх и Трепет запрягают колесницу бога Арея.
Сходства обнаруживаются между хеттскими текстами и греческими мифами в «Теогонии» Гесиода, греческого поэта VIII–VII вв. до н. э. Например, во многом похожи греческий миф о борьбе Зевса со змееподобным Тифоном и хеттский миф о сражении бога грозы со змеем. Имеются параллели между этим греческим мифом и хурритским эпосом о каменном чудовище Улликумми из «Песни об Улликумми». В ней упоминается гора Хацци, куда переселяется бог грозы после первого сражения с Улликумми. Эта же гора Касион (по Аполлодору) – место сражения Зевса с Тифоном.
В «Теогонии» история происхождения богов описывается как сопровождаемая насилием смена нескольких поколений богов. Эта история, возможно, восходит к хеттскому циклу о царствовании на небесах, согласно которому первым в мире царствовал бог Алалу (связанный с нижним миром). Он был свергнут богом неба Ану. На смену ему пришел бог Кумарби, который, в свою очередь, был низвергнут с престола богом грозы Тешубом. Каждый из богов правил девять веков. Последовательная смена богов (Алалу – Ану – Кумарби – бог грозы Тешуб) представлена и в греческой мифологии (Уран – Крон – Зевс). Совпадает в мифах древних народов мотив не только смены поколений, но и функций богов (хеттский Ану от шумерского Ан – «небо»; бог грозы Тешуб соответствует греческому Зевсу). Среди отдельных совпадений греческой и хеттской мифологий – греческий Атлант, который поддерживает небо, и хеттский великан Упеллури из «Песни об Улликумми», поддерживающий небо и землю. На плече Упеллури росло каменное чудовище Улликумми. Бог Эа лишил его силы, с помощью резака отделив его от плеча Упеллури; согласно хурритской мифологии, этот резак был впервые использован при отделении неба от земли. Как и в «Песне об Улликумми», в греческих мифах специальное орудие (серп) используется для отделения от земли (Геи) неба (Урана) и его оскопления. Этот же серп впоследствии стал оружием Зевса в борьбе с его отцом Кроном.
После гибели микенской цивилизации греки «забыли» то, чему научились у хеттов. Но традиции хеттской культуры после падения хеттского государства продолжались в культуре «позднехеттских» царств. Так, наследие хеттской культуры сохранилось в Лидийском царстве. Согласно Геродоту, один из лидийских царей носил традиционное хеттское имя Мурсил (сын Мурса). Крез, царь Лидии, преподнес общегреческому святилищу в Дельфах статую льва из чистого золота; древний царь Мелес обнес льва вокруг стены столицы государства Сард, дабы сделать этот город неприступным. Эти сведения позволяют предположить, что лидийцы, вслед за хеттами, почитали льва как священное животное, символ царской власти. У лидийцев существовал обряд закалывания и последующего сожжения щенков. Этот обряд может быть прямым продолжением хеттских ритуалов сожжения жертвенных щенков. Следы этого культа обнаруживаются и в лидийском сказании о Кандавле – герое, удавившем пса (подобно ирландскому Кухулину). Лидийские сказания, особенно сюжет о Кандавле, были широко известны в античном мире благодаря сочинениям Геродота и Гипонакта, греческого поэта, уроженца Лидии. Некоторые исследователи проводят прямые параллели между лидийскими сказаниями, сохраненными античными авторами, и хеттскими историческими текстами периода Древнего царства. Возможно, что благодаря лидийской традиции наследие хеттского царства еще раз дошло до античной Греции.
Ход событий, в результате которых погибло одно из сильнейших государств древней Анатолии, до сих пор точно не установлен. Ясно одно: смерть Хатти пришла из-за моря, с Балкан.
Из сильно разрушенных анналов Тутхалияса IV (начало царствования около 1250 г. до н. э.) видно, что при нем запад Малой Азии отпал от хеттов; анналы сообщают о хеттских кампаниях. Военные действия, видимо, приняли очень широкий размах, так как хетты, по словам анналов, только в одном походе пленными взяли 10 тысяч пехотинцев и 600 колесничих.
Около этого же времени в северо-западной части Малой Азии, как раз там, куда были направлены походы Тутхалияса, врагами была разрушена Троя VIIa – гомеровский Илион.
Зачем ахейцы пошли на Трою? Они столько лет провели на азиатской земле, между Дарданеллами и горой Илион, что уже и не знали, удастся ли им вообще когда-нибудь покорить Троаду, Приама и его народ конеборцев. «Ах, если бы я мог поведать обо всех наших страданиях, о тесноте и узких закутках, где и лечь-то невозможно! Был ли хоть один час, когда бы мы не стонали? А на земле наступил еще худший кошмар. Мы ложились лицом к вражеским укреплениям, и вечный дождь превращал наши одежды в шкуры зверей. О, эта так называемая зима, убивающая птиц, и эти несносные снега Иды! Или знойное оцепенение лета, когда полуденное море засыпает в ложе своем без единой волны и ветерка!» – горько жалуется вестник Агамемнона в трагедии Эсхила.
Современному путешественнику окрестности Трои не покажутся романтичными. Иду от Трои не видно. Взгляд замечает лишь низкие холмы вдали, степь, заросшую тамариском и чертополохом, да редкие пятна травы. Меж илистых берегов, среди осин и олеандров змеится Скамандр. У мыса Ройтес он теряется в темно-синих водах пролива, за которым видна лиловато-серая громада Херсонеса. Слышатся звуки, обычные для анатолийской земли, когда она обитаема: лай крупных белых собак, бродящих от деревни к деревне, оглушительные крики ослов, песни и короткие переклички крестьян, скрип колес телег, влекомых быками. В небе очерчивают круги несколько ягнятников-бородачей да иногда пролетает журавль. Порывистый северный ветер приносит с собой горьковатый запах, такой непохожий на ароматы греческих лесов. С востока изрытое тело холма выглядит разве что пригорком, но с запада он прочно господствует над долиной. Город окружает довольно грубой кладки стена, своими сводчатыми проходами напоминающая микенскую.
Конечно, Гомер преувеличил и приукрасил действительность. На этом маленьком клочке суши меж двух морей не уместилось бы 1186 кораблей и 10 тысяч воинов легенды, не считая временных жилищ, повозок, женщин и пленников! Да и в Трою никогда не втиснулось бы 50 тысяч солдат (а именно такова была, согласно Гомеру, численность армии Приама), ведь в крепости рядом с нынешней деревней Гиссарлык жило максимум две тысячи обитателей! Издалека поэты склонны видеть все в более крупных размерах и творят города под стать героям. Но и действительность производит впечатление: громадные укрепления, хорошо охраняемые башни и куртины, система ворот, вынуждающая врага проходить между двумя стенами, где полным-полно защитников, тесно слепленные домики, набитые посудой, продуктами, золотом и серебром. Посередине – небольшой дворец с мегароном, где царь, будучи истиным азиатским владыкой, содержал роскошный гарем. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы подогреть алчность горстки солдат, которые, разграбив несколько городков на Лесбосе, явились разорять побережье Дарданелл. Черные корабли вытащили на песок и окружили деревянной стеной. Одновременно осажденные и осаждающие ахейцы выжидали момента, когда недальновидность противника, а также прихваченные с собой талисманы и милость Неба отдадут в их руки сокровища Трои.
Зачем они начали войну? В отместку, утверждает легенда. Но похищение пастухом с Иды Парисом супруги царя Менелая, имевшее место в весьма отдаленных землях, в самом сердце Пелопоннеса, служило лишь предлогом. Прекрасная Елена, дочь Леды и Зевса, представляется историкам скорее богиней, чем женщиной. Это был удобный повод, ведь множество пиратов, с тех пор как существуют сосновые корабли, взяли за правило похищать на берегах Эгейского моря женщин и детей для любви и для торговли. Поэтому, чтобы сделать преступление гнусным, позор Менелая – нестерпимым, а отмщение – необходимым, легенда добавляет, что Парис нарушил один из наиболее священных законов греческой земли: будучи в гостях, соблазнил жену хозяина дома. Это не первый случай, когда войну пытались оправдать соображениями нравственности. Но вопрос об оскорбленной чести и поруганной добродетели выглядит надуманным и второстепенным. Невольно приходит в голову, что его сочинил какой-нибудь поэт лет через 500 после битвы. Нет, в Троянской войне, как и во многих других войнах XIII в. до н. э., ахейскими воинами руководили иные побуждения, нежели поиски женщины и отмщение за честь ее супруга.
Они воевали потому, что научились это делать, и потому, что каста воинов жила лишь войной и лишь ради нее. В те времена это повсюду считалось почетным занятием. Полководцы и правители уверяли, что воевать выгодно. На относительно бедной и перенаселенной земле властители карликовых государств с легкостью вербовали гребцов и пехотинцев, суля им славу и богатство.
Воспитанные на постоянных конфликтах с соседями и стычках между молодежью, обученные нападениям в чащах лесов особыми наставниками (в легендах это кентавры, силены и циклопы), получая советы от старых щитоносцев вроде Нестора и Феникса, юные господа обзаводились все более многочисленной армией по мере возмужания и роста их жадности. Став главарями вооруженных банд, они совершали набеги, чтобы увеличить поголовье скота, расширить личные земельные владения, поживиться и разбогатеть. Разумеется, трофеи приходилось делить, но по закону вождь оставлял себе львиную долю добычи. В этом – его привилегия, его честь. Если речь шла о земле, вождю предоставляли право выбирать наиболее понравившиеся ему угодья, и он получал их в пожизненное владение. Точно так же он забирал свою долю из числа плененных женщин, угнанных стад и награбленной медной посуды. Остальное делили по жребию. Рассчитывая завоевать расположение воинов и понимая, что щедрость – наилучшая политика, вождь из своей доли наделял особо отличившихся. Но если дележка была закончена и совершены последние обмены, горе тому, кто вздумал бы покуситься на чужую наложницу или раба.
Войны начинались из экономических, а не из сентиментальных соображений. Само собой, если противник в Дарданеллах, в Ливии или на Сицилии упорно защищал свою собственность и людей, война могла стать вопросом жизни и смерти, но для воина она все равно оставалась способом доказать свое право наслаждаться благами мира сего и владеть ими. Чтение глиняных табличек из Микен, Пилоса, Кносса приводит к выводу, что Троянская война была вызвана желанием трех-четырех ахейских монархов выпутаться из экономических неурядиц. Завладев сокровищами Трои, они хотели вернуть процветание собственным дворцам.
Троянцы же сражались за сохранение трех главных источников дохода: транзита товаров, прежде всего золота; золотых, серебряных, свинцовых и Цинковых рудников, разрабатываемых у подножия Иды в дне ходьбы от города; наконец – бесценного леса, из которого делали обшивку жилищ и корабли. Ограбив Трою, в том числе храмы, ахейцы вовсе не собирались там селиться или основывать колонию по соседству, хотя и заключали союзы со многими местными царьками. Их честолюбие не простиралось даже до того, чтобы контролировать Дарданеллы, а учитывая ненадежность ахейских судов, сомнительно, что они могли торговать в Черном море. Воины жаждали только сокровищ, пленников, породистых лошадей, дерева для строительства новых судов и доступа к массиву Иды в Троаде, ибо он был в десять раз богаче ресурсами, чем Ида на Крите. Ну и, конечно, каждый мечтал после окончания войны спокойно вернуться домой, но не без того, чтобы на обратном пути прихватить кое-какую добычу на берегах Фракии.
Ахейскую коалицию, возникшую из временного соединения противоположных, по сути, интересов, не вдохновляла ни религиозная идея, ни патриотизм, ни общие цели. Ничего, кроме выгоды.
Нет ничего невероятного в том, что Трою, как и утверждают гомеровские поэмы, датируемые VIII в. до н. э., разрушила коалиция «ахейцев», или данайцев, напавших на Трою с моря во главе с микенским царем Агамемноном. Правда, если судить по греческим легендарным генеалогиям, Троянскую войну следовало бы датировать лет на 50–75 позже; однако подобные ошибки в легендах вполне возможны. Конечно, похищение спартанской царицы Елены, жены брата Агамемнона – Менелая, троянским царевичем Парисом-Александром, троянский царь Приам и его 50 сыновей, вещая Кассандра, ссора Агамемнона с Ахиллом, единоборство Ахилла с Гектором, гибель Ахилла от стрелы Париса в Скейских воротах Трои, троянский конь, с помощью которого Илион был взят, – все это пока относится к области неподтвержденных фактов – нет и вряд ли будет возможность проверить, есть ли во всем этом какое-либо историческое зерно. Однако в главном легенда о Троянской войне не противоречит фактам, известным из письменных и археологических источников.
Согласно гомеровским поэмам и более поздней греческой традиции, «ахейцы», разрушив Трою и полностью уничтожив или взяв в плен ее население (лишь немногие бежали), стали возвращаться в свои города, но почти все из их предводителей, каждый по своей причине, поодиночке погибли. Немногие оставшиеся в живых благополучно правили в своих городах, а за ними их сыновья и внуки, пока – примерно на третьем поколении после Троянской войны – не началось из глубины Балканского полуострова вторжение дорийских племен во главе с потомками Геракла. В результате нашествия дорийцев «ахейская» цивилизация погибла и начался новый период в истории Греции, завершившийся созданием классической цивилизации в I тыс. до н. э.
Представление о том, что греков-«ахейцев» после Троянской войны разбросало едва ли не по всему Средиземноморью, не подвергалось древними никаким сомнениям. По археологическим данным, после разрушения Трои VIIa на ее месте вновь, хотя и очень ненадолго, возник город – Троя VIIб, который погиб примерно тогда же, когда и Хаттуса. В материковой Греции микенские города-крепости просуществовали еще в течение 50—100 лет, а затем были покинуты.
Какими бы масштабными события Троянской войны ни выглядели в изложении Гомера, но вылазки «ахейцев» к Трое, в юго-западную часть Малой Азии и на Кипр были лишь небольшим эпизодом в истории Восточного Средиземноморья той эпохи. Грандиозное переселение народов началось в глубине Балкан; основными группами, двинувшимися на Малую Азию и Средиземноморье, были пеласги, протоармяне и т. п.; греков же это движение затронуло только незначительно, и поэтому они не сохранили в своей исторической памяти всего его размаха. Участвовавшие в движении племена в науке условно обозначаются как «народы моря», хотя лишь часть из них действительно была связана с морем. Первое из упоминаний одного из «народов моря» встречается в надписи фараона Рамсеса II: они служили наемниками в египетском войске. Во время войны фараона Мернептаха с ливийцами в числе их союзников были ликийцы, лувийское племя юго-запада Малой Азии, этруски, которым легенда приписывала малоазийское происхождение, – все они также могли быть теми самыми «народами моря».
К концу XIII в. до н. э. Хеттское царство переживало упадок. Непрерывные походы серьезно ослабили страну. В государстве царил голод: хлеб для хеттов доставляли Египет и финикийский Угарит. Тутхалияс еще мог уделять много времени и внимания строительству храмов и приведению в порядок культов, дворцовых и храмовых архивов. При нем были созданы знаменитые рельефы скального святилища Язылыкая. Преемник и сын Тутхалияса Арнувандас III процарствовал недолго и умер бездетным; на престол взошел его брат (вероятно, единокровный, от наложницы отца) Суппилулиумас II, поддержанный неким «начальником писцов на деревянных табличках». По– видимому, возвышение нового царя вызвало широкое недовольство, и, как обычно, множество окраинных областей отпало. Однако родич Суппилулиумаса Тальми-Тешшуб, царь Каркемиша, поддержал его. Между тем угроза нашествия с моря и с суши усиливалась; из Угарита все наличные сухопутные войска были вызваны в центр Малой Азии.
Основной удар по Хаттусе (около 1200 г. до н. э. или несколько позже) был, по-видимому, нанесен племенами пеласгов и мушков. Как и где были повержены последние отряды хеттского двора, неизвестно. Мушки разгромили Хаттусу, другие земли хеттов и заняли их, истребив значительную часть населения. Этнос хеттов перестал существовать. Малая Азия представляла тогда коридор, продуваемый всеми ветрами: на хеттов во время их существования посягало множество племен с севера, запада, востока, тогда как, например, Египет имел более выгодное географическое положение, да и населения там было многим больше, чем в Хеттском царстве: полчища, опустошающие Малую Азию, доходили до него реже и уже с подорванными силами.
Разрушения в Хеттском царстве были катастрофическими: исчезли старые городские центры, исчезла клинописная писцовая традиция. За период почти в четыре столетия, последовавшие за падением Хаттусы, до нас не дошло из срединных частей Малой Азии ни одного письменного памятника. Лишь на юго-восточной окраине хеттского мира сохранились государства, претендовавшие на продолжение истории хеттов: таковы были царства Хатти в Мальдии, Хатти в Каркемише и некоторые другие.
Продвижение племен-завоевателей продолжалось сушей и морем на юг, через Сирию и Палестину. В надписи фараона Рамсеса III (начало XII в. до н. э.) сообщается: «Ни одна страна не устояла перед десницей их, начиная от Хатти; Кеде, Каркемиш, Арцава, Аласия были уничтожены. Они разбили лагерь посреди Амурру, они погубили его людей… Они надвинулись на Египет… Они наложили руки на страны до края земли, сердца их были полны упования, и говорили они: “Преуспеют наши замыслы”». Тем не менее, Рамсесу III удалось задержать передвижение «народов моря» на подступах к Египту. Пеласги и сикулы, будущие жители Сицилии, осели на побережье Палестины. Предположительно, именно пеласги, известные истории в дальнейшем как филистимляне, дали этой стране свое название. Данайцы, по-видимому, осели в равнинной Киликии, недалеко от залива Искендерон (Искендерун), в юго-восточной части Малой Азии. Каркемиш и Амурру оправились от поражения, а на Кипре сохранилось прежнее, «ахейское» население. Судьба других «народов моря» неизвестна, по-видимому, они переселились на запад Средиземноморья.
Почти одновременно с хеттской погибла и соперничавшая с ней крито-микенская цивилизация. Непрерывные военные набеги и внутренняя нестабильность способствовали в течение XII в. до н. э. все большему ее упадку, а затем переселение в микенские области северогреческих племен дорийцев привело к ее окончательному крушению…