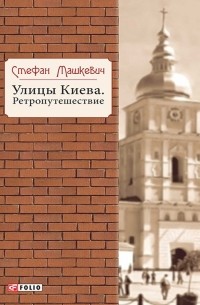Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
1919:. «Меняя, баш на баш, отчизны имена…»
Идея переименования улиц и городов на революционный лад родом оттуда же, откуда и большинство подобных начинаний – из Великой французской революции. В апреле 1791 года, в день погребения одного из видных деятелей этой революции, командира батальона Национальной гвардии Оноре Мирабо, писатель и политик маркиз Шарль де Вильетт обратился к собранию якобинцев с письмом, которое начиналось так:
Frères et Amis,
J’ai pris la liberté d’effacer à l’angle de ma maison cette inscription: quai des Théatins, et je viens d’y substituer: quai Voltaire <…> Nous aurons toujours un Voltaire et nous n’aurons plus jamais de Théatins.
[ «Братья и Друзья, я позволил себе стереть с угла своего дома надпись: набережная Театинцев, и только что заменил ее на: набережная Вольтера. <…> Вольтер у нас будет всегда, а театинцев не будет больше никогда»]. Театинцы – священнический орден Римско-католической церкви. «Я предлагаю добрым патриотам рю Платрьер [Известковой улицы. – С. М.], – продолжал де Вильетт, – поместить на углах своих домов имя Жан-Жака Руссо. Для чувствительных сердец, для пылких душ важно вспоминать, проходя по этой улице, что здесь на третьем этаже жил Руссо, и едва ли важно, что в былые времена здесь обжигалась известь. <…> Мне подумалось, что декрета Национального собрания, которое готовит народные празднества в честь Мирабо, Жан-Жака и Вольтера, было бы вполне достаточно для такого незначительного нововведения». Действительно, через несколько дней эти два переименования были утверждены, а шоссе д’Антен, где в одном из домов скончался Мирабо, было названо в его честь. Революционеры быстро вошли во вкус: просьбы о переименовании улиц стали поступать едва ли не ежедневно. Затем взялись за названия секций (районов) Парижа, после чего дело приобрело общенациональный масштаб: Конвент поручил Комитету народного просвещения разработать проект всеобщего переименования площадей и улиц во всей Франции. «Не естественно ли было бы с площади Революции вступать на улицу Конституции, которая приводила бы к улице Счастья?» – риторически вопрошал автор проекта, конституционный епископ Грегуар. Еще через два-три года добрались и до названий городов: «за недостаточно современный образ мыслей» лишились своих имен Тулон и Лион; Марсель превратился ни много ни мало в «Безымянный». Новые топонимы частично исчезли во время термидорской реакции, частично были отменены Наполеоном, а окончательно с ними было покончено в 1814 году.
В Киеве первыми, меньше чем через месяц после революции, были переименованы не улицы, а днепровские пароходы. Поскольку они принадлежали частному «Обществу пароходства по Днепру и его притокам», для их переименования достаточно было постановления правления этого общества. Так 29 марта 1917 года получили новые имена пять пароходов, ранее называвшиеся в честь членов царской семьи: «Император Николай II» стал «Ломоносовым», «Александр III» превратился в «Кременчуг», и так далее. Лишь «Александр II» сохранил свое имя – возможно, благодаря репутации «царя-освободителя».
Первые проекты революционного переименования улиц появились уже весной 1917 года (о чем будет рассказано ниже). Ни один из проектов 1917–1918 годов реализован не был. Воплотили революционный порыв на карте города наиболее решительные из революционеров – большевики – в свое второе пришествие в Киев, начавшееся в феврале 1919 года. В конце того же месяца был опубликован первый (насколько нам известно) советский проект переименования киевских улиц. Проект был выработан на совещаниях коллегии городского отдела Исполнительного Комитета, на которые были приглашены «представители фракций политических партий, стоящих на советской платформе, а также представители культурно-исторических обществ». Председателем коллегии стал Владимир Алгасов (настоящая фамилия Бурдаков. До лета 1918 года был левым эсером, осенью того же года вовремя «почувствовал момент» и вступил в РКП(б), что, впрочем, не спасло его от ареста, объявления врагом народа и расстрела в 1938 году). В числе членов коллегии были профессор Киевского университета, фольклорист, этнограф Андрей Лобода, заведующий Киевским городским художественно-промышленным и научным музеем Николай Беляшевский (именем которого в 1968 году была названа улица в Святошине) и историк, этнограф, профессор Киевского университета, академик ВУАН Орест Левицкий. 20 февраля 1919 года на совещании коллегии были выработаны принципы, которыми надлежало руководствоваться: «Новые названия будут присвоены прежде всего улицам, имена которых связаны с губернаторско-царским режимом последних десятилетий или носящим названия в честь местных богатеев. Наименования же улиц, связанные с тысячелетней историей Киева, будут не только сохранены, но даже будут приняты меры к восстановлению старых исторических названий». О характере самих новых названий Левицкий высказался вполне однозначно: «Новые названия будут связаны с именами тех из деятелей мировой, российской и украинской революции, которые в течение последнего столетия боролись за свержение старого порядка. Так именно стоит вопрос этот в Петрограде и Москве, где имена Радищева, Бакунина, Маркса почтены одинаково с именами революционеров той революции, которой мы ныне являемся свидетелями».
На совещании 23 февраля, «после оживленных прений», был выработан и представлен на утверждение Исполнительного Комитета конкретный проект. Всего предлагалось заменить 41 топоним – наименования улиц, площадей и парков. Больше половины новых названий имели четко выраженный идеологический оттенок (Маркса, Энгельса, Коммунистическая, Революции, Советская…). Значительная часть улиц должна была получить имена украинских ученых, писателей и поэтов. Не приводя здесь полный список, упомянем некоторые предложения, в конечном итоге не воплощенные в жизнь: Тарасовская – улица Ивана Франко; Паньковская – Коцюбинского; Караваевская – Драгоманова; Безаковская – Украинская; Назарьевская – Антоновича; Терещенковская – Герцена; Кузнечная – Чернышевского; Прорезная – Радищева; Фундуклеевская – улица Освобождения Труда (!). Лишь три исторических названия планировалось восстановить: Кудрявскую улицу собирались переименовать в Кудрявец, Большую Подвальную – в Ярославов Вал, а для того участка Трехсвятительской, который сегодня называется Десятинной улицей, предлагалось любопытное название – Княжий Двор. Помимо этого, Николаевский парк должен был стать Университетским. Наконец, четырем улицам, переименование которых обсуждалось, решено было оставить прежние названия: Крещатик, Пироговская, Ботаническая (то есть Никольско-Ботаническая), Глубочица.
Окончательное решение было принято в конце марта. Переименование было официально оформлено постановлением Коллегии городского хозяйства, вступившим в силу с 23 марта 1919 года. Было заменено меньше топонимов, чем планировалось. Однако изменение проекта за предшествовавший этому месяц носило четко выраженный революционный характер: все предложения о восстановлении исторических названий и присвоении имен украинских деятелей (за исключением Тараса Шевченко) были исключены. Полный список выглядел так:
1. Лютеранская – ул. Энгельса.
2. Александровская – ул. Революции.
3. Левашевская – ул. Либкнехта.
4. Арсенальная площадь – площадь Революции.
5. Царская площадь – площадь III Интернационала.
6. Никольская – ул. Январского восстания.
7. Александровская площадь – Красная площадь.
8. Институтская – ул. 25 Октября.
9. Николаевская – ул. Маркса.
10. Банковая – ул. Коммунистическая.
11. Бибиковский бульвар – бульвар Тараса Шевченко.
12. Николаевская площадь – площадь Спартака.
13. Екатерининская – ул. Розы Люксембург.
14. Безаковская – ул. Коммунистического Интернационала.
15. Терещенковская – ул. Чудновского.
16. Кузнечная – ул. Пролетарская.
17. Фундуклеевская – ул. Ленина.
18. Прорезная – ул. Свердлова.
19. Бол. – Васильковская – ул. Красноармейская.
20. Межигорская – ул. Переца.
21. Думская площадь – Советская площадь.
22. Совская – ул. Андрея Заливчего.
23. Столыпинская – ул. Гершуни.
24. Трехсвятительская – ул. Жертв Революции.
25. Мариинский парк – Советский парк.
26. Николаевский парк – Червоный парк.
27. Суворовская – ул. Урбановича.
28. Мариинско-Благовещенская – ул. Леонида Пятакова.
29. Бульварно-Кудрявская – ул. Нероновича.
30. Б.-Житомирская – ул. Горовица.
31. Царский и Купеческий сады – Сад 1 мая.
32. Липский переулок – ул. Бориса Донского.
33. Фабричная – ул. Крейцберга.
34. Провиантская – ул. Гали Тимофеевой.
35. Полицейская – ул. Зарудного.
36. Деловая – ул. Бочковского.
Все эти топонимы подпадают под категорию «советские», хотя не все суть большевистские. Андрей Заливчий, Александр Зарудный, Леонард Бочковский были членами Украинской партии социалистов-революционеров (коммунистов), которая весной 1919 года действовала в Киеве вполне легально. Не считались врагами и российские левые эсеры, хотя они и разошлись с большевиками в феврале 1918 года по вопросу о Брестском мире. Соответственно, террористы Григорий Гершуни (один из основателей «боевой организации» Партии социалистов-революционеров) и Борис Донской (левый эсер, убийца Германа фон Эйхгорна) также были удостоены киевских топонимов.
Когда в августе 1919 года большевиков вытеснили из Киева, новые названия (которые и при них-то мало кто использовал), естественно, тотчас же вышли из употребления. Вернувшись в декабре того же года, большевики подтвердили предыдущий список переименований. Но и тогда новые названия не очень закрепились, а весной 1920 года продлившееся чуть менее месяца пребывание в городе поляков, разумеется, снова способствовало его дебольшевизации. Через четыре месяца после окончательного установления власти большевиков, в октябре 1920 года, в постановлении президиума Киевского губревкома, в пункте «О праздновании 3-й годовщины Великой Октябрьской Революции» было записано: «Предложить Коммунотделу восстановить революционные названия главных улиц города Киева». В течение следующих нескольких лет состоялись новые единичные переименования (Караваевской, Гимназической, Владимирской улиц, Софийской площади). По-прежнему, однако, киевляне не спешили «перестроиться» на новый лад. Фундуклеевскую как привыкли называть Фундуклеевской, так и продолжали… В 1922 году, предполагая выпустить новый план Киева, издательство «Пролетарская правда» намеревалось указать на плане «наряду с новыми также и все старые наименования улиц»: очевидно, понимали, что иначе возникнет серьезная путаница. Действительно, на плане, который предположительно датируется 1922-м или 1923 годом (судя по тому, какие улицы нанесены на него под новыми названиями), видим «бульвар Тараса Шевченко (Бибиковский бульвар)», «ул. Леонида Пятакова (Мар. – Благовещ.)» и т. п.
В газетной заметке 1925 года рассказывается о том, как письмо, отправленное на улицу Николая Леонтовича, блуждало по Киеву дней восемь – предположительно, его пытались доставить на (бывшую) Николаевскую, потом на Леонтьевскую… пока на почте не разобрались, что Леонтовича – это все-таки бывшая Гимназическая. (Правдивость заметки, впрочем, может быть поставлена под сомнение. Насколько нам известно, улицы Николая Леонтовича в Киеве никогда не существовало – была улица Композитора Леонтовича; не было и Леонтьевской улицы.)
Бывший редактор газеты «Киевлянин» Василий Шульгин описал в повести «Три столицы» свой приезд в Киев в декабре того же 1925 года. «Белоэмигрант» Шульгин приехал на родину, как он думал, тайно, боясь быть узнанным и разоблаченным. Сев в трамвай, поднимавшийся с Подола на Крещатик, он вознамерился купить билет…
– Вам куда билет, гражданин?
– До Николаевской.
– До Николаевской?
– Ну да, да, до Николаевской.
В это время я почувствовал, как на меня обернулись в вагоне, как будто я сказал что-то невозможное. А кондуктор поправил наставительно сурово:
– До улицы Исполкома!..
Я понял, что сделал гаффу. Поправился:
– Да, да… До Исполкома…
При этом я махнул рукой, так сказать, в объяснение:
– Всегда забудешь!
Так как я имел вид «провинциальный», то мне простительно. Но тут кстати могу сказать, что Николаевская – это, кажется, единственная улица, которую «неудобно» называть в трамвае. Все остальные можно говорить по-старому.
Кондуктор по обязанности выкрикивает новые названия: «Улица Воровского», «Бульвар Тараса Шевченки», «Красноармейская», а публика говорит Крещатик, Бибиковский бульвар, Большая Васильковская. Вот еще нельзя говорить «Царская площадь». А надо говорить: «Площадь Третьего Интернационала».
Насколько этот эпизод правдив, знал, конечно, только сам автор. Заметим, что новое название Николаевской – не Исполкома, а Карла Маркса.
Наконец, в 1927 году Киевский горисполком издал приказ о запрете использования старых названий под страхом административной ответственности; единственным «послаблением» было то, что на переименованных улицах вывесили таблички с новым названием сверху и старым, маленькими буквами – снизу. Но это касалось официального контекста. Переучить людей было куда сложнее. В 1936 году некий студент обратился в редакцию газеты «Бiльшовик» с возмущенным письмом, начинавшимся так:
Щодня ви можете почути в трамваї № 1:
– Ви на Полiцейськiй сходите?
– Зараз Полiцейська, – монотонно промовляє кондуктор.
Цей дiалог звучить дико, особливо для пiонерiв. Адже «Полiцейську» вулицю давно переiменовано. Це ж саме сталося i з Кузнєчною вулицею, переiменованою на вул. М. Горького. До цього часу на цiй вулицi навiть вивiски не змiненi. Все це принижує значення перейменувань.
Далее предлагалось организовать популярные лекции с целью воспитания горожан в правильном духе…
И всё же в быту многие киевляне вплоть до войны (а старшее поколение – и после) продолжали пользоваться привычными старыми названиями.
Историческое название Большой Васильковской улицы очевидно: старая (да и нынешняя) дорога в направлении Василькова. Несмотря на его нейтральность, процесс идеологизации центральных топонимов при большевиках затронул эту улицу в числе первых: она стала Красноармейской. Во время немецкой оккупации исторический топоним вернули, но в 1944 году название «Красноармейская» было подтверждено. Линия метро, проходящая под этой улицей на всем ее протяжении, называется Куреневско-Красноармейской. Одна из станций этой линии, открытая в 1984 году, также получила название «Красноармейская», но в 1993 году была переименована в «Дворец „Украина“».
Вопрос о возвращении Красноармейской улице исторического названия был поднят в конце прошлого века. В 2005 году комиссия по наименованиям и памятным знакам поддержала предложение о таком переименовании. Официального решения Киевсовета тогда принято не было, но многие сочли, что улица переименована, и на некоторых домах появились таблички с названием «Большая Васильковская». На самом деле переименование состоялось 13 ноября 2014 года, причем по странному недоразумению улица попала в раздел «Перелік вулиць та провулку, які перейменовуються у місті Києві», а не в раздел «Перелік вулиць та площі, яким повертаються історичні назви у місті Києві», как следовало бы.
Топонимический конфуз. Одни полагают, что улица уже переименована, другие – что еще нет… 2013 год. Фото автора
Подъем Большой Васильковской выводит на одну из центральных площадей города – площадь Льва Толстого (говоря о ней в неформальном контексте, обычно ограничиваются фамилией). Насколько часто в позапрошлом веке об этом месте говорили как о площади, доподлинно неизвестно. На картах города ее не обозначали. В списке площадей, получивших наименования в 1869 году, ее нет. В конце 1880-х годов, когда улица Толстого еще называлась Шулявской, встречается упоминание о «Шулявской площади» как о начальном пункте будущей линии конки. (Буквально за несколько лет до этого, как мы уже упоминали, Шулявской площадью называли квартал между Шулявской, Паньковской и Ботанической улицами.) Но когда улицу переименовывали в Караваевскую, о площади никакой речи не было – так что, по всей вероятности, официально такого объекта в городе не существовало. Вместе с тем, в 1901 году в газетной заметке упоминается «фонтан на Караваевской (Шулявской) площади». В репортаже о праздновании 1 мая 1919 года снова встречаем Караваевскую площадь; но в официальном списке улиц 1920 года Караваевская улица есть, площади – по-прежнему нет. Название «площадь Толстого» появляется в 1935 году, когда в преддверии пуска первой в Киеве троллейбусной линии это место реконструировали (и построили троллейбусное разворотное кольцо); но и тогда говорили попеременно о «площади Толстого» и «новой площади на углу ул. Толстого и Пушкинской». Наконец, 11 ноября 1938 года Президиум Киевского горсовета официально постановил назвать «площадь на Красноармейской улице (на перекрестке с ул. Толстого)» площадью Л. Н. Толстого. В 1944 году официально утвердили название «площадь Льва Толстого».
Площадь Льва Толстого. 1950-е годы. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного
Площадь Льва Толстого. 2003 год. Фото автора
Проходной двор ведет с площади на улицу Шота Руставели. Она появилась на рубеже 1830—1840-х годов как Малая Васильковская – будучи параллельна Большой Васильковской. В 1926 году улица получила название, которое четвертью века позже ни в одном советском городе было бы невозможным, – в честь Бера Борохова, идеолога сионистского движения, одного из основателей филологии языка идиш (и члена украинской Центральной Рады). Впрочем, уже через десять лет некий студент по фамилии Гольдин прислал в редакцию газеты «Більшовик» письмо следующего содержания:
Я з здивованням дізнався, що вулиця Борохова, на якій я живу, має ім’я лідера дрібнобуржуазної сіоністської партії «Поалей-Ціон». Тов. Марковський [автор более ранней заметки в той же газете. – С. М.], безумовно, має рацію, пропонуючи перейменувати цю вулицю. З свого боку пропоную назвати її ім’ям Лазаря Мойсеєвича Кагановича.
Улицу действительно переименовали, но годом позже. В один и тот же день, 29 июля 1937 года, два из киевских еврейских топонимов были заменены грузинскими: улица Гершуни стала улицей Ладо Кецховели (нынешняя Гончара), улица Борохова – Шота Руставели.
Короткая, длиной в два небольших квартала, улица, пересекающая бывшую Малую Васильковскую, упоминалась во второй половине XIX века как Маловасильковский переулок. Первичное же ее название, восходящее к середине того же века, – Бульонская; но к 1869 году это название оказалось дублирующим, и улицу назвали в честь Рогнеды, жены князя Владимира Святославича, – Рогнединской. Ноябрьское переименование 1938 года превратило ее в «улицу 12 декабря». Мало кто сегодня вспомнит событие, к которому отсылает это название: речь о дате первых выборов в Верховный Совет СССР, состоявшихся в 1937 году. Впоследствии и сами большевики решили, что бравада на сей счет нецелесообразна (возможно, с учетом того, что некоторые избранные тогда «слуги народа» вскоре были объявлены его же, народа, врагами). В 1944 году улица снова стала Рогнединской, как мы знаем ее и сегодня.
Внизу она упирается в Эспланадную улицу. Это название восходит ко временам Киевской (Печерской) крепости; здесь заканчивалась эспланада (раньше говорили «экспланада») – незастроенная территория между самой крепостью и городскими кварталами. Три последовательных переименования этой улицы синхронны с переименованиями Рогнединской. В 1869 году, также из-за дублирования, она стала Прозоровской – в честь князя Александра Прозоровского, генерал-фельдмаршала, в конце XVIII века – главнокомандующего «в столичном городе Москве и во всей Московской губернии». Ударение в фамилии падает на предпоследний слог, так что, вообще говоря, и улицу следовало бы называть Прозорóвской – но в Киеве говорили «Прозóровская». Топоним этот исчез. В ноябре 1938 года часть Прозоровской от Бассейной до Жадановского (Жилянской) назвали улицей Анри Барбюса – с примечанием: «Вулиця в майбутньому буде магiстраллю для розвантаження стадiону». Магистралью она так и не стала, а в результате реконструкции местности вокруг того же стадиона укоротилась на квартал – теперь она доходит только до улицы Саксаганского. В 1944 году название «Эспланадная» было восстановлено, а в начале 1952 года улице присвоили имя советского партийного деятеля Валериана Куйбышева. В первой половине 1990-х годов (когда точно, неизвестно) историческое название «Эспланадная» было восстановлено во второй раз.
Эспланадная улица. Трамвайные пути здесь использовались всего четыре года. 2003 год. Фото автора
Пройдя на северо-восток, попадаем на еще одну из числа немногих «избранных» улиц центра Киева, которые никогда не переименовывались, – Бассейную. Не до конца ясно лишь происхождение этого названия (возникла улица в 1830-е годы). По одной версии, здесь раньше находился бассейн питьевой воды, питавшийся подземными источниками; по другой версии, название происходит от небольшого бассейна-фонтана на Бессарабской площади; наконец, по третьей версии, улица обязана своим именем «Бассейной канаве». Под Бессарабской площадью был проложен коллектор; из него сточные воды с Крещатика поступали в эту канаву, представлявшую собой ответвление Кловского ручья, который в свою очередь впадал в Лыбедь. Когда в конце XIX века под Крещатиком проложили новый канализационный туннель, нужда в канаве отпала; ее засыпали, а на вновь образовавшуюся территорию расширили Бессарабский рынок. В первые послевоенные годы рынок снова «загнали в рамки» здания на площади, а по центру Бассейной улицы устроили бульвар – не доживший, увы, до нашего времени.
Торговые ряды на Бассейной улице. 1935 год
К четной стороне Бассейной примыкает самая новая улица центра Киева – возникшая при реконструкции Бессарабского квартала в начале 2000-х годов под названием Новый проезд, а в апреле 2003 года названная улицей Павла Скоропадского, в честь бывшего царского генерала, занимавшего пост гетмана Украинской Державы в 1918 году. Впрочем, ни одного адреса, в который входило бы это название, в Киеве не существует. Улица настолько коротка, что к ней не приписано ни одного дома! (Адрес здания, занимающего всю ее четную сторону, – Большая Васильковская, 9/2.)
Бессарабская площадь и Бибиковский бульвар (бульвар Шевченко). На горизонте – здание университета. Конец XIX в.
Начало Бассейной улицы – одна из наиболее известных площадей Киева, Бессарабская площадь, или попросту «Бессарабка». Название это старое и возникшее, по всей видимости, достаточно спонтанно. Петр Лебединцев так объясняет его происхождение:
Бессарабка была [в 1830-е годы. – С. М.] окраина г. Киева – подобно тому, как Бессарабская область составляла окраину Киевской Украины, служившую тогда местом для укрывательства беглых помещичьих крестьян. На Киевской Бессарабке в нескольких лачужках под горой тоже собиралась всякая бродячая вольница, отчего произошло и название этой местности.
У площади было еще два названия. На составленном в 1855 году плане Киева она именуется Константиновской – от названия существовавшего здесь же фонтана. В списке переименований 1869 года читаем: «[площадь] в конце Крещатика, где фонтан „Моряк“ [назвать площадью] Богдана Хмельницкого, которому предполагается поставить на этой площади памятник, как положившему начало воссоединения югозападного края с московским государством». И здесь возник дуализм. В части документов продолжали использовать старое название; в 1871–1873 годах городская дума, рассматривая вопрос о перенесении сюда рынка, вела речь о Бессарабской площади. Вместе с тем, на официальном плане города 1874 года она обозначена как площадь Богдана Хмельницкого. В начале 1880-х годов окончательно решили, что «устройство памятника Богдану Хмельницкому на Бессарабской площади, независимо от недостаточности последней для возведения на ней обширного земляного кургана под памятник, решительно невозможно уже потому, что с закрытием на этой площади базара вся центральная часть города с огромным населением будет подвергнута крайним неудобствам и затруднениям в сообщении с остальными городскими рынками, слишком удаленными от центра города». В 1881 году приняли решение об установке памятника на Софиевской площади. После этого название «Площадь Богдана Хмельницкого» потеряло всякий смысл; генерал-губернатор и городская управа обсуждали вопрос о ее официальном переименовании в Бессарабскую площадь, но решение, насколько нам известно, принято не было. В результате оба названия продолжали употребляться параллельно. На картах начала XX века чаще встречается «Бессарабская площадь», но еще и в официальном «Алфавите улиц г. Киева» 1920 года находим «площадь Богдана Хмельницкого».
Полутора десятилетиями позже, когда столицу УССР перенесли из Харькова в Киев, в старом городе запланировали построить помпезный правительственный центр. По плану, «подвинуться» должны были не только исторические здания, но и скульптура гетмана. Монумент предполагалось перенести туда, где когда-то его и планировали поставить, – «на Бессарабку, на площадь Богдана Хмельницкого». Этого сделано не было. Лишь в 1944 году было официально зафиксировано наименование «Бессарабская площадь», причем и здесь в качестве ее прежнего официального названия указывалось «площадь Богдана Хмельницкого».
Бессарабский рынок. 1910-е годы
Бессарабская площадь и рынок. 1959 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного
5 декабря 1946 года, в день 10-летия сталинской конституции, здесь все-таки появился памятник – но не предводителю восстания середины XVII века, а вождю мирового пролетариата. Пережив и советскую власть, и нескольких украинских президентов, статуя Ленина была все-таки сброшена наземь 8 декабря 2013 года группой людей, которая предпочла не поступать по закону, а самочинно реализовать свое нежелание видеть главного большевика в центре Киева.
От Бессарабки вверх, к Липкам, поднимается улица с названием, в котором отразился уникальный киевский колорит (и которое, к счастью, с момента своего появления по сути не менялось), – Круглоуниверситетская. Название это кажется нелогичным (улица ведет аккурат в противоположную от университета сторону!), но становится понятным, если вспомнить, что изначально Университетской улицей назывался также бульвар Шевченко. Итак, была одна, «проектированная по общему плану города улица, из новозастроенного квартала Липок, к месту, где назначено возвести здание для Императорского Университета Св. Владимира, наименованная Университетскою». Ее участок от Бессарабки до Липок называли также Университетским спуском. Впоследствии, благодаря своей форме – «развитою линиею в полуцыркуль, для уменьшения крутости», как охарактеризовал улицу строительный комитет городской думы, эта часть получила свое нынешнее название (до революции встречался также вариант «Университетская Круглая»). Благодаря такому «серпантину» улица стала самым пологим путем от Бессарабки к Липкам. С 1905-го по 1941 год здесь ходили трамваи.