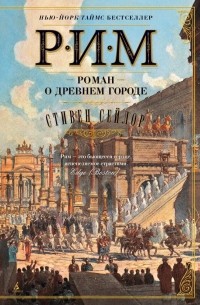Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава II. Явление Полубога
850 год до Р. Х
Какусу казалось, что когда-то он был человеком.
Он родился высоко в горах. Как и все прочие в деревне, имел две руки и ходил на двух ногах и, следовательно, был не животным, как робкие овцы или свирепые волки, а человеческим существом.
Однако он всегда отличался от остальных. Они ходили ровной походкой, а Какус хромал, потому что одна его нога была не только короче другой, но еще и странно изогнута. Все прочие могли стоять, выпрямившись во весь рост и опустив руки вдоль тела. Спина Какуса была сгорблена, руки искривлены. Глаза, правда, отличались зоркостью, но со ртом было что-то не так: нормальные слова бедняга не выговаривал, и, что бы ни пытался сказать, получалось лишь невнятное бормотание, больше всего походившее на «какус». По этому звуку его и назвали. Лицо Какуса отличалось исключительным уродством: какой-то мальчишка сказал ему, что, наверное, его физиономию вылепил из глины горшечник, а потом бросил на землю и наступил на нее ногой.
Мало кто смотрел на него прямо. Знавшие его отводили глаза из жалости, видевшие впервые шарахались в испуге. Вообще-то, младенцев, рождавшихся с такими уродствами, убивали. Но мать Какуса упросила оставить ее чадо в живых, упирая на то, что мальчик появился на свет необычайно крупным, а значит, вырастет силачом, что важно для общины. Она оказалась права. Еще подростком Какус превзошел ростом и силой всех взрослых мужчин в деревне.
Когда это произошло, селяне, раньше жалевшие его, стали относиться к нему с опаской.
Потом пришел голод.
Зима была сухой и холодной, весна – тоже сухой, но жаркой. Лето оказалось еще суше и жарче. Речушки превратились в ручейки, в тонкие струйки, а потом и вовсе иссякли. Посевы пожухли и погибли. Овец кормить было нечем. Когда казалось, что хуже уже некуда, однажды ночью гора затряслась настолько сильно, что обвалилось несколько хижин. Вскоре после этого с запада пришли черные тучи. Они вроде бы сулили дождь, но вместо него обрушили вниз яростные молнии. Одна из них подожгла сухую траву, пожар охватил весь склон, и хижина, в которой хранился последний запас зерна, сгорела.
Жители деревни обратились к старейшинам: бывало ли так плохо раньше и что можно сделать?
Один из старейшин вспомнил похожее время из своего детства, когда число селян слишком выросло и несколько неурожайных лет привели к голоду. Положение было отчаянным, но именно на такой крайний случай существовал обряд священной весны. С великими нуменами Небес и Земли заключалось соглашение: если община переживет зиму, то с приходом весны группу детишек изгонят за пределы деревни, предоставив собственной участи. Спору нет, средство было суровое, даже жестокое, но ведь и времена были суровые. Старейшины призвали народ прибегнуть к обряду священной весны, и отчаявшиеся поселяне согласились.
Сколько детей надлежало изгнать, определили с помощью гадания. В безветренный день старейшины, с вязанкой сухого хвороста, взобрались на каменный выступ нависавшей над деревней горы, развели костер и, дождавшись, пока столб дыма разделит небосвод пополам, стали считать птиц, пересекавших разделительную черту. За то время, пока костер горел, дымовую черту пересекли семь птиц, а стало быть, в изгнание предстояло отправить семерых детей.
Их выбирали по жребию – важно было дать понять народу, что все зависит от воли нуменов удачи, а не от хитростей родителей.
На глазах у всех дети выстроились в шеренгу, и перед ними пронесли горшок, наполненный маленькими камушками – все белые, кроме семи черных. Один за другим дети запускали руку внутрь, брали, не глядя, камушек, а потом, по сигналу, одновременно раскрывали ладони. Разумеется, когда выяснилось, кому достались черные камни, было немало слез, но, похоже, увидев таковой в разжавшейся ручище Какуса, даже его мать испытала облегчение.
Та зима оказалась мягче предыдущей: хотя и пришлось терпеть лишения, никто в деревне не умер. Очевидно, обряд священной весны умиротворил нуменов и сохранил деревню, поэтому, когда настала весна и распустились первые почки, было решено отправлять детей.
Согласно обряду, детей к новому месту их обитания должно было направить животное. На этом сходились все старейшины, но никто не помнил, по каким признакам следует это животное выбирать. Наконец самый старый и мудрый из них заявил, что животное должно само дать о себе знать, и, само собой, в ночь перед изгнанием детей нескольким старейшинам приснился стервятник.
На следующее утро семерых детей забрали из их домов. Остальные дети и все женщины деревни тоже покинули хижины, и их рыдания разнеслись по всему горному склону. Старейшина с самым зорким зрением взобрался на уступ, долго озирал небосклон и наконец, издав крик, указал на юго-запад, где над горизонтом кружил стервятник.
Мужчины вооружились дубинками. Зазвучали барабаны и трещотки, старейшины завели песнь, которая должна была закалить мужские сердца и придать людям решимости. Ритм ускорялся, звуки становились все громче, и наконец мужчины, потрясая дубинками, устремились к семерым жертвам жребия и погнали их из деревни.
Следующие дни были ужасны.
Каждое утро изгнанные дети искали в небе стервятника и, если видели его, двигались за ним. Иногда он приводил их к падали, еще годной в пищу, но нередко – к обглоданным скелетам или к такой гнили, какой не клевали и сами падальщики. Отчаяние вынудило их охотиться на все, что движется, и пробовать на вкус любое растение, однако все это время голод был их постоянным спутником. Какус, слишком неуклюжий, чтобы охотиться, но такой большой, что ему требовалось больше всех еды, был для прочих обузой. Зато по ночам, когда вокруг завывали хищники, защитить их мог только этот неуклюжий силач.
Первой умерла одна девочка. Ослабев от голода, она упала с высокого уступа и расшибла голову. Дети заспорили, что делать с ее телом. Немыслимое предложение высказал отнюдь не Какус, а другой мальчик. Остальные согласились, и Какус поступил так же, как все. Может быть, именно тогда, впервые отведав человечины, он начал превращаться в нечто, отличное от человека.
Мало-помалу блуждания привели их в низину, к юго-западу от гор. Дети не наедались вдоволь. Здесь же было больше дичи и съедобных растений, а в реках хорошо ловилась рыба.
Следующим умер мальчик, ранее повредивший ногу. Когда дети наткнулись на медведя и стали в панике убегать, он отстал из-за хромоты. Медведь поймал его и сильно подрал, но, когда Какус устремился к мальчику, пронзительно крича и размахивая веткой, зверь испугался и, нелепо подбрасывая зад, удрал.
В тот вечер дети опять ели человечину. По справедливости Какусу досталась самая большая порция.
Прошло лето, а они так и не нашли себе постоянного пристанища. Еще один изгнанник умер, съев ядовитый гриб, а другой скончался, провалявшись несколько дней в лихорадке. Несмотря на голод, уцелевшие дети не осмелились съесть тела умерших от яда и болезни – их похоронили в неглубоких могилах.
Из семерых изгнанников до зимы дожили трое, в том числе и Какус. Та зима выдалась особенно суровой и холодной. Голые деревья дрожали на пронизывающем ветру, земля сделалась твердой как камень, животные исчезли. Даже самый искусный охотник не смог бы выжить, не сделав того, на что решился Какус.
Может быть, главная перемена произошла в нем именно тогда, когда он решил не полагаться на очередного медведя или еще какую-нибудь случайность, а позаботиться о пропитании самому. Он поступил так, как должен был поступить по самой простой и естественной причине – чтобы утолить голод и выжить. Однако неуклюжий урод проявил осмотрительность и не стал убивать обоих спутников сразу. Сначала он убил того, который был посильнее, и дал более слабому пожить чуть подольше. Не один раз тот ребенок, его последний спутник, пытался бежать – Какус ловил его, но не убивал до последней возможности, до того момента, пока голод не сделался невыносимым. Он терпел до конца, потому что знал: как только не станет его спутника, он столкнется с тем единственным, что страшнее голода, – с одиночеством.
Весну Какус встретил один. Ночами он часто лежал без сна, прислушиваясь к звукам пустыни и все более отдаляясь от мира людей.
Правда, продолжая скитаться, он порой встречал путников и натыкался на деревни, но люди не хотели иметь с ним дела. Они боялись его, и было отчего: этот урод похищал и ел их детей. Когда это стало известно всем, люди принялись охотиться на него и несколько раз были близки к успеху, но в последний момент Какус всякий раз ускользал. Выживание в дикой природе научило его звериным уловкам, а соперничать с ним в силе не смог бы ни один мужчина: за прошедшее время он вырос еще больше, став крупнее и мощнее любого человека.
Времена года менялись по заведенному порядку: после жаркого лета приходила суровая зима, а Какус по-прежнему оставался одиноким скитальцем.
Однажды ранней весной он увидел летящего стервятника. Зелень земли и мягкое тепло воздуха пробудили в его сознании смутное воспоминание о начале его блужданий, и он неосознанно последовал за птицей.
В конце концов он оказался на тропе, рядом с рекой, и впереди, за большой излучиной, увидел холмы, за одним из которых поднималась к небу струйка дыма. Стервятник к тому времени уже пропал из виду, но Какус резонно рассудил, что тропа, по которой он следует, не хуже любой другой: все тропы ведут к деревням, а в деревнях всегда можно чем-нибудь поживиться. На сей раз он поведет себя умнее: затаится и будет выходить на промысел только ночью. Чем дольше не попадется он людям на глаза, тем дольше они не устроят на него облаву.
Неожиданно Какус ощутил приступ сильной тоски. Когда-то он сам жил в деревне. Бывало, его дразнили, но, хоть он и отличался от прочих, считали его своим. А потом прогнали. Почему? Потому что Земля и Небо потребовали этого, так сказала ему мать. До ухода из деревни он никогда никого не обижал, однако весь мир вдруг ополчился на него без всяких на то причин.
Тоска сменилась обидой, обида перешла в ярость.
Он свернул за поворот и неожиданно увидел перед собой на тропе девушку, направлявшуюся к реке с корзиной белья. У нее были золотистые волосы, а на шее, на простом кожаном шнурке, висел вспыхивавший на солнце золотой амулет. Увидев Какуса, девушка вскрикнула, выронила корзинку и убежала.
Сам не понимая, что за чувство его охватило, он погнался за ней, неистово выкрикивая свое имя. Бежал Какус недолго – как только показалась околица, он, не желая быть замеченным, соскочил с тропы в кусты. Оттуда были слышны испуганные крики девушки, а потом возгласы выбежавших ей навстречу селян. Они расспрашивали, что ее так напугало.
А действительно – что? Что она увидела, когда на глаза ей попался Какус? Не человека, как она сама, это точно. И не животное. Никакое животное, за исключением, может быть, змеи, не вызывает такого отвращения и страха. Она увидела чудовище. Только чудовище могло повергнуть ее в такой ужас и заставить так пронзительно кричать.
Получалось, что он стал чудовищем. Но как и когда это случилось? Какусу казалось, что когда-то он был человеком…
Поселение у реки зародилось как пункт меновой торговли. Со временем интенсивность движения по обеим тропам – тропе торговцев солью, что шла вдоль реки, и тропе торговцев кузнечными изделиями, что шла поперек, – очень возросла. Люди двигались через область Семи холмов почти непрерывным потоком, и это натолкнуло одного сообразительного потомка Лары и По на интересную мысль: а зачем торговцам солью тащиться к самым предгорьям, если они могут реализовать товар у Семи холмов? Через какое-то время эта мысль дошла и до всех других торговцев.
С того времени поселение у реки стало конечным пунктом многих торговых маршрутов и местом постоянного проживания людей, сделавших торговое посредничество и предоставление торговцам временного пристанища своим основным занятием. Это приносило неплохой доход, и поселение процветало.
В ту пору оно состояло из двух десятков хижин, стоявших у подножия крутого утеса. Между утесом и рекой расстилался широкий луг, предоставлявший достаточно места для торжища. Протекавший через этот луг ручей Спинон впадал в реку, которую люди назвали Тибр.
Все хижины поселения были построены на один манер: круглые, с единственной большой комнатой, с плетенными из прутьев и промазанными илом стенами и высокими, остроконечными камышовыми крышами. Дверные проемы делались из крепких жердей, иногда с резьбой, и завешивались пологами из звериных шкур. Все внутреннее убранство составляли циновки, позволявшие сидеть или спать не на голой земле. Эти немудреные жилища служили лишь для укрытия от непогоды и для уединения: пищу готовили на кострах, и основная часть жизни проходила под открытым небом.
Торжище на другом, приречном берегу Спинона представляло собой нескольких крытых соломой хибар для хранения соли, загонов для домашнего скота и открытой площадки, где торговцы могли размещать свои подводы и тачки и предлагать товары на продажу. Домашний скот состоял из быков, коров, свиней, овец и коз. На продажу выставлялось все, что угодно, – окрашенная шерсть, меховые коврики, соломенные или фетровые шляпы, кожаные мешки, глиняные сосуды, плетеные корзины, гребни и застежки из панциря черепахи или янтаря, бронзовые украшения и пряжки, железные топоры и плужные лемеха. Из снеди предлагались горные орехи, речные раки, мясистые лягушки из болотистого озера, горшки с медом, плошки с сыром, кувшины со свежим молоком, а в сезон – каштаны, ягоды, виноград, яблоки и смоквы. Некоторые торговцы прибывали сюда с регулярными интервалами и подружились с поселенцами и другими торговцами. Но всегда появлялись и новые люди, прослышавшие об этом торговом пункте и захотевшие своими глазами посмотреть все товары.
Торговый пункт был также местом, где люди обменивались новостями и слухами, слушали рассказы о дальних краях или песни бродячих певцов. Здесь предлагали свои услуги странствующие колдуны и знахари – иные из них умели лечить недуги, избавлять от бесплодия, предсказывать будущее и общаться с нуменами.
До сих пор самыми необычными посетителями были морские торговцы, поднимавшиеся вверх по течению реки на весельных лодках. Свои корабли, неспособные пройти по неглубокому руслу реки, они оставляли в устье. Огромные и великолепные – так рассказывали об этих кораблях те немногие жители поселения, которым довелось побывать в устье Тибра. Эти гости, называвшие себя финикийцами, говорили на множестве языков, носили диковинные яркие одеяния со множеством украшений и предлагали на обмен редкостные товары из далеких краев, включая маленькие металлические или глиняные фигурки людей. Некоторые местные жители, поначалу сбитые с толку, решили было, что в этих статуэтках, так же как в скалах или источниках, обитают нумены. Другим сама мысль о том, что вместилищем нумена может стать что-то, вышедшее из человеческих рук, казалась нелепой. Финикийцы пытались растолковать, что идол – это не обиталище нумена или кого бы то ни было, а символическое изображение некой сущности, именуемой богом. Но простоватым поселенцам эти отвлеченные рассуждения казались слишком замысловатыми.
Последней в череде потомков По и Лары была девушка по имени Потиция, дочь Потиция. Ей, выросшей в торговом поселении, с раннего детства разрешалось бродить по окружающим окрестностям, и она облазила их вдоль и поперек. Реку, со всеми ее отмелями и омутами, девушка знала как свои пять пальцев. Она не раз переходила ее вброд, когда вода стояла низко, и переплывала в полноводье.
Ясное дело, что и Спинон, протекавший перед поселением, она исследовала до самого его истока – а начало он брал в болотистом озерце среди холмов. Болото кишело всякой живностью: лягушками, ящерицами, стрекозами, пауками, змеями, птицами. Ей нравилось наблюдать, как взлетает из камышей стая переполошившихся гусей или как описывают в небе круги белоснежные лебеди перед грациозной посадкой на воду.
По мере того как Потиция становилась старше, поиски уводили ее все дальше и дальше от поселения. Однажды, поднявшись выше по реке, она обнаружила горячие источники, но когда, возбужденная, прибежала домой, чтобы рассказать о своем открытии, оказалось, что ее отец уже знает про этот горячий ключ. На вопрос, откуда берется булькающая вода, Потиций ответил, что она кипятится на огне в подземном мире, но сколько ни искала его дочка вокруг, входа в это таинственное царство так и не нашла. Как-то раз горячий ключ иссяк, и, хотя вскоре забил снова, испуганные поселяне решили ублажить нумена подземного огня, соорудив рядом с источником алтарь и предложив ему подношения. Потиций лично занялся сооружением алтаря. Сначала с помощью быков подтащил к источнику здоровенный камень, а потом обтесал его до формы, показавшейся ему подходящей. Раз в году как жертву нумену на алтаре рассыпали соль, а потом разбрасывали ее над горячим источником. Пока это помогало – он больше не иссякал.
Любопытство, манившее Потицию все дальше от деревни, неминуемо увлекало ее вверх, к Семи холмам. Первый холм, который она покорила, высился сразу позади отцовской хижины. Его склон, обращенный к деревне, был настолько крут, что взобраться по нему не смогла бы даже самая упорная и целеустремленная девочка. Но на другом склоне холма она, путем проб и ошибок, нашла-таки тропку, ведущую на самую вершину. Вид оттуда открывался поразительный, захватывающий дух. Глядя в разные стороны, она видела и болотистое озеро, и лежащее внизу поселение, и окрестности горячего ключа, находившегося на краю большой равнины у изгиба Тибра. Устремляя взгляд за знакомые пределы, Потиция поняла, что мир гораздо шире, чем представлялось ей раньше. Река простиралась в обе стороны, насколько достигал ее взгляд, а далекий горизонт в любом направлении терялся в пурпурной дымке.
Один за другим Потиция одолела все Семь холмов. Они были выше, чем ближний к дому холм, но подняться на них было легче, если знать, в каком месте начинать подъем и каким путем следовать. Каждый холм имел какое-то отличие, присущее только ему. Один порос буковым лесом, другой был увенчан кольцом древних дубов, еще один зарос ивами и так далее. Своего имени у каждого холма еще не было, а все вместе они с незапамятных времен назывались просто Семью холмами. Правда, не так давно какой-то проходивший здешними краями странник в шутку назвал холмистую местность словом «рума», которым прежде называли женскую грудь или вымя дойных животных. Шутка понравилась, название прижилось и очень скоро стало привычным, ведь поселенцам уподобление неровностей земли частям тела представлялось вполне естественным.
На утесе, который находился прямо напротив поселка, за лугом, на дальней стороне Спинона, Потиция нашла пещеру. Поскольку она находилась в расщелине крутого склона и была укрыта низкорослым кустарником, обнаружить вход в нее было непросто: снизу отверстие казалось тенью, отбрасываемой скальным уступом. Упрямая девчонка решила проникнуть в пещеру, но убедилась, что спуститься в нее с вершины невозможно. Оставался подъем, требовавший незаурядного упорства, ловкости и отваги.
Несколько предпринятых на протяжения лета попыток закончились падениями и, соответственно, шишками, синяками, ссадинами и взбучками от матери, не одобрявшей рваные туники, расцарапанные ладони и ободранные коленки.
В конце концов Потиция сумела проникнуть в пещеру и сразу поняла, что дело стоило таких усилий. Пещера казалась ей огромной, да и на самом деле никак не уступала по размеру хижине ее семьи. Она уселась на выступ скалы, который образовывал естественную скамью, и положила руку на уступ, вполне способный послужить полкой. Пещера походила на дом, только сделанный не из веток, а из камня, и словно ждала, когда девочка предъявит на нее свои права. В отличие от горячих источников, о пещере в поселке никто не знал: Потиция оказалась первым человеком, которому удалось туда проникнуть.
Пещера стала ее тайным убежищем. В жаркие летние дни она убегала туда, чтобы вздремнуть. В сырые осенние дни сидела внутри, где было сухо и уютно, прислушиваясь к шуму бессильного перед камнем дождя.
Однако, по мере того как Потиция росла, изучение окрестностей отступало на второй план – ей следовало перенять у матери необходимые женские навыки, такие как приготовление пищи или плетение корзин из камыша. Судя по телесным признакам, Потиция приближалась к детородному возрасту. Мать посоветовала ей присмотреться к жившим по соседству юношам и решить, за кого бы она хотела выйти замуж.
В ознаменование наступления зрелости отец Потиции преподнес ей драгоценный подарок – амулет из желтого металла, именуемого золотом.
На протяжении десяти поколений золотой самородок, подаренный Таркетием Ларе, оставался в своем первозданном состоянии, ибо металл казался слишком мягким, чтобы его можно было обработать. Однако заезжий финикиец рассказал дедушке Потиции, что золото можно сплавить с другим драгоценным металлом, именуемым серебром. За немалую цену финикийский мастер придал самородку форму в соответствии с указаниями деда. По финикийским меркам, изделие получилось грубым, но в глазах Потиции оно было настоящим чудом.
Приспособленный висеть на кожаном шнурке амулет приобрел вид крылатого фаллоса. Отец называл его Фасцином и говорил, что он способствует плодовитости, оберегает женщин и младенцев при родах и защищает от сглаза.
Хотя Потиция расспрашивала отца и внимательно слушала его ответы, она так и не поняла, то ли этот амулет действительно являлся Фасцином, то ли Фасцин обитал в нем, то ли он лишь изображал Фасцина, как идолы финикийцев изображают их богов. Однако отсутствие четкого понимания сущности амулета вовсе не помешало Потиции, надев его, почувствовать себя взрослой.
Она уже не была девчонкой с ободранными коленками и грязными ногами, беззаботно болтающейся по кажущемуся ей огромным, но на деле маленькому миру Румы. Правда, и повзрослев, Потиция сохранила в себе ребяческое ощущение чуда и нежную тоску по миру детства, в котором мало чего стоит бояться и который сулит так много открытий.
До недавних пор этот мир оставался местом, где незнакомцы встречались в доброй компании и где Потиция могла растить детей, не беспокоясь за их безопасность, позволяя им бродить где хочется, как делала в детстве сама. Но теперь все изменилось. Мир стал мрачным и опасным. Родители не спускали с детей глаз, и даже взрослые не решались бродить по Руме в одиночку.
Появление монстра Какуса изменило все.
Первой его увидела Потиция в тот день, когда шла к реке с корзинкой белья. При виде страшилища девушка пронзительно завизжала, бросила корзину и помчалась в селение, преследуемая чудищем, издававшим жуткие звуки, от которых у нее мурашки пробегали по коже.
«Какус! Какус!» – еще долго звенело у нее в ушах.
Но надо же такому случиться: когда силы ее уже были на исходе и она не могла больше бежать, эта жуткая образина отказалась от погони. Сомнений не было – произошло чудо, и спас ее, конечно же, Фасцин, только Фасцин, и никто, кроме Фасцина. Недаром она всю дорогу, до самой деревни, сжимала на бегу амулет, умоляя Фасцина о защите и шепча вслух: «Спаси меня! Спаси меня, Фасцин!»
Уже потом, дрожа от волнения, она снова шептала амулету слова благодарности, уверяла его в своей преданности и сама при этом не знала, что то была молитва – в том смысле, который придавали этому слову финикийцы. Обращение не к безымянному нумену, обитавшему в том или ином месте, а к могущественной сверхчеловеческой сущности, обладавшей разумом и способной понять ее слова. Она не предлагала нумену ритуальных жертв, она молилась, обращаясь к богу. В тот момент, хотя Потиция вела себя так, не имея ни малейшего представления о значимости происходящего, Фасцин стал первым местным божеством, которому стали поклоняться в земле Румы.
Долгое время никто, кроме Потиции, не видел этого монстра, и в поселке нашлись такие, которые, услышав ее описание Какуса, решили, что та встреча на тропке ей привиделась. В конце концов, все в ее семье слыли изрядными выдумщиками – они похвалялись якобы чудодейственным амулетом, который называли Фасцином, и всячески давали понять, что их род пошел от союза нумена и женщины, как будто такое вообще возможно!
Однако со временем стало очевидно, что поблизости действительно завелось какое-то зловредное и опасное существо. Стала пропадать еда, а с ней и мелкие предметы, которые вроде бы никому не было смысла воровать. А другие предметы, имевшие реальную ценность, – глиняную посуду, деревянные игрушки, прялку – стали находить сломанными или разбитыми. Впечатление было такое, словно их злобно крушил какой-то недочеловек, обладавший детским умом и огромной силой. Он был неуловим, поскольку совершал свои вылазки по ночам и умело скрывался.
Поселенцы были разозлены и напуганы. К естественному страху перед чудовищем добавлялась боязнь того, что, прослышав об опасном соседстве, торговцы перестанут посещать их поселение и их благосостоянию придет конец.
Однажды утром, как раз в то время, когда на площадке шел оживленный торг, всех переполошило испуганное, неожиданно оборвавшееся мычание. Бросившись к загону, люди обнаружили за изгородью мертвую корову: туша была вспорота и большая часть мяса отсутствовала. Ворота оставались закрытыми, перелезть через забор корова не могла. Какой же нужно было обладать силой, чтобы перетащить корову через изгородь, а потом убить и распотрошить ее голыми руками! Многие ударились в панику, некоторые торговцы скотом собрали свои стада и погнали домой.
Поселенцы, разбившись на пары, с ножами и копьями в руках стали прочесывать Семь холмов, и двое из них, видимо, наткнулись на чудовище. Во всяком случае, их тела, изуродованные примерно так же, как и коровье, нашли на склоне, поросшем ивняком.
Весть о появлении чудовища-людоеда стремительно распространилась вверх и вниз по тропам, которые вели к Руме. И очень скоро торговцы не просто перестали посещать поселение, но стали обходить его стороной, не ленясь делать большие круги.
Дальше пошло еще хуже – чем меньше становилось торговцев и чем безлюднее становилась местность, тем больше распоясывалось чудовище. Пропал младенец. Его останки были найдены совсем недалеко от поселка, у подножия крутого холма на дальнем берегу Спинона. Один из поисковиков, подняв глаза, чтобы отвести взгляд от ужасного зрелища, уловил мельком движение на склоне холма: из-за поросшего ежевикой каменного выступа на миг появилась безобразная физиономия. Она тут же исчезла, а затем на поисковый отряд обрушился град камней, вынудив людей разбежаться. Присмотревшись с безопасного расстояния, они приметили на холме почти скрытое кустами отверстие, которое вполне могло быть входом в пещеру, но как дотуда добраться – никто не представлял. Да и пытаться никто не хотел – мериться силами с чудовищем в его логове желающих не было.
Вернувшись в поселок, поисковики рассказали, что они обнаружили, и Потиция, к своему ужасу, поняла, что ее укромная пещера, ее излюбленное убежище, захвачена злобным монстром.
Обосновавшийся в горной берлоге Какус днями отлеживался, а по ночам совершал вылазки, держа в страхе все поселение. Разумеется, люди предприняли несколько попыток подняться и напасть на него в его логове, но все попытки были отбиты: громко выкрикивая свое имя, Какус забрасывал нападавших камнями. Один из поселенцев упал и сломал шею. Другой получил камнем в глаз и впоследствии ослеп. Третий, получивший камнем в лоб у самого глаза, был убит на месте. Его обмякшее тело не упало вниз, а застряло в кустах, и никто не осмелился забрать его. Некоторое время оно висело там ужасным укором землякам, а потом Какус забрал его и, судя по обглоданным человеческим костям у подножия холма, сожрал.
И тогда Потицию пришло в голову поджечь склон, чтобы пламя и дым или убили монстра, или по крайней мере вынудили его покинуть пещеру. Его земляки так и сделали, но это обернулось бедой. Налетевший с Тибра ветер подхватил с горящего склона угольки и, перенеся их через Спинон, бросил на соломенную крышу одной из хижин. Пламя стало стремительно перекидываться с крыши на крышу, и поселенцам пришлось бросить все силы на тушение пожара. Когда они наконец перестали таскать ведрами воду из реки, оказалось, что, хотя склон холма выгорел и почернел, до пещеры пламя не добралось, и чудовище осталось невредимым.
Тогда было решено наблюдать за пещерой – чтобы, если монстр спустится, можно было поднять тревогу. Мужчины и мальчики по очереди дежурили днем и ночью, напряженно всматриваясь в плохо различимый снизу лаз пещеры.
Один из родичей Потиции, крепкий и ловкий юноша по имени Пинарий, похвастался ей, что покончит с Какусом раз и навсегда. Воодушевленная его энтузиазмом, девушка призналась ему, что в прошлом неоднократно поднималась в пещеру. Поверил он ей или нет, но рассказ о том, как пробраться туда, выслушал внимательно.
Когда пришла его очередь наблюдать за логовом чудища, Пинарий решил действовать. День был жарким, тяжелый воздух навевал сонливость, и земляки храбреца, кроме поцеловавшей его перед дорогой Потиции, дремали в тени.
Начав карабкаться по склону, Пинарий услышал донесшийся сверху слабый шум. Они с сестрой приняли его за сонное дыхание страшилища, хотя это вполне могло оказаться гулом и жужжанием насекомых, слетевшихся на запах крови и потрохов.
Потиция вспомнила летние дни, проведенные в тенистой прохладе пещеры, представила себе храпящего там монстра и невольно поежилась. Однако вместе со страхом и отвращением ее посетила необъяснимая грусть. Она вдруг задумалась о том, откуда взялось это существо, есть ли другие, ему подобные. Несомненно, его тоже родила мать. Какая же злая судьба привела его в Руму и обрекла на жалкое существование, сделав самым несчастным из живущих?
Пинарий взобрался тихо и быстро, но уже у самой пещеры потянулся к опоре, которая повела бы его в неправильном направлении. Следившая за ним снизу Потиция громким шепотом подсказала верное направление, и в тот же миг звук, который мог быть дыханием чудовища, оборвался.
Девушку охватил ужас, однако Пинарий успешно выбрался на уступ перед входом в пещеру. Обретя равновесие, он вытащил нож, с улыбкой оглянулся на девушку и нырнул в темный лаз.
Пронзительный вопль, который последовал за этим, не походил ни на что, когда-либо слышанное ею. Он был таким громким, что разбудил каждого спящего в деревне. За воплем последовал треск разрываемой плоти, а потом наступила тишина. Несколько мгновений спустя голова Пинария вылетела из пещеры и, скатившись вниз, упала на землю рядом с Потицией, которая от ужаса упала без чувств. В полуобморочном состоянии она подняла глаза и увидела стоявшего на уступе и смотревшего на нее в упор монстра, огромное тело и корявые ручищи которого покрывала кровь.
– Какус? Какус? – выкрикивал монстр, но не злобно, а, как показалось ей, вопросительно, будто обращаясь к чему-то завораживавшему его и желая получить ответ. – Какус? – произнес он снова, наклонив голову вбок и уставившись на нее.
Потиция с трудом поднялась на ноги и в ужасе рванулась прочь. Запнувшись о голову Пинария, она вскрикнула и, шатаясь, захлебываясь рыданиями, побрела в селение.
Гибель Пинария стала для многих последней каплей, переполнившей чашу терпения. Отец погибшего, которого тоже звали Пинарий, заявил, что проклятое поселение следует бросить: во-первых, чудовище уже принесло людям немало горя, а они совершенно беззащитны против него; во-вторых, вместе с этим монстром в землю Румы пришло зло, отвратившее от жителей селения местных нуменов. Ярким примером недовольства духов стал пожар, в котором пострадали многие хижины. Да и других, не столь крупных неприятностей было более чем достаточно. В такой ситуации нет другого выхода, кроме переселения на новое место, уверял старший Пинарий. Оставалось только решить, когда и куда переселяться и следует ли оставаться вместе или лучше разделиться, чтобы каждая семья искала счастья сама по себе.
– Уйти – дело недолгое, – спорил Потиций. – Но с чего ты взял, что чудовище останется на месте? По-моему, оно увяжется за нами и будет похищать наших детей. В чем тут выгода?
– Может, и увяжется, – согласился Пинарий. – Но тогда ему придется покинуть пещеру и преследовать нас по открытой местности. А значит, появится хоть какая-то возможность напасть на него скопом и убить.
Потиций покачал головой:
– Не думаю. Он куда более искусный охотник, чем любой из нас. Ни в холмах, ни на равнине с ним не совладать – он будет истреблять нас одного за другим.
– Как будто он не делает этого сейчас! – вскричал Пинарий, оплакивавший сына.
Спор закончился ничем, но Потиции показалось, что это только вопрос времени – рано или поздно Пинарий настоит на своем. В Руме действительно поселились отчаяние и печаль, но при мысли о том, что ей придется покинуть холмы ее детства, сердце девушки разрывалось.
Потом появился чужак.
В то утро Потицию разбудил бычий рев. Быков на торжище не пригоняли уже долгое время, и девушка поначалу подумала, что ей снится сон о временах, бывших до появления Какуса. Но когда она пробудилась и поднялась, мычание не стихло, и Потиция торопливо вышла из хижины, чтобы посмотреть, в чем дело.
Диво дивное: по ту сторону Спинона, на лугу, под самой пещерой Какуса, мирно паслось под косыми лучами солнца небольшое стадо. Поблизости, привалившись спиной к древесному стволу, закрыв глаза и склонив набок голову, сидел на земле пастух, казавшийся спящим. Даже с такого расстояния Потиция поняла, что он очень высок ростом и силен. Пожалуй, он превосходил любого, кого она видела до сих пор, за исключением Какуса. Но, в отличие от Какуса, он не был безобразен и облик его не внушал страха. По правде говоря, во всем, кроме телесной мощи, он являл собой полную противоположность страшилищу. Неожиданно девушка поймала себя на том, что уже шагает с камня на камень через мелководный Спинон, направляясь к незнакомцу.
– Потиция! Ты куда собралась?
Ее отец вместе с другими поселенцами стоял возле пустого загона для скота. Оттуда, с безопасного расстояния, они наблюдали за пришельцем, стараясь решить, стоит ли к нему подходить и кому следует это сделать. Потиция понимала, что они боятся чужака, но она не разделяла их страха.
Подойдя ближе, она увидела полуоткрытый рот и услышала легкое похрапывание. Голову чужака венчала пышная грива черных волос, лицо с крупными чертами обрамляла густая борода, могучие мышцы распирали одежду. Потиции никогда не случалось видеть более привлекательного мужчину, хотя, похрапывавший во сне, он выглядел несколько смешно.
На плечах у него была накинута шкура какого-то зверя со связанными на груди передними лапами. Мех был рыжевато-коричневым, с золотистым оттенком, лапы – с внушительными когтями. Поняв, что это львиная шкура, Потиция прониклась к чужаку еще большим интересом.
Должно быть, он втянул во сне пролетавшую мошку, потому что вдруг резко дернулся, проснулся и, скорчив недовольную гримасу, сплюнул. Наблюдавшие из-за ручья селяне ахнули, а Потиция рассмеялась. Пастух показался ей еще более забавным и еще более привлекательным.
Он извлек мошку изо рта, пожал плечами, потом глянул на нее и улыбнулся.
Потиция вздохнула:
– Тебе нельзя здесь оставаться.
Он вопросительно нахмурился.
– Никто здесь не поручится за безопасность твоего стада, – пояснила она.
Судя по взгляду, пастух ничего не понял. Неужели он никогда не слышал о Какусе?
«Должно быть, явился из дальних мест», – подумала девушка, и, когда он заговорил, ее предположение подтвердилось, ибо она не поняла ни слова.
Пес, лежавший рядом с быками, поднялся на ноги и неспешно направился к ним, помахивая хвостом. Пастух покачал головой, погрозил пальцем собаке и произнес что-то мягким, укоряющим тоном. Очевидно, обязанностью собаки было будить его, если кто-нибудь приближался к быкам, и собака не выполнила свою обязанность.
Потом пастух поднялся и потянулся, раскинув могучие руки. Ростом он оказался еще выше, чем показалось Потиции вначале. Чтобы посмотреть на его лицо, ей пришлось закинуть голову, и она вдруг снова почувствовала себя маленькой, как ребенок, и непроизвольно потянулась к шее и коснулась золотого амулета. Пастух, в свою очередь, посмотрел на нее, а когда заглянул ей в глаза, Потиция увидела в его взгляде совершенно определенные чувства и поняла, что она уже не ребенок, а женщина.
Как ни старались жители поселения втолковать пришельцу, что находиться самому и держать стадо в такой близости от пещеры Какуса опасно, все было бесполезно. Они жестикулировали, использовали мимику и, уж конечно, пытались говорить на всех знакомых диалектах, но могучий бородач ничего не понимал.
– Надо думать, у него не все дома, – заявил Потиций.
– Вот проснемся завтра и найдем под холмом его тело, – проворчал Пинарий.
– Ну зачем говорить такие страшные вещи? – вмешалась Потиция. – Сдается мне, вы оба ошибаетесь.
Она улыбнулась пастуху, и он ответил ей улыбкой.
Пинарий искоса переглянулся с родичем и понизил голос:
– Мы с тобой, Потиций, мало в чем сходимся, но одно, по-моему, понятно нам обоим. Твоя дочь увлечена этим незнакомцем.
– Он и впрямь производит впечатление, – отозвался Потиций, оглядев чужака с головы до пят. – Где, интересно бы узнать, ему удалось раздобыть львиную шкуру? Если Потиция решит, что он подходит…
Пинарий покачал головой и сплюнул:
– Добром это не кончится. Помяни мои слова!
Стояла середина лета, и к полудню висевшее над Румой солнце заставило все окрестности изнемогать от зноя. С болот по направлению к Спинону и Тибру тянуло теплым ветром, несшим с собой густой запах ила и гнили. На лугу, в тени, под стрекот цикад, мирно спали разморенные жарой быки.
Поскольку жители поселка верили, что все вокруг населено нуменами, они полагали, что такое явление, как сон, никак не обходится без влияния духов. Подобно всем прочим нуменам, духи сна могли проявлять как дружелюбие, так и враждебность, да и как же иначе. Всякому ясно, что сон помогает восстанавливать силы и порой бывает целителен, но может превратиться и в сущую муку или сделать самого сильного человека совершенно беспомощным.
В тот день нумен сна опустился на селение, как ладонь матери на лоб младенца. Сон закрыл глаза жителей независимо от их желания. Некоторые люди пытались бороться со сном, но проиграли борьбу, даже не осознав этого.
Быки спали. Спал пес. Спал пастух, прислонившись к тому самому дереву, у которого Потиция впервые увидела его.
Потиция не спала. Сидя в тени дуба, она внимательно рассматривала незнакомца, гадая, что сулит ей будущее.
Но бодрствовала не только она. Какус, обладатель непомерно длинных рук и огромной силы, нашел путь из пещеры вниз, о котором не подозревала даже Потиция. На всем пути по склону этот спуск маскировали кусты ежевики. Какус спускался чрезвычайно осторожно, старясь не потревожить ни одну веточку, не позволить скатиться ни одному камушку. Даже если бы паренька, которому выпало в тот день следить за пещерой, не сморила дрема, Какус остался бы незамеченным. О появлении чужака Какус не знал, да и ничуть им не интересовался. Покинуть пещеру его побудило услышанное мычание. Он уже давно не ел мяса животных.
Со своего склона Какус увидел лежавших на лугу быков, не обратив при этом внимания ни на пастуха, ни на девушку. И он и она находились там же, но не шевелились и в пятнистой тени деревьев были почти не видны.
Какус выбрал самого маленького бычка и бесшумно – ни один прутик не хрустнул у него под ногами – направился к нему. Ловкость, с которой он двигался, была поразительна для такого великана. Однако бычок каким-то образом почуял опасность. Он поднялся на ноги, встревоженно замычал и, увидев приближавшегося Какуса, попятился.
Какус не замешкался ни на миг. Сцепив оба кулака вместе, он занес их над своей головой и обрушил на голову бычка такой страшный удар, что тот замертво повалился наземь.
Остальные быки зашевелились. У спящего пса дернулись уши, но он так и не проснулся.
Потиция, которая сама только что задремала, вздрогнула, открыла глаза и увидела чудовище не более чем в десяти шагах от себя. Охнув, она собралась было завизжать со всей мочи, но от страха у нее так перехватило дыхание, что ей не удалось выдавить из себя ни звука.
Девушка вскочила. Первым делом она подумала о том, чтобы разбудить погонщика, но для этого ей пришлось бы проскочить мимо страшилища. Не решившись на такое, она, не разбирая дороги, помчалась прочь от поселка, к пещере.
Ее движение привлекло внимание Какуса, который мигом устремился за ней. Ноги его, хоть и разной длины, были очень мощными, и в случае надобности он мог двигаться с огромной скоростью. На бегу его сопровождала жужжащая туча насекомых, которых привлекали покрывавшая уродливое тело запекшаяся кровь и прилипшие к коже кусочки гниющей плоти.
Потиции не повезло, она запнулась о корень и покатилась по земле. Похоже, старший Пинарий был прав: все нумены Румы встали на сторону чудовища и ополчились против людей. А она была глупа, поверив, будто с появлением чужеземца что-то может измениться к лучшему.
Ударившись о твердую, запекшуюся под солнцем землю, она схватилась за висевший на шее Фасцин и взмолилась о том, чтобы чудовище убило ее быстро. Однако намерения убивать ее у Какуса не было.
Пастух спал и видел во сне далекую землю своего детства. Ему снились солнечное сияние, теплые луга, мычащие быки и стрекот цикад.
Пробудился он мгновенно – один из быков стоял над ним, тычась в его щеку влажной, прохладной мордой. Буркнув что-то, пастух отер щеку тыльной стороной ладони и огляделся.
Причина беспокойства животного была очевидна: самый маленький бычок неподвижно валялся на траве в неестественной позе. Где же пес?
Пес тоже лежал в траве, свернувшись калачиком. На глазах у хозяина он широко зевнул, чуть приоткрыл глаза, но, ничуть не обеспокоившись, снова закрыл их и устроился поудобнее.
Погонщик выругался, вскочил на ноги и, услышав что-то очень похожее на сдавленный женский крик, устремился на звук.
Сперва он увидел над примятой травой тучу мошкары, потом рассмотрел под ней ритмично двигавшуюся вверх-вниз мощную волосатую спину. Не совсем понимая, кто перед ним – человек, животное или кто-то еще, – пастух стал перемещаться осторожнее. Он слышал женские стоны и заглушавшие их странные, хриплые восклицания:
– Какус… Какус… Какус!..
И тут он снова услышал пронзительный женский крик – крик ужаса, от которого кровь стыла в жилах.
Но крик издал и пастух – то был грозный клич вызова. Широченная спина прекратила двигаться, а потом над высокой травой поднялась и уставилась на чужеземца безобразная, устрашающая физиономия.
– Какус! – негодующе выкрикнул ее обладатель и выпрямился в полный рост. То был мужчина или, по крайней мере, самец – огромный, торчавший между ног член не оставлял в этом сомнения. Где-то в траве жалобно всхлипывала женщина.
Пастух никогда не видел двуногого существа, не уступавшего ростом пуме. Этот же урод был заметно крупнее, а уж страшен так, что впору было передернуться от отвращения. Льва, шкура которого украшала его плечи, пастух убил голыми руками, но существо, стоявшее перед ним сейчас, казалось опаснее льва.
Однако пастух собрался с духом и издал еще один клич, вызывая чудовище на бой. В то же мгновение Какус с оглушительным ревом бросился на него и, навалившись с разбегу всей массой, сшиб наземь.
Ноздри пастуха наполнила нестерпимая вонь. Налетевшая вместе с чудовищем мошкара забивалась в рот, лезла в глаза и ноздри.
Но и прижатый Какусом к земле, он не прекращал борьбы. Его рука, судорожно шарившая вокруг в поисках чего-то, способного послужить оружием, ухватилась за палку. Размахнувшись как мог, он ударил чудовище по голове. Сотрясение прошло по его руке до плеча, сук сломался о крепкий череп, но в руке остался острый обломок, который пастух вонзил Какусу в бок.
Монстр взревел так, что человек чуть не оглох. Хлынувшая из раны горячая кровь потекла по руке, заставив пастуха выпустить палку, а ужасная тварь вскочила на ноги и отпрыгнула в сторону. Пастух, шатаясь, поднялся на ноги. Он видел, как его страшный враг вырвал из раны и отбросил обломок дерева. Но надежда на то, что полученный отпор заставит урода убежать, не оправдалась – Какус вновь бросился на него и опять сбил на землю, правда, на сей раз пастух вывернулся и мигом вскочил на ноги.
Приметив неподалеку в высокой траве камень размером с новорожденного теленка, он подскочил к нему, сам удивляясь своей силе, поднял валун обеими руками над головой и швырнул в Какуса.
Монстр ухитрился увернуться, но не вполне: камень задел его плечо, и он едва устоял на ногах. Но устояв, Какус подхватил с земли еще больший камень и швырнул его в пастуха. Тот отскочил, а тяжеленный валун, ударившись в ствол дуба, переломил его, как тростинку. Крона с шумом и треском рухнула на землю, стайка перепуганных птиц с пронзительными криками взметнулась в воздух.
Запыхавшийся пастух вдруг понял, что потерял противника из вида. Пока он растерянно гадал, что делать, его боевой дух ослаб. В следующий миг его обдало вонью, уши вновь наполнились жужжанием мух. Он развернулся, но страшные тиски лап чудовища сдавили его горло.
Перед глазами замелькали точки, свет потускнел, словно на луг внезапно пала ночь. Ему казалось, будто его голова раздувается, как переполненный винный мех, и вот-вот лопнет.
Но пастух не прекращал отчаянных попыток оторвать руки Какуса от своего горла. Хватка чудовища казалась железной, но в конце концов человек нащупал палец противника, страшным усилием отогнул его и с противным хрустом сломал. Чудовище не ослабило хватки, однако человек, нащупавший путь к спасению, стал ломать палец за пальцем, и наконец, не выдержав боли, Какус взревел и разжал захват.
Он развернулся, чтобы убежать, но на сей раз пастух перешел в наступление: набросившись сзади, он обхватил шею чудища одной рукой, а другой вцепился ему в запястье и заломил его руку за спину.
Какус бился и дергался, борясь за дыхание. Будь его пальцы целы, он легко сорвал бы захват с шеи, но теперь он начинал задыхаться. Почувствовав, что страшный враг слабеет, пастух рискнул – собрав все силы, он отпустил заломленную руку, схватил чудовище за голову и резким рывком переломил ему шейные позвонки.
Сил, чтобы удержать на весу тяжеленную тушу, у него уже не хватило: монстр тяжело рухнул наземь с нелепо вывернутой шеей и раскинутыми конечностями.
Обессиленный пастух опустился на колени рядом с мерзким трупом, борясь с тошнотой и жадно ловя воздух широко раскрытым ртом. Глаза его туманились, уши глохли от жужжания мух.
Проснувшаяся наконец собака с яростным лаем устремилась к Какусу, обежала вокруг трупа, вспрыгнула на него, постояла, напрягшись и навострив уши, а потом, словно оповещая народ Румы о великой победе, зашлась торжествующим лаем.
Смертельная схватка разворачивалась на глазах обмершей от ужаса Потиции.
Когда боевой клич незнакомца отвлек Какуса, ей удалось подняться на ноги и побежать. Спотыкаясь и шатаясь, она то и дело оглядывалась назад, где шел бой. Ей казалось, что в смертельном поединке сошлись не люди, а какие-то сверхъестественные существа – чудовище и герой такой мощи, что земля содрогалась под ними. Эти титаны швыряли один в другого валуны, какие обычный человек едва ли стронул бы с места. В пылу схватки они, как тростинку, переломили ствол могучего дуба. Наконец чудовище рухнуло на землю, а обессиленный герой опустился на колени рядом с поверженным врагом.
Потиция, шатаясь, побрела к реке. Она долго и яростно оттирала песком кожу, растерла ее до красноты, но ей все равно казалось, что смрад въелся в самую ее плоть. Но когда она на нетвердых ногах вернулась в селение, на этот запах, если он и вправду остался, никто не обратил внимания, как, впрочем, и на саму девушку – весть о гибели людоеда уже облетела деревню, и погонщик быков купался в восхищении местных жителей. Они даже порывались качать его, но со смехом отказались от своей затеи, ибо он оказался слишком тяжел.
О случившемся с Потицией так никто и не узнал, кроме, конечно, героя-победителя, который поглядывал на нее с сочувствием. Сама она предпочла ничего не говорить даже отцу.
Тело Какуса оттащили подальше от деревни. Стервятники, почуяв поживу, уже вились над головами, но люди отгоняли их, пока погонщик жестами не дал им понять, что не стоит мешать пиршеству пернатых. Когда же птицы вырвали мертвому чудищу язык и выклевали глаза, он захлопал в ладоши.
– Похоже, этот малый в ладу со стервятниками, – заметил Потиций. – Впрочем, почему бы и нет? Наверное, он привык видеть их всякий раз, когда убивал своего очередного врага.
Умиротворив стервятников лакомыми кусками, люди каменными скребками содрали с трупа Какуса кожу и подожгли ее. Юго-западный ветер подхватил дым и понес прочь от Румы. Похоже, нумены огня и воздуха одобряли действия поселенцев, надеявшихся, что с устранением злого чудовища и местные духи вернут им свое расположение.
В тот вечер в поселке царило ликование. Бычка, которого убил Какус, разделали и зажарили, устроив пир в честь победителя, который после схватки никак не мог насытиться и поглощал все, что подавали. Растроганный, воодушевленный Потиций произнес речь.
– Славные соплеменники, – промолвил он, – ни в живой памяти, ни в преданиях нашего поселения не сохранилось истории более ужасной, чем появление этого чудовища, и более чудесной, чем избавление от него. Мы все, – тут он украдкой покосился на своего родича Пинария, – уже смирились с мыслью о том, что нам неизбежно придется покинуть родные места, и никто не мог предвидеть появления незнакомца, который оказался достойным противником ужасному людоеду и сумел одолеть его. Судите сами, разве столь своевременный приход этого героя не следует считать знамением, возвещающим, что нам надлежит навсегда остаться в земле Румы. Даже в мрачные дни тяжких испытаний мы должны верить, что у нас особая судьба, ибо нас оберегают дружественные нумены, наделенные великим могуществом.
Вино в поселке и в лучшие-то времена ценилось очень высоко, а уж когда торговцы стали обходить его стороной, оно и вовсе превратилось в редкость. Однако по столь радостному поводу достали все запасы, так что разбавленного водой напитка досталось всем. А погонщику наливали неразбавленного вина, причем столько, сколько ему хотелось. Поощряемый хриплым смехом и криками, он неоднократно мимикой и жестами изображал свой поединок с Какусом и шатался со смехом вокруг кострища, пока, вконец утомленный, не улегся и не провалился в глубокий сон.
Наевшиеся и напившиеся поселенцы, многие из которых толком не спали с самого появления людоеда, счастливо последовали примеру незнакомца, и очень скоро все вокруг мирно храпели. Все, кроме Потиции, которая боялась, что сон обернется для нее кошмаром.
Найдя себе местечко в сторонке, девушка устроилась на шерстяной подстилке прямо под звездами. Стояла теплая, лунная ночь. Девочкой она любила в такие ночи забираться в свою пещеру и спать там, чувствуя себя в безопасности. Но теперь с этим было покончено навсегда: ее детская тайна была осквернена чудовищем.
Обхватив себя руками, Потиция заплакала, а потом встрепенулась, ощутив чье-то присутствие. На нее пахнуло вином, мощная фигура погонщика загородила луну. Девушка задрожала, но, когда он нежно прикоснулся к ней, перестала плакать. Великан погладил ее по лбу и стал целовать мокрые от слез щеки.
Он нависал над ней, как до этого Какус, но нынешнее ощущение было иным. От его тела тоже исходил сильный запах, но не отвращающий, а возбуждающий. Тот вел себя грубо, жестоко, прикосновения этого были нежными, успокаивающими. Какус причинил ей боль, могучие объятия чужестранца доставляли удовольствие.
Когда он из опасения придавить ее своим телом чуть отстранился, она обхватила его, как дитя отца, и притянула к себе…
Когда утихла страсть их первого соития, девушка какое-то время лежала неподвижно, расслабившись и ощущая себя парящей в воздухе. Но потом она внезапно задрожала и снова залилась слезами. Гигант ласково обнял ее: он понимал, что на ее долю выпало страшное испытание, и старался утешить и успокоить ее, может быть неловко, но от души.
Другое дело, что истинная причина этих рыданий лежала за пределами понимания даже самой Потиции. Она вспоминала то, что хотела бы выбросить из памяти. Когда она находилась в полной власти монстра, их глаза встретились, и девушка вдруг поняла, что эти глаза принадлежат не зверю, не какому-то загадочному существу, а такому же человеку, как она сама. Причем страдания и страха в этом ужасном создании было больше, чем она могла себе представить. Именно тогда, переполняемая страхом, ненавистью и отвращением, она вдруг испытала острый укол другого чувства – жалости. И сейчас, когда все осталось позади, Потиция плакала не по себе, не из-за того, что сделал с ней Какус, а по этому ужасному и бесконечно несчастному существу и по его страшной судьбе.
На следующее утро, когда похмельные поселенцы проснулись, чужака и след простыл. С ним исчезли его быки и собака.
Пинарий тут же предложил послать кого-нибудь вдогонку и упросить героя вернуться. Потиций, как водится, выступил с возражением, заявив, что незнакомец пришел незвано и нежданно и так же ушел, а жителям поселка не следует встревать в дела своего избавителя.
Весть о гибели людоеда разнеслась по окрестностям, и со временем поселение снова стали посещать бродячие торговцы. Разумеется, все они с интересом выслушивали историю о загадочном погонщике, и многие высказывали свои предположения насчет того, кто бы это мог быть и откуда он мог явиться.
Наиболее интересной оказалась версия повидавших самые дальние края финикийских мореходов, которые дружно заявили, что загадочный незнакомец есть не кто иной, как хорошо известный им могучий герой и полубог по имени Мелькарт. Понятие «полубог» было не слишком знакомо жителям Румы, и финикийцам пришлось объяснить, что это сын бога и человека. Это показалось похожим на правду, ведь незнакомец действительно показал нечеловеческую силу.
– Не сомневаюсь, вас выручил не кто иной, как Мелькарт, – уверял финикийский капитан. – Каждый финикиец слышал о нем, а некоторые даже видели его. Кстати, все узнают его по львиной шкуре. Мелькарт – то был один из его славных подвигов – убил льва голыми руками и с тех пор как трофей носит его шкуру. Кто, как не Мелькарт, мог убить и ваше чудовище. И вот что я вам скажу: вы непременно должны воздвигнуть ему алтарь, вроде того, который установлен возле вашего теплого источника. Уж конечно, Мелькарт сделал для вас больше, чем нумен источника. Нужно приносить ему жертвы и молиться, чтобы он и впредь защищал вас.
– Но как этот… полубог оказался здесь, так далеко от земель, где его знают? – спросил Потиций.
– Мелькарт – великий путешественник, он известен во многих землях. Греки называют его Гераклом, а его отцом считают великого небесного бога, которого они зовут Зевсом.
Жители поселения плохо представляли себе, кто такие эти загадочные греки, но имя Геракл выговаривалось ими легче, чем Мелькарт, и потому понравилось больше. Правда, капитан и сам не слишком чисто говорил по-гречески, а в восприятии местных жителей имя героя исказилось еще больше и стало звучать как Геркулес.
Как и предложил финикийский капитан, алтарь Геркулесу был сооружен совсем недалеко от того места, где Потиция в первый раз увидела его спящим. Правда, местные жители не больно-то разбирались в почитании богов и за советом насчет обряда обратились к тем же сведущим в таких делах финикийцам.
Было решено, что во время церемоний следует отгонять от алтаря мух и собак, поскольку собака подвела героя во время схватки, не придя на помощь, а мухи мешали ему сражаться и тем помогали врагу. А вот стервятникам, к которым герой относился хорошо, предполагалось бросать на съедение часть жертвенного животного. Остальное, зажаренное на жертвеннике, надлежало съесть в память об отменном аппетите, который проявил полубог после победы.
Таким образом, хотя первым местным божеством, к которому обращались с молитвами, являлся Фасцин, первый алтарь в земле Румы оказался посвященным божеству, уже почитавшемуся в других краях.
Потиция понесла. Ее отец с самого начала заподозрил, что они с незнакомцем не просто обменивались взглядами, а появившиеся со временем признаки беременности подтвердили его догадку. Разумеется, отца девушки это порадовало. Согласно семейному преданию, давняя праматерь их рода имела отношения с нуменом, то есть получалось, что Потиция происходит от того самого Фасцина, чей амулет она носила. А стало быть, полубог Геркулес мог уловить в ней эту искру божественности и найти ее достойной чести выносить его ребенка. А уж ребенок-то, надо думать, родится и вовсе необыкновенным, ведь он будет потомком нуменов, богов и людей. Одна мысль об этом преисполняла Потиция гордостью.
Его дочь, увы, одолевали мрачные мысли. Она понятия не имела, чьего отпрыска носит под сердцем, и смертельно боялась родить чудовище – дитя Какуса. Ведь если это случится, новорожденного убьют сразу же, да и ее могут не помиловать. Что за существо шевелится в ее утробе – бог или чудовище? Бедняжка терзалась, не находя себе места, а отец, не понимавший ее тревог, считал, что ее нервное состояние связано с первой беременностью.
Совершить первое жертвоприношение Геркулесу жители решили не в годовщину его прихода (хотя впоследствии стали отмечать именно эту дату), а в тот весенний день, когда впервые увидели Какуса. Таким образом, первый праздник Геркулеса должен был стереть горькую память о людоеде. Потиций и Пинарий спорили из-за того, кто возьмет на себя обязанность убить быка, поджарить мясо и положить приношение на каменный алтарь, перед тем как употребить его в пищу. Преимущества не добился ни тот ни другой: было решено, что они проведут обряд вдвоем. Однако в день жертвоприношения Пинария на месте не оказалось (он задержался у родственников, живших выше по реке), и Потиций решил приступить к церемонии без него.
Собак отпугнули палками, мух разогнали метелкой из бычьего хвоста. Зарезанного быка поджарили, жаркое возложили на алтарь, распевая при этом не очень понятные обрядовые песнопения (им научил поселенцев финикийский мореход). После этого Потиций созвал всех сородичей на праздничный пир.
– Мы должны съесть все это, – заявил он, – не только мясо, но и все потроха, кроме доли стервятников, включая сердце, почки, печень, легкие и селезенку. Такой пример подал нам сам Геркулес, ненасытно поедавший все без разбора. Съесть эти части жертвенного животного для нас высокая честь, и мы должны начать с них. Вот, дочка, тебе я даю порцию печенки.
Пока Потиция ела, она вспомнила тот первый раз, когда увидела Какуса, и молитву, обращенную к Фасцину. Вспомнились ей и ужас, испытанный при нападении чудовища, и ласка того человека, которому теперь воздавали честь под именем Геркулеса. Такого рода воспоминания всегда вызывали у нее резкие перепады настроения, а сейчас, когда до родов оставалось совсем немного, Потиция воспринимала все это с особенной остротой. Ее часто посещали и смех и слезы одновременно, так что отец, бывало, задумывался: не слишком ли хрупким сосудом является его дочь, чтобы принять семя полубога?
Праздник уже подходил к концу, когда вернулся, приведя свою семью, Пинарий.
– А ты запоздал, родич, сильно запоздал! Боюсь, что мы обошлись без тебя, – сказал Потиций. Полный желудок и порция вина, лишь слегка смешанного с водой, привели его в хорошее настроение. – Похоже, что с внутренностями уже покончено. Правда, остались лакомые кусочки мяса, и они тебя дожидаются.
Пинарий, и так злившийся из-за опоздания, разгневался еще пуще, расценив произошедшее как ущемление своего достоинства.
– Это оскорбление! Мы договорились, что я должен служить наравне с тобой как жрец святилища Геркулеса и что поедание потрохов – это священный долг, а ты ничего из них не оставил мне и моей семье!
– Ты опоздал, – проворчал Потиций, чье настроение стало портиться. – Ешь то, что тебе оставил бог.
– Уж не ты ли этот бог?
Слово за слово, и родственники основательно разругались. За спиной каждого стали собираться его сторонники, и перебранка, того и гляди, могла перерасти в потасовку, но тут всеобщее внимание привлекли крики Потиции – у нее начались схватки.
Роды прошли прямо перед алтарем Геркулеса – переносить куда-либо роженицу в таком положении никто не решился. Мучилась Потиция недолго, роды оказались скорыми, хотя и тяжелыми, поскольку младенец был необычайно крупным. Повитухи, отроду не видевшие такого дитяти, ударились в панику, боясь, что ему не выйти, но, хотя боль была страшной, все обошлось.
Мальчик вышел-таки из чрева, мать потянулась к нему, и повитухи вложили его ей в руки. С первого взгляда стало ясно, что, сколь бы нечеловечески велик ни был этот ребенок, чудовищем его назвать было нельзя. Здоровый младенец, с нормальными пропорциями тела и конечностей, очень крупный, но не более того. И все же Потиция пребывала в неуверенности. Она смотрела в глаза младенца, как смотрела в глаза обоим возможным отцам – и Какусу, и Геркулесу. Смотрела и не видела ответа – эти глаза могли принадлежать сыну как того, так и другого.
Впрочем, теперь это уже не имело особого значения: она чувствовала, что чьим бы ребенком ни был этот малыш, он дорог ей и драгоценен для Фасцина. Слабая, еле отошедшая от боли Потиция сняла амулет Фасцина со своей шеи и надела на шейку новорожденного.