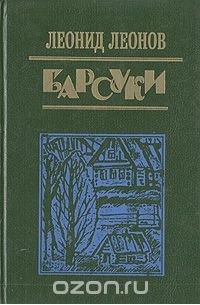Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
XV. Катушин тоже закричал
…Совсем забыл Сеня Катушина.
Настя была для Сени – жизнь, смех, буйный трепет любовной радости. Катушин – уныние, безволие жизни, недвижность тишины. Тот давний поцелуй в воротах безмерно отдалил Сеню от Катушина. В такой же степени потянуло его к Степану Леонтьичу после первой размолвки с Настей.
В обед он поднялся по каменной лестничке наверх прочесть ему свои первые стихи. Приоткрыв дверь, он осмотрелся и не узнал сперва этой непривычно чистой, полуопустелой комнаты. Недобрым предчувствием сжалось Сенино сердце.
Коечка старика была задернута пологом. Не было обычной табуретки у окна, на которой сиживал с книжкой в праздничные дни Степан Леонтьич. Зато рядом с койкой сидела рябая баба и сонливо вязала чулок. Заметив Сеню, она просунула спицы между головным платком и виском и почесала там.
– Тебе что? – спросила она враждебным полушепотом.
– Мне Степана Леонтьича… – просительно сказал Сеня.
– Дверь-то закрой сперва, – заворчала баба. – Если по делу, так вот он тут лежит. – Она кивнула на койку, закрытую пологом. – Уж какие дела к мертвому!
В то мгновение из-за полога раздался короткий, глухой рывок кашля. Сеня подошел и бережно отвел полог в сторону. Катушин, еще живой, лежал там, свернувшись, точно зябнул, под крохотным квадратным одеяльцем из цветных лоскутков. Когда он перевел взгляд на Сеню, тот поразился тусклому спокойствию стариковых глаз. В поблекшем, мертвенном лице не было никакого оживляющего блеска, – может быть, из-за отсутствия очков.
– Здорово, Степан Леонтьич, – сказал Сеня и попробовал улыбнуться.
– Кто? – не узнавая, жестким, надтреснутым голосом спросил Катушин.
– Это я, Семён. Прихворнул, что ли, Степан Леонтьич?.. – Сене стало стыдно, что вот он – здоровый, а Катушин – больной.
– Да, – невыразительно сказал старик и порывисто сжался, точно коснулись его холодом. – Садись, гость будешь.
– Ты, паренек, посидишь тут? – спросила баба еще, залезая спицей себе за ворот. – Посиди, мне тут сбегать. Обряжать-то не скоро еще! – жестко и просто сказала она, складывая вязанье на выдвинутую из-под катушинской кровати корзиночку.
– Что ты, дура, мелешь… кого обряжать? – озлился Сеня, но баба уже ушла за дверь.
Сене вдруг стало жутко от наступившей внутри него тишины. Рвалась старой дружбы нить, ее не связать вновь. Притихший, но полный внезапного глубокого чувства, Сеня пересел к Катушину на койку. Ему хотелось быть в ту минуту ближе к старику.
– На табуретку сядь… не тревожь, – сухо сказал Катушин и подвигался под одеялом. – Руки гудут все!
Сеня покорно пересел обратно на табурет и уже боялся начинать разговор.
– Что-то не признаю я тебя, – продолжал Катушин. – Плохо стал людей различать… Все мне лица одинаковые стали.
– Я Семён… от Быхалова. Помнишь, ты меня грамоте учил, книжки давал. Я вот навестить тебя пришел, Степан Леонтьич.
– Помню, – без выражения сказал Катушин, – так ведь тот маленький был!
– Я вырос, Степан Леонтьич, – извиняющимся тоном произнес Сеня и смятенно стал стирать пятно с пола носком сапога.
– Не ширкай, не ширкай… – остановил Катушин и кашлянул разок.
Прежнего задушевного разговора не выходило.
– …По картузу в день – считай, сколько я их за всю жизнь наделал! – снова начал Катушин, и лицо его на короткое мгновение отразило тоску. – Картузы сносились, вот и я сносился… – Сеня заметил, что старик сделал движение под одеялом, точно махнул рукой. – Я тебя теперь помню. Ты забыл, а я помню… Я все помню! – Что-то прежнее, незабываемое промелькнуло в катушинских губах.
– Давно лежишь-то? Что болит-то у тебя? – неловко допрашивал Сеня.
– …Я тебе тут бельишко оставлю, не отказывайся. Подшить, так и поносишь! – продолжал вести свою мысль Катушин.
– Ну, поживешь еще! Спешить, Степан Леонтьич, некуда. Человеку сто лет сроку дано, – заторопился Сеня. – Это баба чулошная тебя так настроила. Я бы ее турнул, бабу, – право, турнул бы!..
– Бабу не тронь… она за мной ходит, баба, – поправил Катушин.
Сеня встал и отошел к окну. Он обмахнул рукавом запотевшее стекло и глянул наружу. Поздней осени гнетущее небо продувалось из края в край острыми холодными порывами. Настин дом казался безотрадно серым. Темные окна не пропускали чужого взгляда внутрь.
«Настя… она не знает, что я тут. Степан Леонтьич помрет. Меня возьмут в солдаты…»
– Паренек… – заворочался Катушин, силясь поднять голову с пролежанной подушки, – дай-кось водицы мне… на окошке стоит.
Старик пил воду, чавкал, точно жевал. Отпив глоток, он внимательно глядел в низкий, прокопченный потолок, потом опять пил.
– …Четвертого дня просыпаюсь ночью, а он и стоит в уголку, смутительный… дожидается, – сказал Катушин, откидываясь назад.
– Кто в уголку? – и невольно оглянулся в угол.
– Да Никита-т Акинфыч, дьячок-то мой… приходил. Я ему: ты подожди, говорю, деньков пяток. А он: что ж, говорит, догоняй, подожду.
– Это тебе мерестит, Степан Леонтьич, ты противься… – убежденно сказал Сеня. – Ты не верь. Это истома твоя.
– Никита-т истома? – строго переспросил Катушин. – Не-ет, Никита не истома.
Сеня не знал, что возразить. Он вспомнил: достал исписанный листок и вопросительно поглядел на старика.
– Я тут стишок написал, прочесть тебе хочу. Ты послушай, – и опять глядел с вопросом Сеня, но стариково лицо стало еще неподвижнее.
Не смущаясь этим, Сеня стал читать по листку, но в угасающих глазах старика были только испуг и обида, точно заставляли умирающего бегать за быстроногим.
– Я пойду лучше… – потерянно сказал Сеня и встал. – Прощай покуда, Степан Леонтьич!
…В тот же вечер Матрёна Симанна занесла ему в лавку записку. Тревожными словами Настя просила Сеню прийти в девять к воротам ее дома. Старуха так вся и струилась легчайшими насмешечками, покуда Сеня перечитывал записку.
– Что ж это вы, божья коровка, кривитесь так? – тихо спросил он, постукивая гирькой по прилавку. – Чему бы вам радоваться?..
– Да что, голубчик, какая у старушки радость! – храбро проскрипела Матрёна Симанна. – Старушечья радость скучная! А свадебке как не радоваться… всё на платье подарят. Мне бы черненького, белое-то уж и не к лицу!
…Неслись в сумерки зарядской низины тонкие снежинки, первые вестницы зимы. Сеня присел на тумбу; потом, чтоб провести время, он походил взад и вперед: Настя все не шла.
«Заболела? Тогда не звала бы. Помер кто-нибудь? Тогда к чему я ей!» – так метались мысли. Зловещий намек старухи как-то не дошел до сознания.
У ворот стоял лихач, его только теперь заметил Сеня. О чем-то догадываясь, Сеня с ненавистью поглядел на пустое сиденье лихачовой пролетки. А лихачу, видимо, было скучно…
– Разлюбезненькую поджидаешь? – спросил он с величественным добродушием и поворочался, как на оси, на ватном заду.
– Нет, барина твоего убивать пришел, – озлился Сеня.
– Занозистый! – определил лихач. – А разлюбезненькая-то не придет, – зубоскалил тот певучей скороговоркой. – Я ее даве с солдатом видал. На лавочке в Александровском саду любовь крутят!
– Это ты мамашу свою видал, – съязвил Сеня, отходя от ворот.
В ту минуту скрипнула дверца ворот.
– Ты давно тут?
Она озабоченно смотрела на него из-под приспущенного на глаза белого пухового платка. Черная прядка волос выбилась на бледную щеку. В смутном свете ночи и снежинок был тот локон как-то прощально смел.
– Куда пойдем?.. К Катьке, что ли? – шепотом спросил Семён.
– Не хочу к ней. Пойдем туда… – Она указала глазами в темноту улиц. – Ты знаешь… это его лихач!
Подхватив Сеню под руку, она потащила его в переулок, неясно пестревший снеговыми пятнами. Сзади слышались шаги. Настя почти бежала. Впереди тоже шел кто-то. Они остановились и приникли друг к другу в темном углу двух высоких каменных стен.
– Настя, – горячо зашептал Сеня, привлекая ее к себе, – неужто в самом деле замуж выходишь?.. – и он наклонился к ней губами, нежно и жадно.
– Погоди… дай людям пройти, – быстро и досадливо оборвала Настя, отстраняя его от себя. – Потом.
Двое проходили мимо. Молодой с любопытством вгляделся, а другой, постарше и побессовестней, даже сказал «эге». Еще не дождавшись, пока пройдут, Сеня губами нашарил ее губы под платком. Они были солоны, холодны и влажны.
– Ты плачешь? – догадался он.
– Лихача-то видел? – вместо ответа сказала она.
– А ты как решила?
– Папенька просил… Хочет дело расширять. Он объяснял, я не поняла… – случайно или нарочно избегала Настя прямого ответа.
Вдруг Сеня махом сорвал с себя картуз, провел руками по волосам.
– Что ж, добрая путь вам, Настасья Петровна! – размашисто сказал он. – Зерно к зерну, а рубль к рублю. Хозяйкой будете…
– Он меня в театре увидел… Стал цветы присылать. Папенька смеялся, а я не знала, – рассказывала Настя и притягивала за руку Сеню. – Ну, обними же!
– Ты мне так не говори. Я тебе себя самого в конверте прислал бы, каб знато было… – Сенин голос дрожал.
– Куда пойдем-то? – И сама указала в свистящее вьюжное пространство, за арку Китайских ворот.
Теперь они шли по набережной навстречу снегу. Ветер был в сторону города, городских гулов сюда не доносилось. Место тут глухое. Река стыла и замедляла течение черных и гладких вод. Как огромные латунные подвески, спускались в глубь ее отражения береговых фонарей.
Они оперлись на парапет ограды и глядели в воду. Сенины пальцы гладили сухое, холодное железо решетки.
– На свадьбу-то позови… Калошки там снять понадобится, тарелочку помыть!.. Кто он?
– Мне холодно, – зябко ответила Настя.
Снег усиливался, швы в кладке гранитных камней побелели. На Китайской стене гнулись облетелые стебли сорных трав и хилых березовых кустков, выросших там прихотью ветра.
– Фирму Желтковых знаешь? Вот… оттуда, – сказала Настя и повернулась к нему спиной.
– В лесу бы мне с ним один на один встретиться! – ответил Сеня.
– Что ж, убил бы, что ли? – недоверчиво повернулась Настя.
– Нет. А сжал бы, сколь силы хватит. Выживет – пускай живет, собачья отрава!..
– Ну вот, – эхом сказала Настя, – а я девочкой на Петю Быхалова рассердилась, что никого не убил… – Она кусала губы. – Тебя на войну-то не возьмут?
– А тебе что? Нехорошо чужой невесте о чужом заботиться. Ведь не любишь?
– Право, не знаю… Чудно как-то, – созналась Настя.