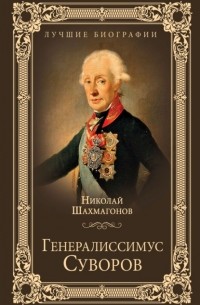Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
«Чем больше удобств, тем меньше храбрости…»
1 января нового, 1748 года в приказе по лейб-гвардии Семеновскому полку значилось: «Явившемуся из отпуска 8-й роты капралу Суворову быть при 3-й роте».
Русский военный деятель Александр Владимирович Геруа, известный авторством военно-теоретической работы «К познанию армии», опубликовал в 1900 году, к столетию со дня смерти полководца, отметил:
«Зная особенности быта гвардейского полка того времени, будет ошибочно объяснять спартанские вкусы Суворова привычкою, выработанною во время долгого его пребывания солдатом… Суворов жил с немалыми удобствами, на квартире вне полка, у своего дяди-офицера. У него были свои дворовые; походы он совершал с комфортом, отдельно от «марширующего баталиона»; вообще широко пользовался всеми льготами солдата-дворянина».
В.С. Лопатин рассказал:
«Семеновский полк занимал в Петербурге обширную слободу «позади Фонтанки», застроенную вдоль прямых улиц («першпектив» и линий) административными, хозяйственными и жилыми домами. Ротные дома с огородами располагались вдоль своей линии. В солдатских было восемь покоев, каждый на два семейства или на четверых холостых нижних чинов; офицерские состояли из двух квартир: семейные жили отдельно, холостые – попарно. Каждая рота имела собственный плац для учений. Центром слободы являлся полковой двор, где располагались канцелярия и счетная комиссия, три цейхгауза для хранения оружия и амуниции, госпиталь, баня, швальня, где шились мундиры. Неподалеку стояла деревянная полковая церковь, освященная вскоре после прибытия Суворова в полк. Рядом находился полковой плац. Капралу Суворову недолго пришлось жить в солдатском доме. 6 сентября 1748 года приказом по полку ему было позволено квартировать «в лейб-гвардии Преображенском полку, в 10 роте, в офицерском доме, с дядею его родным, реченного полку с господином капитан-поручиком Александром Суворовым же».
Что тут удивительного, полк-то был непростым, одним из полков лейб-гвардии, а лейб-гвардия – от немецкого Leibgarde, где Leib – «тело» + лат. guardia, «защита, охрана» – представляла собою отборные, как ныне бы сказали, элитные воинские части, в задачу которых входила охрана особы императора и его местопребывания.
Основная задача – караульная служба, но также в обязанности лейб-гвардии входило участие в торжествах государственного значения, таких как коронация государей, а также в парадах, шествиях и торжественных выездах.
Отбор в полки лейб-гвардии был особым. Прежде всего, конечно, родовитость тех, кто принимался на службу. Немаловажное значение имел рост, хотя, как известно, с этим-то вопросом у Суворова были проблемы, но его всё же зачислили в лейб-гвардии Семёновский полк, поскольку он был сыном генерала достойного, известного и пользовавшегося уважением царствующих особ. Интересно, что старались подбирать воинов даже по цвету волос. В лейб-гвардии Преображенский полк брали самых рослых и русоволосых рекрутов, в лейб-гвардии Семёновский принимали блондинов, а что касается роста, то тут вопрос так остро не стоял, в лейб-гвардии Измайловском служили брюнеты. Особый отбор проводился для гвардейской кавалерии. В лейб-гвардии Конном полку служили блондины, лошади же у них были гнедыми, а лейб-кирасирский отбирали рыжих, причем и лошади у них были рыжей масти.
В конце 1748 года двор императрицы Елизаветы Петровны переехал в Москву. Подобные переезды были нередки. Сопровождала же императрицу лейб-гвардия, в данном случае наряжен был для этой цели «гвардейский отряд» в составе 3-го батальона лейб-гвардии Семёновского полка.
Александр Васильевич Суворов служил во втором батальоне, а потому был удивлён назначением в отряд, отправлявшийся в Москву. Тем не менее командировка порадовала его, поскольку давала возможность повидаться с отцом и сёстрами.
В Москве, кроме обычных караулов в «дом её императорского величества» на Яузе стали наряжаться и недельные караулы «по Генеральной Московской Сухопутной гошпитали». Ныне это Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко.
В свой первый «гошпитальный» караул Суворов получил назначение 1 июля 1749 года. Затем караульная служба проходила согласно графику, который, правда, нередко нарушался по каким-то неведомым Суворову, но, очевидно, веским причинам. Следующий раз Суворов заступил в караул 15 июля, причём на две недели, затем, едва сменившись 30 июля, снова оказался в наряде уже 12 августа. Завершающееся дежурство капрала Суворова длилось без смены восемь недель.
В музее Главного клинического военного госпиталя имени Н.Н. Бурденко бережно хранятся сведения о тех караулах, в которых бывал в госпитале Суворов.
Не всё в ту пору было гладко в учреждениях лечебных. От глаз Суворова не укрылись случаи лихоимства обслуживающего персонала, бездушного отношения к солдату. Ведь в основном в ту пору медиками как военными, так и гражданскими были иноземцы, которые ещё при Петре I, а особенно при его первых преемниках, по словам историка В.О. Ключевского, «посыпались в Россию, точно сор их дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забились на самые доходные места в управлении…». Одним из доходнейших мест оказалась медицина.
Суворов не случайно впоследствии писал: «Бойся богадельни, немецкие лекарственницы, издалека тухлые, сплошь бессильны и вредны; русский солдат к ним не привык; у вас есть в артелях корешки, травушки, муравушки. Солдат дорог; береги здоровье; чисти желудок, коли засорился, голод – лучшее лекарство… В богадельне первый день – мягкая постель, второй день – французская похлебка, третий день – ея братец, домовище, к себе и тащит. Один умирает, а десять его товарищей хлебают его смертный дух…»
Прямо указывал он и на то, от чего случаются недуги в солдатской среде:
«Причины болезней, изыскивать не в лазаретах между больными, но между здоровыми и в полках, батальонах, ротах и разных отдельных командах, исследовав их пищу, питье, строение казарм и землянок, время их построения, пространство и тесноту, чистоту, поваренную посуду, все содержание, разные изнурения, о чем доносить полковому или другому командиру, а в другой раз уже в главное дежурство».
Ныне всё это закреплено в уставах. К примеру, каждый командир полка, отдельного батальона или отдельной роты, то есть воинских формирований, в штате которых находятся солдатские столовые, обязаны периодически до приёма пищи личным составом снимать пробу, а дежурные по этим формированиям делают это перед завтраком, обедом и ужином в обязательном порядке. Ну а что касается порядка в помещениях, личной гигиены солдат, то контроль за этим проводится постоянный.
Одним словом, не напрасно побывал Суворов госпитале, не напрасно нёс там службу. Выводы, сделанные им, помогли в период командования полком ввести свои порядки, свои правила, которые помогли избавиться от повальных эпидемий, да и вообще болезней.
Однажды, уже в 60-х годах, императрица Екатерина II, побывав в полку и сразу обратив внимание на то, что солдаты Суворова имеют бодрый и здоровый вид, сказала:
– Как вам удалось добиться, что в полку вашем здоровый дух и в прямом и переносном смысле? В какой полк ни приедешь, везде жалуются, что болезни так и косят, что чуть не наповал болеют. А у вас, гляжу, больных совсем нет. Госпиталь полковой пустует…
Суворов руками развёл и выпалил:
– Помилуй Бог, матушка-царица, христолюбивое воинство от латинской кухни! В госпитале один умирает, семеро смертный воздух хлебают, как тут выздороветь?
– Согласна, что не всё хорошо в госпиталях, – кивнула императрица. – Но ведь помощь-то врачебная всегда нужна…
– Нужна-то нужно, да только у нас на случай, коль кто захворает, своё врачевание имеется: молитва да пост – первое, чарочка да табачок – второе, а потом, матушка-государыня, нужно самому беречь себя от болезни, так и мой Прошка-камердинер говорит, а он у меня, помилуй Бог, какой умный – умнее меня!
Государыня улыбнулась и похвалила Суворова, а тот добавил к сказанному:
– Чем больше удобств, тем меньше храбрости.
Суворов считал, что если поддерживать всегда здоровье в теле, то и дух здоровым будет.
Но это было уже позднее, когда он командовал полком, а пока ещё нужно было стать офицером.