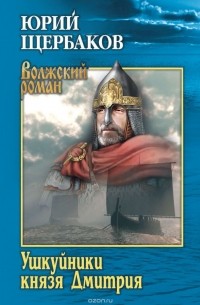Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 2
Чего-чего, а уж в засадах новгородцы таиться умели. На то и ушкуйники! Как сам северный хозяин, в снегу растворясь, полдня поджидает у проруби сторожкого моржа, так и они умеют таиться неслышно, покуда не подаст знак ватажный атаман. Дремлет сосновый бор. Поскрипывает недовольно вершинами матерых смолистых лесин, только нарушая сонный покой, охнет вдруг старое древо и, не понимая еще смерти своей, поклонится в последний раз земле-матушке и упокоится, широко разбросав кругом ядреные шишки. Не в том ли и смысл жития – уходя, оставить после себя доброе семя…
Да не думалось о том татарам, молча въезжавшим на широкую поляну, окаймленную густым орешником. Чужд степняцкой душе лесной смолистый запах, и на каждый нечаянный шорох в сумрачной глубине бора руки богатуров сами собой ищут рукояти сабель или древка луков в походных саадаках. А этот кусок ровной земли, густо поросший травами, видно, самим аллахом даден воинам, утомленным неприветливой лесной дорогой. Да и полон, хоть и подгоняемый плетями, тянется за хвостами коней все неспешней. Можно заставить новых рабов бежать, а не ползти, да путь в Орду далек, а звонкие монеты на сарайском торжище купцы отсыпают за живых.
Пленники – молодые жонки, девки и дети, – выходя на поляну, молча садились или ничком падали в непожухшую еще духмяную траву. Не плакали. Да и то: слезами горю не поможешь и пепелище родное не зальешь. Наян, начальник отряда, довольно поглаживая отвислые монгольские усы, качнул копьем, и дозорные, разделившись, нехотя тронули коней и на пройденную уже дорогу, и вперед, в сумрачную пасть неизведанного еще леса. Иного пути не было: круг поляны за густорослью орешника громоздился бурелом да зеленел мох на прогнивших деревах старинной засеки.
Наян спрыгнул наземь, косолапя, разминая затекшие ноги, зашагал к краю поляны, недоверчиво вглядываясь в сплетения стволов и ветвей. Вслед за ним, гортанно переговариваясь, пососкочили с коней и остальные татары. Лошади потянулись к траве, и всадники им не препятствовали: урусская трава слаще степной, жесткой и пыльной. Да и все здесь, в неласковом краю лесных шаманов, иное, несвычное.
«Даже вороны в заколдованном этом чертоге хрипят иначе…»
Последнюю мысль наяна разорвала пополам тяжелая железная стрела, с одинаковой легкостью пронзившая арабскую кольчугу на груди сотника и его черное сердце. Ноги наяна дрожали еще в последней судороге, а уж самострел Федосия Лаптя выцеливал новую жертву среди мечущихся по поляне татар. А и не половина ли их легла сразу под стрелами повольников, хлынувшими сердито гудящим роем из‑за лесной засеки! Дождались своего часу ушкуйники. По топям, мхам, вековечным зарослям, буреломам привел их на богатырский пир завидовский охотник Иван. И теперь уж каждый норовил допить хмельную чашу до дна. Не таясь более, встали они над засекой, и тяжко гудели под их пальцами жильные тетивы, и хлопали облегченно по кожаным рукавицам, вздетым на левые руки, чтоб не окалечиться.
И снова до уха растягивал тетиву новгородец, выискивая правым глазом, куда ловчее пустить оперенную смерть. Влет, как белку на сосне, били стрелы вскакивающих на коней татар. Может, пяток только и вырвался со страшного места, и, нахлестывая лошадей, бросился вдогон двум дозорным, меряющим пройденную уже дорогу. Туда же, к дальнему концу поляны, прикрываясь от стрел круглыми щитами, пятились спешенные татары.
Петр Горский, первым отбросив лук, махнул через засеку. За ним, обнажив сабли, продрались через орешник и остальные. Одно дело – бить врага на расстоянии, другое – когда меч в раззудевшей руке разваливает поганого нехристя наполы! Тогда только и утишается в повольницком сердце лютый пламень ненависти. А и ненамного превосходят новгородцы числом вспятивших татар. Рассыпался смертный бой клубками одиночных схваток по всей поляне. Скрежеща сталью о сталь, рыча, захлебываясь потом и кровью, перекатываются они по лесной мураве, по зверобою и душице. Не отступают татары. Как степные волки, загнанные облавой, с налитыми кровью глазами кидаются они на преследователей, зорко высматривая место в сочленениях доспеха, куда верней вогнать алчущий крови клинок.
И над оскользнувшимся Горским свистнула смертная сабля. Да упредил беду Федосий – толстая стрела просадила и щит, и броню, показав свой каленый рожон солнцу под лопаткой татарского богатыря. Да и мудрено ли! Страшное то оружие – арбалет – перенял Федосий у давних новгородских нелюбей – немцев и не одного таки клятого крестоносца попятнал тяжелой железной стрелой под несокрушимыми латами!
Всяк отличился, всяк из кровавой чаши испил. И, когда замолкли последние вражьи хрипы, пошатывало победителей, будто и впрямь хвативших изрядно хмеля. А иные так на том пиру напотчевались, что и заснули вечным сном среди поверженных татар. Густо напиталась кровью мать сыра-земля. И родит она по весне от русской крови – ласковые луговые цветы, а от черной вражьей – чертополох да крапиву. И не помирятся они никогда, ибо вечны в мире добро и зло. А сегодня добро перемогло.
Не успели еще полонянки освобожденными от ремней руками обнять живых спасителей да обиходить раненых, как выкатилось на поляну новое конное воинство. Остроконечные шеломы, круглые красные щиты… Свои, русичи! Передний, густо забородатевший воин, поднял защитную стрелку с переносья, осанисто спрыгнул с крупного буланого коня.
– Насекли басурманов, – пророкотал он, приветно подымая руку встречь Горскому. – Ан и Москва без дела не сидела. Тех, что утекли от вас, мы порубали.
– Слухайте, православные! – воин возвысил голос. – Я, Семен Мелик, воевода – блюститель Великого Княжества Московского, смекаю, что идти бы вам всем людством в земли московские. Село ваше нехристи на ветер пустили, мужиков порешили. Одна у всех сирот ныне защита – светлый князь Дмитрий Иванович. Он не то что Ольг – и животы ваши, и пожитки оборонит от супостатов! Приневоливать не мочен – тут ваша отчина и дедина. Волным воля!
Боярин ласково положил руку в железной рукавице на стальное оплечье кольчужной рубахи Горского:
– Не ведаю, кто вы есть. Пусть и соколья отпетые. Такие крепкой московской стороже надобны. А Москве надобны – земле Русской надобны…
Неблизок путь от границы рязанской до Москвы. Не раз уж и не два обчесали минувшую битву языками удалые новгородцы, а дорога все не кончается. Одного только Занозу усталь не берет. Нету от него спокою побратиму Федосию.
– Нет, брате, не пустят тя в рай святые угодники! Ить самострелы сам папа римский проклял, поелику бесовское то орудье.
– А мне латынские попы не указ, – отмахнулся Федосий.
Однако Заноза остановиться не мог, будто и впрямь сидела у него в седле здоровенная заноза, заставляя беспокойно ерзать и седалище, и язык. Теперь уже нацелился он на едущего обочь на мышастой татарской лошади завидовского Ивана.
– Вань, а Вань, чем же ты тех татаровей поверг да сомкнул?
– А лбами, – коротко отвечал под хохот дружинников невозмутимый Иван. Как ни бился Заноза, паче того словца от охотника не услышал.
– В голове небогато, потому и слово свято, зато здоров Иван Святослов! – скороговоркой сыпал Заноза, коршунячьим взглядом выискивая новую жертву. Так и прилипло к рязанскому богатырю шутливое имя «Святослов». И кто ведает, может, прогремит оно по всей Руси, да и к потомкам далеким эхом докатится. Бог один то ведает, что кому на роду написано.
Милостива ль будет судьба к рязанским беженцам? Как соседей-погорельцев привечают их москвитяне по деревням да лесным выселкам. Давно ли самим приходилось хорониться в непролазных чащобах от незваных гостей? Давно ли князь Дмитрий огородил крепкими сторожами московскую землю? Сколь раз вытаптывали крестьянскую радость в золу злые татарские кони! Зато ныне присмирели поганцы. Потому и тянутся на Москву люди из рязанских, литовских, смоленских земель, где несладко под чужой пятой русскому сердцу.
Лежит Москва посередь русской земли, как матка-медведица в лесной берлоге. Даром, что ли, древнее ее названье и есть Медведица! А круг нее, как медвежата, – несмышленыши: и Таруса, и Коломна, и Можай, и Руза, и Белозерск, и Кострома, да и не сочтешь всех, а все матери дороги, всех она от ворога боронит. Есть у Медведицы и брательник. Большой, да несмышленый вымахал Нижний. И все у него ладом, покуда по московскому слову ходит, а как норов свой казать начнет, взбрыкивать, то беда. Обложили Медведицу охотнички – Орда да Литва, так и норовят рогатину в сердце наставить. А Тверь да Рязань – клятые закоперщики, дразнят, выманивают Медведицу под чужой топор. А того не ведают, что после Москвы их черед придет, ибо зачем матерым охотникам дворняги-пустобрехи? Одно у Москвы на уме – отлежаться, сил прикопить, детушек возрастить, а там и встанет она да лапами могучими загонщикам поодиночке кости переломает!
Так говорил Петру Горскому на неблизкой московской дороге боярин Семен Мелик. А Новгород и не поминал воевода. А почто и поминать? Как медведь-шатун, таится он в северных лесах да болотах, и никто не ведает, что у него на уме. Экая силища втуне лежит! А ведь и он падет, коли Москва сгинет – под литовской ли рогатиной, под татарской ли стрелой, а то под свейской булавой али немецким мечом. Собрать Русь воедино тщится великий князь Дмитрий Иванович не корысти ради, общего блага для. И добрые воины ему ныне зело надобны. Люба будет повольничья ватажка князю, ой люба! Горский молчал, внимал, думал, чувствуя, как набухает в душе завязь доброго желания послужить святому делу. Не за княжьи куны, а за спокой этих вот безустальных огнищан, вырывающих клочок за клочком у леса будущие нивы, а паче того, чтоб не слыхать никогда, как звонит колокол на завидовском пепелище, да за улыбку, которой дарит его юная рязанка Евдокия. Дунюшка, Дуняша…
И вторая сердечная докука явилась атаману на московской дороге. Не ладанкой-заговоренкой, не зельем приворотным, а под теплым взглядом серых девичьих глаз оттаяло суровое северное сердце. Просто оно у добра молодца. Все – как на ладони. А и на ладонь положить готов его, кузнечным молотом стучащее в груди, ватажный атаман! Ведает это девушка. Ведает и Петр, что услышит желанное: «Ты мне люб…» Потому и не осталась Дуня ни в селах московских, ни в самой Коломне.
Придет срок, и вырвутся на волю заветные слова. Тревожными птицами полетят они над землей, чтобы добавить огневой силы трепетной зарнице, и вспыхнет зарница, и осветит еще для кого‑то миг, в котором вся судьба. Да будет так! А пока трясется на дорожных ухабах телега, размеренно рысят всадники, и русокосая Дунина головка, как подсолнушек за солнышком, поворачивается вслед ненаглядному ладе.
Не поворачиваясь, чувствует этот взгляд Горский, чувствует его и Мелик. Понимающе улыбаясь в бороду, кладет широкую ладонь Петру на плечо:
– На Москве пущай девка у меня живет. Моя Епраксия рада будет. А теперь смекай, – боярин вернулся к прежнему разговору, – добрые подручники у князя – и Бренко, и Тютчев, и братан его Владимир Серпуховской, да один Боброк их всех стоит. Все ведает вещий волынец: не токмо, что в Орде да Литве деется, но такоже и в Риме, и в Кафе, и в Стекольне. Везде у него свой глаз. А в наших сторожах он всех, почитай, по именам помнит. Вельми учен Боброк и судьбу воинскую волхвованием прозирает. Под его началом бысть – честь великая.
Долгие дорожные разговоры вели и задружившие меж собой княжьи ратники и ватажники. А потому и не удивился Горский, когда на последней перед Москвою лесной ночевке собрались повольники у кострища, где сидел он рядом с Дуней, и Федосий сказал:
– Вот. Хотим ко князю на службу.
Весело потрескивал в огне сушняк, и тревожные искорки вспыхивали в глазах новгородцев и в серых бездонных глазах лады. Горский встал, будто клянясь, протянул руки к огню и отмолвил:
– И я с вами.