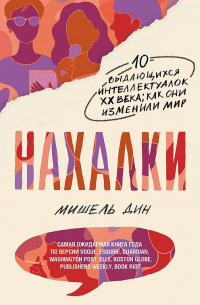Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 4. Арендт
Прославилась Ханна Арендт, когда ей было уже за сорок. Внимание публики к ней привлек почти пятисотстраничный трактат о тоталитарной политике, написанный насыщенной прозой – такой, какая часто бывает нужна для изложения великих идей. Поэтому легко забыть, что начинала она свою духовную жизнь как мечтательная барышня, писавшая километры стихов, цветисто заявляющая, что «побеждена страхом реальности, бессмысленным, беспочвенным, пустым страхом, слепым взглядом своим обращающим все в ничто, тем страхом, который сам есть безумие, безрадостность, горе и уничтожение».
Но именно это студентка Ханна Арендт написала своему профессору, философу Мартину Хайдеггеру, из дома, на весенних каникулах двадцать пятого года. У них был роман, протекал он бурно и оставил след в биографии обоих. Когда писались эти слова (в «защитном третьем лице»), этому роману был едва лишь год. Ханна назвала свое эссе Die Schatten – «Тени», открыто намекая на свои мрачные мысли. В двадцать с небольшим лет ее всерьез грызла мысль, что ничего из нее не выйдет:
Вероятнее всего, она так и будет искать смысл собственной жизни – искать в бесполезных экспериментах, в праздном и бессильном любопытстве до тех пор, пока не застигнет ее врасплох долгожданный и желанный момент, что вдруг положит конец этой бессмысленной суете.
Бессмысленность жизни и неожиданность конца – эти мысли часто всплывали в жизни Арендт, как и в жизни Уэст и Паркер. Арендт родилась в интеллигентной семье прусского города Кёнигсберга. Мать – волевая женщина, державшая на себе дом, и одаренная пианистка. Отец – инженер-электрик, а также любитель-историк, вечно копавшийся в книгах о древних греках и римлянах.
Знакомство Ханны с отцом было недолгим: Пауль Арендт в молодости, еще до женитьбы, заразился сифилисом. К тому времени когда дочери исполнилось три года, болезнь стала быстро прогрессировать. Подробности его распада были страшными: он падал на семейных прогулках в парке от атаксии (нарушение координации мышц), свойственной поздним стадиям сифилиса. Когда Ханне исполнилось пять, его пришлось сдать в специальный стационар. Умер он почти два года спустя, в тринадцатом году, и к этому времени перестал узнавать навещавшую его дочь. Арендт редко о нем говорила. По словам биографа Арендт Элизабет Янг-Брюль, Ханна говорила друзьям, что о болезни отца помнит лишь звук фортепиано – мать играла ночами, и музыка успокаивала мечущегося отца.
После смерти отца матери оставалось лишь поддерживать привычный ход вещей – она вышла замуж второй раз, на этот раз за преуспевающего бизнесмена, уже когда Ханна была подростком. В материальном смысле жизнь ее была благополучна – насколько это было возможно для вдовы-еврейки с дочерью в Германии после Первой мировой. Это был бурный период Веймарской республики – эпоха невообразимой инфляции, художественных экспериментов и восхождения Гитлера к власти. Но дома жизнь была нетрудной. Арендт всегда настойчиво повторяла, что мать защищала ее от любых проявлений антисемитизма. Если в классе кто-то позволял себе антисемитские высказывания, Арендт приходила домой и рассказывала матери. Марта Арендт писала учителям очередное возмущенное письмо, и проблема рассасывалась. Очевидно, этим объясняется неверие Арендт, будто антисемитизм, как она выразилась в «Истоках тоталитаризма», «существовал всегда».
Вопреки тому, что она писала о себе Хайдеггеру в «Тенях», перед всеми прочими юная Арендт представала безжалостно самоуверенной. Она издевательски разговаривала с учителями, потому что могла самостоятельно дома выучить не меньше, чем в школе под их руководством, и с удовольствием им об этом сообщала. Однажды, оскорбившись каким-то замечанием учителя (содержание которого утеряно для истории), она организовала этому учителю бойкот, и за это была исключена из школы. Поэтому готовиться к вступительным экзаменам в университет ей пришлось самостоятельно.
В поздней юности Арендт заинтересовалась философией и в особенности сочинениями задумчивого датского экзистенциалиста Сёрена Кьеркегора. Кьеркегор был одним из первооткрывателей концепции ангста – ощущения, что есть какой-то глубокий дисбаланс в мире и в нас самих. Во всяком случае, Арендт эта концепция зацепила. Именно в этот период она написала кучу плохих стихов, обнаруживающих глубокий романтизм их автора – женщины, впоследствии ославленной слишком холодной и слишком рассудочной (теми, кто читал ее невнимательно):
Услышав от бывшего бойфренда о блестящих лекциях профессора Хайдеггера в Марбургском университете, Арендт поступила и туда, сразу записавшись на курс Хайдеггера. Это был двадцать четвертый год. Ей было восемнадцать. Хайдеггеру – тридцать пять, он был женат, у него было два сына.
Трудно было бы в нескольких словах отдать должное сложным философским идеям Хайдеггера, но отличительной чертой его подхода к философии стал решительный отказ от преданности холодной и жесткой логике, свойственной прежним мыслителям. Он был из тех, кто считает, как написал в одном месте Дэниел Майер-Каткин, будто «и человеческий опыт, и человеческое понимание ближе к царству чувств и настроений, присущих поэзии» (идея для Арендт весьма привлекательная). Хайдеггер применял такой подход и в педагогике. Все говорят, что его лекции были моноспектаклями, перформансами, рассчитанными на большее, чем просто передача информации. Позднее Арендт напишет, как это воспринималось студентами:
Вот что говорили слухи: «Снова ожила мысль; вернули речь культурным сокровищам прошлого, считавшимся мертвыми, и оказалось, что говорят они совсем не те в зубах навязшие банальности, что мы привыкли от них ждать. Есть на свете учитель, и теперь, быть может, можно научиться мыслить».
Несколько месяцев Арендт училась мыслить, а в феврале двадцать пятого года Хайдеггер подошел к ней после лекции и спросил, что она читает. Она рассказала, и рассказала так неотразимо, что в ответ тут же появилась любовная записка: «Я никогда не смогу назвать тебя своей, но отныне ты всегда будешь в моей жизни, и чем больше, тем больше будет в ней смысла». Так все и началось.
Арендт и Хайдеггер часто описывали свой роман отвлеченно – как и следовало ожидать от людей, всю свою жизнь вложивших в идеи. Стиль их переписки придавал ей не только высокий драматизм, но и возвышенное умонастроение. В этой переписке, в отличие от любовных писем Уэст и Уэллса, не было ни сюсюканья, ни ласковых прозвищ. Вместо этого Хайдеггер (сохранились только его письма) писал что-то вроде:
Демоническое поразило меня. Безмолвная молитва твоих возлюбленных рук и сияющего чела окружила этого демона женственным преображением. Никогда со мной не случалось такого.
Но женственное преображение или что, а хватило демона ненадолго. Спустя всего три месяца после начала романа Хайдеггер дал задний ход. Внезапно тон его писем становится отстраненным, появляются фразы, что много сил и времени требует работа. Идут цветастые заверения, как он будет ей предан, когда сможет чуть разгрестись. Короче, он повел себя как всякий, кто понял, что зря связался с женщиной намного моложе себя, но при всем осознании своей вины не хочет отсекать возможность секса в будущем.
Справедливости ради: Хайдеггер не то чтобы откровенно лгал. В хижине, которую жена построила для него в их загородном поместье, он действительно трудился над своим будущим шедевром «Бытие и время». Но когда он бросил Арендт, до окончания работы было еще два года, а осенью он еще собирался преподавать. Как бы там ни было, но лето Арендт провела в одиночестве.
Когда и учитель, и ученица осенью вернулись в Марбург, Хайдеггер продолжал избегать Арендт. К весне двадцать шестого года он начал ее открыто динамить. Раздосадованная Арендт начала долгий процесс – он продлится всю ее жизнь – расставания с Хайдеггером.
Она уехала из Марбурга, стала учиться у другого философа, Карла Ясперса. Общение с Хайдеггером она продолжала, но достучаться могла до него только письменно, своими печальными посланиями. Было у них еще несколько тайных свиданий на вокзалах небольших городов, но не было ничего выходящего за пределы времени, для этих свиданий отведенного.
Но как бы ни был этот роман краток и безрадостен, в жизни каждого из участников он сыграл огромную роль. Влияние Хайдеггера на Арендт было в буквальном смысле слова формирующим, и потому – огромным. Но при этом Хайдеггер скорее вдохновлял ее работу, а не указывал, куда ей двигаться – она прорубала собственный путь, самостоятельно выбирая предмет и область своей работы. Он остался философом – она ушла в политологию. Он остался в Германии – она эмигрировала. Когда они снова встретились после Второй мировой, ей предстояло вот-вот стать знаменитым мыслителем, имеющим собственное место в мировой философии, и все идеи, создавшие ей репутацию, в частности, те, что касались действий Германии во время войны, были разработаны ею без его замечаний, и тем более руководства.
Во всяком случае, их опыт в отношении Германии отличался разительно. Вскоре после окончания своего романа с Арендт Хайдеггер вступил в НСДАП. Впоследствии вопрос об искренности этого поступка вызвал немало дискуссий, но в чем-то Хайдеггер был солидарен с нацистским движением. Романтизм нацистского видения мира – того, в котором расы вступают в смертельную борьбу, где носителем добра выступает das Volk , – катастрофическим образом совпал с его собственным.
Он не просто спокойно принял нацистов, но активно работал с ними. Почти сразу после вступления в партию Хайдеггер возглавил инициативу по изгнанию евреев из университетов, даже подписал письмо с требованием лишить профессорского звания своего учителя, Эдмунда Гуссерля. (За это Арендт впоследствии назвала Хайдеггера «потенциальным убийцей».) Это сделало его ведущей фигурой гляйхшальтунга (Gleichschaltung – так нацисты назвали процесс «равного вовлечения»), под которым понималось подчинение немцев – интеллектуалов или членов общественных организаций – принципам нацистской идеологии.
Впоследствии, рассуждая о гляйхшальтунге абстрактно, Арендт сказала простую вещь: «Основная проблема – проблема личная – не в том, что делали наши враги, а в том, что делали наши друзья». Глубина ее отношений с Хайдеггером не была известна вплоть до ее смерти. Но наверняка она имела в виду его.
В Гейдельбергском университете Арендт написала диссертацию «Любовь и Святой Августин» под руководством Карла Ясперса. Наверное, это тоже был признак разочарования от романа с Хайдеггером: теперь ее интересовала не любовь романтическая, а любовь к ближнему.
Эту насыщенную напряженную работу Арендт закончила в начале двадцать девятого года, а спустя несколько месяцев рухнула биржа на Уолл-стрит, положив начало Великой депрессии и обесценив ссуды, удерживающие Германию в рамках Версальского договора. На плодах этой катастрофы быстро заработал себе популярность Гитлер, но, когда Арендт получала докторскую степень, его звезда еще не восходила.
К тому времени Арендт переехала в Берлин. В городе было полно выпускников университетов, ищущих себе места в стране, все еще не пришедшей в себя после унизительного – как считали многие – Версальского мира. Жители Веймарской республики, пытаясь хоть на миг отвлечься от мрачного духа времени, устраивали блестящие вечеринки и балы; Арендт тоже на них бывала. На одном таком маскараде в Этнологическом музее произошла судьбоносная встреча.
Маскарад организовали какие-то левые деятели для сбора средств, и Арендт была на нем в костюме арабской одалиски. Конечно, хотелось бы знать, как выглядел такой костюм в двадцать девятом году, но важно не это, а то, что свою работу он сделал. Ханна встретила одноклассника, о котором давно ничего не слышала, – человека по имени Гюнтер Штерн. Они возобновили общение.
Он ее соблазнил, как писал он позже в своих мемуарах, словами о том, что «любовь есть акт, превращающий апостериорное – случайно-встреченного-другого – в априорный факт собственной жизни».
Другая женщина могла бы счесть эту фразу претенциозной. Для Арендт она была очевидным свидетельством, что связь с этим человеком может быть не только эмоциональной, но и интеллектуальной. В сентябре она вышла за Штерна замуж. И все же письмо, извещающее Хайдеггера об этом браке, было написано в минорной тональности поражения. Ханна заверяла Хайдеггера, что решается на это ради обретения домашнего уюта, пусть настолько несовершенного:
Помни, как сильна и как глубока во мне уверенность, что наша любовь стала благословением моей жизни. Эта уверенность неколебима даже сегодня.
Когда она писала это письмо, Хайдеггер еще не объявлял публично о своей симпатии к нацистам.
Уют семейной жизни оказался полезным. Он дал Арендт возможность интенсивно работать над новым проектом.
Хотя предметом этой книги не была внутренняя жизнь автора, она все же более всего вышедшего из-под пера Арендт похожа на мемуары. Один друг нашел у букиниста и передал Арендт письма и дневники еврейки, хозяйки салона, жившей в восемнадцатом веке. Жизнь Рахели Фарнхаген вскоре стала для Арендт навязчивой идеей, и Ханна стала писать ее биографию, ставшую в результате наполовину выражением личной философии, наполовину данью уважения женщине, которую она считала образцом для подражания. В этом Арендт среди мыслящих женщин своей эпохи была почти уникальна: в большинстве своем они опасались явно признавать, что чем-то обязаны другим женщинам.
Фарнхаген родилась в Берлине в тысяча семьсот семьдесят первом году, в семье процветающего коммерсанта. Хотя у нее не было формального образования, идеи ее интересовали с ранней молодости. Повзрослев, она окружила себя великими художниками и мыслителями своей эпохи, в основном немецкими романтиками. Салон сделал ее ключевой фигурой в интеллектуальной истории Германии. Фарнхаген так привлекала Арендт отчасти потому, что, подобно ей, Рахель была глубоко ассимилированной еврейкой. Но отношение Фарнхаген к своему еврейству было несколько двойственным. И поэтому Арендт назвала незабываемыми слова, якобы сказанные Фарнхаген и записанные возле смертного одра ее мужем:
Величайшим позором моим, несчастьем и неудачей всей моей жизни казалось мне то, что я родилась еврейкой. А сейчас я ни за что не согласилась бы, чтобы это было иначе.
Эта фраза так поразила Арендт, что книгу о Фарнхаген Ханна начала с нее. Работа над книгой напоминала общение в спиритическом сеансе: Арендт запросто называла Фарнхаген своей «лучшей подругой». Когда лет через двадцать пять, в пятьдесят восьмом, книгу удалось опубликовать, Арендт написала, что ее подход был «необычен для биографической литературы».
Я вообще не собиралась писать книгу о Рахели, о ее личности, поддающейся интерпретации любого толка в зависимости от того, какие психологические стандарты и категории вводит сам автор. Мне хотелось иного: поведать историю жизни Рахели так, как могла бы это сделать она сама.
Заявление Арендт о том, что она может рассказать историю Фарнхаген «как могла бы она сама», политолог и специалист по Арендт Сейла Бенхабиб назвала «неожиданным». Всю жизнь изучая чьи-то архивы, все равно чувствуешь, что внутренняя жизнь их автора от тебя ускользает. Наверняка Арендт это знала и даже испытала сама, пытаясь увидеть жизнь Рахели ее глазами. Прежде всего, просто невозможно говорить голосом человека, который уже больше ста лет мертв. Но так притягивала Ханну жизнь Фарнхаген, что все рациональные рассуждения рассыпались в пыль. Она нашла наставницу, у которой желала быть ученицей-подмастерьем – и когда писала книгу, в эту ученицу превращалась.
Более всего ее интересовало и притягивало умение, которое обрела Фарнхаген: свою инаковость превращать в своего рода бонус. В частности, Арендт связывала это умение с самоопределением Фарнхаген как еврейки. Муж ее старался выйти за пределы своего еврейства, все больше повышая свой социальный статус – а самой Рахели это не помогало. Она считала, что это клеймо ей не стереть – и она его приняла. Если, заключила Арендт, еврейство ставило Фарнхаген вне немецкого общества, то оно же ей дало некую свою точку зрения, которая оказалась ценна сама по себе. Умение взглянуть на вещи по-иному не сводится к пониманию другой точки зрения: иногда оно равнозначно умению видеть яснее.
Таким образом, заключает Арендт, Фарнхаген была своего рода парией. Арендт не имеет в виду той отрицательной коннотации, которая у нас с этим словом связана, и это становится яснее, когда она приправляет этот термин прилагательным: «осознанной парией». То есть она осознавала, что отличается от других, и знала, что никогда – по крайней мере, в чужих глазах – ей от этого не уйти. Но при этом она понимала, что дают ей эти ее отличия, в том числе – некую инстинктивную эмпатию, чуткость к чужим страданиям, узнаваемым по собственному опыту.
Эта чуткость – душевная боль от ущерба чьему бы то ни было чувству собственного достоинства, душевное сопереживание, привилегированным незнакомое. Вот это душевное сопереживание и составляет человечность парии. В обществе, основанном на привилегиях, гордости высоким рождением и надменности носителей титула, пария инстинктивно открывает для себя общее понятие о человеческом достоинстве намного раньше, чем рациональные соображения положат его в основу морали.
В основном словом «пария» Арендт обозначала то отличие, которое накладывает еврейство, но по некоторым намекам ясно: она знала, что для этой модели есть более широкое применение. И неслучайно, кажется, что для этой ролевой модели она выбрала женщину – хотя сама Арендт сказала бы, что особой роли это не играло. Вероятно, она сказала бы, что статус еврейки куда сильнее определял ограничения для Фарнхаген, чем все связанное с женским вопросом. Но все же многое из того, что пишет Арендт о Фарнхаген, может быть распространено по аналогии, и Арендт это на каком-то уровне знала. В предисловии, написанном ею в пятидесятых к биографии Фарнхаген, она говорит:
Современный читатель наверняка заметит с первых же строк, что Рахель не была ни красивой, ни привлекательной, что все мужчины, с которыми у нее бывали романтические отношения, были моложе ее; что у нее не было талантов, дававших возможность проявить выдающийся интеллект и темпераментное своеобразие; и, наконец, то, что она была типично «романтичной» личностью и что «женский вопрос» – то есть несоответствие между тем, чего мужчины ожидают от женщины «вообще», и тем, что могут дать или чего могут желать конкретные женщины, – уже возник, порожденный условиями эпохи, и закрыть эту трещину было практически нереально.
Эти утверждения поразительны – если вспомнить историю отношений Ханны Арендт с феминизмом. Она не интересовалась ни движением, ни его лозунгами. В профессиональной сфере Арендт сотрудничала в основном с мужчинами. Вопрос своего места в кругу коллег-интеллектуалов ее не интересовал. Патриархат не казался ей серьезной проблемой. Позднее, отвечая интервьюеру на вопрос об эмансипации женщин, Арендт сказала, что «женский вопрос» для нее никогда не составлял проблемы. «Я всегда считала, что есть профессии, женщинам не свойственные, неподходящие».
Странно смотрится, когда женщина отдает приказы. Если она хочет сохранить женственность, то должна избегать подобных ситуаций. Может, я не права – не знаю. В моей конкретной жизни женский вопрос, если и играл роль, то очень малую. Проще говоря, я всегда делала то, что мне нравилось.
Такой противоречивый ответ оставляет мало возможностей задним числом произвести Арендт в борцы за права женщин или хотя бы в сторонницы равенства полов как такового.
И все же она считала, что человеку следует заниматься тем, чем он хочет. Вместо биографии, скажем, Кьеркегора, она начала свой творческий путь с биографии женщины, так сильно увлекшей ее мысли. Женщины, которая была «ни красивой, ни привлекательной», но тем не менее обладала «выдающимся интеллектом и темпераментным своеобразием». Положение отверженной для нее было не трудностью, подлежащей преодолению, а шахтой, из которой добываешь силы. Возможно, как полагают некоторые ученые, Арендт потому не замечала никаких форм дискриминации женщин, что намного более заметной мишенью для преследования было ее еврейство. Враждебность к женщинам была практически невидима на фоне кампании нацистов против евреев.
Арендт все еще работала над книгой о Фарнхаген, когда в тридцать третьем году сгорел Рейхстаг – здание немецкого парламента. Это был поджог, и до сих пор дискутируется, кто за ним стоит, хотя в качестве непосредственного исполнителя был арестован и предан суду молодой коммунист, а в возникшем хаосе обвинили немецких левых. Всего за месяц до пожара Гитлер принес присягу в качестве канцлера. Беспорядки дали ему повод наделить себя чрезвычайными полномочиями. Гюнтер Штерн, муж Арендт, тесно связанный с антинацистскими диссидентами, немедленно уехал в Париж. Арендт осталась.
Не то чтобы она не замечала, насколько опасен этот режим. Но пожар, по ее словам, подействовал на нее как удар, лишивший ее иллюзии, будто можно и дальше «наблюдать со стороны». Впрочем, того факта, что друзья и единомышленники перестают ими быть, постепенно подпадая под влияние нацистов, она и до пожара не могла не видеть. Осенью тридцать второго года до нее дошли слухи о Хайдеггере, и она ему написала – задала вопрос о его новых политических взглядах. Конкретно ее встревожил слух, что Хайдеггер стал антисемитом (об этом она узнала от своего мужа и его друзей). Он ответил – выберем мягкий термин – очень резко. Хайдеггер перечислил всех студентов-евреев, которым он помог за последнее время, а затем добавил:
Если кто-нибудь захочет назвать это «бешеным антисемитизмом» – пожалуйста. А во всем остальном я сейчас такой же антисемит в университетских вопросах, каким был десять лет назад в Марбурге… И это совершенно не затрагивая моих личных отношений со многими евреями. И прежде всего это никак не может затронуть моего отношения к тебе.
Не могло – но затронуло. Это письмо было последним перед более чем десятилетней паузой.
Через несколько месяцев после поджога Рейхстага Арендт согласилась помочь в тайном сборе антисемитских высказываний из брошюр, хранившихся в той же библиотеке, что и материалы о Фарнхаген. Эти высказывания собирались использовать друзья из зарубежных сионистских организаций. Но работники библиотеки почти сразу заметили, чем занята Арендт, и сообщили властям. Ханну арестовали вместе с матерью, и ей пришлось провести несколько дней в камере. Офицеру, который занимался ее делом, она понравилась, он даже флиртовал с ней: «Так что же мне с вами делать?» В конце концов он ее отпустил. Ей очень повезло. На допросах она просто врала и не выдала никого из тех, с кем работала.
Но после этого случая стало ясно, что в Германии ей оставаться нельзя. Сначала Арендт с матерью уехали в Прагу. Оттуда Марта Арендт поехала в Кёнигсберг, а Ханна – в Париж. Рукопись книги о Фарнхаген она взяла с собой. Но на душе у нее было сумрачно: ей становилась ясна глубина нацистской катастрофы. В Берлине знакомые интеллектуалы начинали сотрудничать с режимом. Хайдеггер занял пост ректора университета, носил значок со свастикой и даже пытался встретиться с Гитлером. Она все это знала.
Поэтому Арендт про себя подумала: «Никогда больше никакой наукой заниматься не буду». Как известно, этого не получилось, но предательство немецких интеллектуалов оставило в душе Арендт неизгладимый след: она перестала считать жизнь интеллекта универсальным спасением. Даже великие умы оказались уязвимы для заблуждений и иногда очень быстро теряли простой здравый смысл.
«Я по-прежнему думаю, что интеллектуал по самой своей сути есть человек, вырабатывающий идеи по любому поводу, – сказала она в одном интервью года за два до смерти. И пояснила, что считает это свойство отрицательным. – Сегодня я бы сказала, что они оказались в плену собственных идей – вот что с ними случилось».
Эти интеллектуалы – в частности, Хайдеггер – не принимали сознательно никаких стратегических решений, вступая в нацистскую партию. И не ради простого выживания вступали они в нее, а придумывали себе рациональные причины, подгоняли себя под идеи партии, поскольку для них хуже проклятия было участие в деле, в которое они не верили всей душой. И в результате этой подгонки становились нацистами.
Приехав в Париж в тридцать третьем году, Арендт порвала не только с родиной, но и с профессиональными занятиями философией. За восемь лет во Франции она не опубликовала ничего, закончив рукопись книги о Фарнхаген только по настоянию друзей. Вместо этого она работала администратором в благотворительных организациях, помогающих приезжающим в Париж еврейским иммигрантам, которых становилось все больше. Эта вполне бюрократическая бумажная работа успокаивала, в ней был виден результат, и она не несла в себе разочарований – в отличие от прежней «жизни интеллекта».
В Париже Арендт ненадолго вернулась к Гюнтеру Штерну, но он увяз в написании чрезвычайно сложного романа (который так и не удалось опубликовать), и вскоре брак распался. К тридцать шестому году она встретила Генриха Блюхера, веселого общительного немецкого коммуниста, настолько глубоко связанного с партией, что в Париже ему пришлось жить под псевдонимом.
От Блюхера исходил победительный ореол мужественности, и многие биографы Арендт поддались искушению этот ореол романтизировать. Блюхер был мужчина крупный, побольше Штерна или Хайдеггера, говорил громко, охотно смеялся и благодаря давним занятиям политикой хорошо знал жизнь. Но и в отношении интеллекта он Арендт не уступал – а это ей и нужно было от партнера. Уверенные суждения по вопросам истории и философии он высказывал и в письмах, и в обычной застольной беседе. Одно запоминающееся письмо к Арендт он начинает с утешений по поводу смерти ее матери, переходит к наблюдениям и постепенно раскручивается до полномасштабной полемики против приверженности философов к абстрактной истине:
Маркс хотел просто построить рай и распространить его на весь земной шар, как и все эти идеологи помельче – вот почему мы вот-вот задохнемся в тучах крови и дыма… Кьеркегор взял камни развалин, построил тесную пещеру и запер в ней свое моральное Я вместе с чудовищным Богом. На это можно только сказать: что ж, флаг тебе в руки, а нам – спасибо, не надо.
Как можно догадаться по развязному стилю его прозы, Блюхер не принадлежал к университетской среде, в отличие от Хайдеггера или Штерна. Он много читал, но был самоучкой. При всех своих литературных претензиях он не написал ни одной книги, всю жизнь жаловался на «творческий кризис» – который явно не мешал писать письма. Всю свою жизнь он строил как отрицание аристократичности интеллектуальной университетской жизни, и Арендт такая позиция, видимо, привлекала.
В письме, посланном Карлу Ясперсу через десять лет после встречи с Блюхером, она выразит благодарность мужу (они поженились в сороковом году – отчасти потому, что Блюхеру нужны были документы для отъезда из Европы) за то, что научил ее «политическому взгляду и историческому мышлению». Ей нравилось, что он жил и работал в мире конкретного – каковой мир Хайдеггера интересовал очень мало.
Их друг, поэт Рэндалл Джаррелл, назвал их «дуалистической монархией». Дело было не столько в их властности – хотя они бывали властными – сколько в том, что в семье Арендт-Блюхеров отношения крепли в дискуссиях. Ни один из них, казалось, не был хозяином другого, хотя во время жизни в Америке Арендт часто бывала кормильцем семьи. В основе их брака лежало своего рода естественное равенство, баланс, и случайные измены Блюхера это равновесие, в общем, не нарушали.
Пребывание в Париже, в окружении других писателей и мыслителей, пошло Арендт на пользу. В таком обществе ей самой было легче мыслить. Она подружилась с еще одним беженцем из Германии, Вальтером Беньямином, в то время довольно безуспешным критиком, которому практически не удавалось печататься. Редакторы с ним спорили, а он очень неохотно шел им навстречу. Беньямин был классической романтичной фигурой: выходец из процветающей семьи, в которой стремление к свободной профессии считалось вульгарным. Хотя отец почти полностью отказал ему в поддержке, Беньямин настоял на своем и выбрал путь, естественным образом приведший его к нищете. Как выразилась Арендт, размышляя о выборе Беньямина стать литератором:
Такой образ жизни был в Германии неизвестен, и почти столь же неизвестной была профессия, которую только ради необходимости зарабатывать на жизнь вывел из него Беньямин. Он не стал историком литературы, ученым с полагающимся количеством толстых томов под своей фамилией; он сделался критиком и эссеистом, для которого даже эссе было формой до вульгарности пространной. Он бы вообще выбрал афоризм, если бы не построчная плата.
Беньямин был среди друзей, побуждавших Арендт доделать книгу о Фарнхаген. «Книга произвела на меня большое впечатление, – писал он их общему другу Гершому Шолему в тридцать девятом году. – Она мощными взмахами плывет против потока нравоучительных и апологетических штудий по еврейскому вопросу».
И Арендт ему тоже помогала в работе. Она писала Шолему: «Я очень волнуюсь за Беньи. Пыталась ему что-нибудь сосватать и с треском провалилась. При этом я как никогда чувствую, насколько важно создать ему приемлемые жизненные условия, чтобы он продолжал работать».
Беньямин всегда был большим мистиком, чем Арендт, и связь с реальным миром поддерживал едва-едва. Но в этой его отстраненности она нашла нечто вроде политического принципа, которого стоило держаться. Арендт сформулировала различие между образом жизни Беньямина как homme de lettres и образом жизни «интеллектуалов», который она к этому времени уже резко не одобряла:
В отличие от класса интеллектуалов, предлагающих свои услуги государству – в качестве экспертов, специалистов и чиновников, или обществу – для развлечений и наставлений, hommes de lettres всегда стремятся держаться подальше и от государства, и от общества.
А в Европе конца тридцатых – начала сороковых годов от государства стоило держаться подальше. Антисемитская пропаганда во Франции раскрутилась до горячечного визга, и страна, на которую давили с востока нацисты, стала разваливаться. В конце тридцать девятого Блюхера отправили в лагерь для интернированных на юге Франции, и лишь спустя несколько месяцев его освободил один влиятельный друг. В сороковом саму Арендт отправили в лагерь Гюрс, недалеко от границы с Испанией, где она пробыла месяц, пока Франция не сдалась Германии и лагеря для интернированных евреев, такие как Гюрс, не были распущены. Арендт удалось воссоединиться с мужем, они получили визу в США и в мае сорок первого года прибыли в Нью-Йорк.
Тем временем Вальтер Беньямин тоже увидел письмена на стене. Осенью сорокового года он организовал себе поездку в Лиссабон, чтобы отплыть оттуда в Соединенные Штаты. Чтобы добраться до Лиссабона, Беньямину надо было проехать через Испанию, но на испанской границе ему и еще нескольким беженцам из Марселя сказали, что именно в тот день граница закрылась для людей sans nationalité – таких, как он. Это почти наверняка обещало концлагерь. В эту ночь Беньямин принял смертельную дозу морфия. Прежде чем потерять сознание, он передал товарищам записку, в которой написал, что не видит другого выхода.
Из его друзей Арендт одной из первых узнала, как разворачивались события после этого, и позже, в длинном и грустном эссе, сказала о его «невезении»:
Днем раньше – и Беньямин благополучно перешел бы границу. Днем позже – и люди в Марселе знали бы, что через Испанию не пробраться. Такая катастрофа могла произойти лишь в этот единственный день.
Такой вот интеллектуализированный плач по судьбе Беньямина, осмысление трагедии. Такой подход наводит на мысль о некоторой эмоциональной отстраненности – но нет, Арендт не отстранялась от участи Беньямина. Покидая Францию, она настояла на том, чтобы задержаться и попытаться найти могилу друга. Но нашла только кладбище, о котором написала Шолему:
…на краю бухточки, и смотрит прямо на Средиземное море. Кладбище вырезано в камне, террасами, и гробы задвигают в такие же каменные ниши. Такого фантастического, такого красивого места я еще в жизни не видела.
Перед самым отъездом из Марселя Беньямин оставил ей и Блюхеру собрание своих рукописей в той надежде, что, если он не доберется до Нью-Йорка, Ханна передаст их его друзьям. Одну из них, «Историко-философские тезисы», Арендт-Блюхеры читали друг другу вслух на корабле, идущем в Америку. «…эта мысль показывает, что наше представление о счастье всецело окрашено тем временем, к которому раз и навсегда отнесено наше личное существование». Далее Беньямин пишет:
Счастье, способное пробудить в нас зависть, существует только в воздухе, которым мы дышали, среди друзей, с которыми мы общались, и женщин, которые могли бы отдаться нам. Иными словами, с представлением о счастье неразрывно связано представление об освобождении.
Но к моменту их отъезда в Америку уже было ясно, что бушующая по всей Европе война оставит освобождению очень мало шансов. Почти все, что их сформировало, включая Германию, которую они знали, попросту исчезло.
Жизнь в Нью-Йорке оказалась трудной. Блюхер и Арендт, а позже и мать Ханны, жили в двухкомнатном номере дешевых меблирашек. Кухня была общая с другими жильцами. Блюхер перебивался случайными заработками; первая его работа была на заводе – ему никогда раньше не приходилось таким заниматься. Арендт сперва поселилась в одной семье в Массачусетсе, чтобы выучить английский, а затем снова стала зарабатывать литературной работой – в основном для небольшой немецкоязычной газеты Aufbau и других периодических изданий для еврейских иммигрантов. Бумаги Беньямина она отправила его другу Теодору Адорно, тоже жившему в Нью-Йорке, но немедленной реакции не последовало. Похоже, что публиковать их никто не собирался.
Статьи, которые тогда писала Арендт, были чем-то средним между учеными трудами и современными газетными передовицами. Почти во всех чувствуется скованность письма и мертвящее топтание на месте. При чтении подряд они скорее утомляют риторикой, чем вызывают душевный отклик, но на этом фоне выделяется статья сорок третьего года для Menora Journal, названная «Мы, беженцы». Изначально она была напечатана на английском, что может объяснить простоту ее стиля: к этому времени Арендт всего лишь два года как начала учить язык.
Но сухой и лишенный украшений тон, который навязывал Арендт ее третий язык, отлично подходил к ее несколько элегической, но все же полемической цели: «Прежде всего, мы не любим, когда нас называют „беженцы”». Арендт описала людей настолько искалеченных пережитым в Европе опытом, что они его стараются забыть как кошмар. Общая атмосфера, пишет Арендт, такова, что беженец бродит как в тумане, он лишен возможности честно говорить о том, что его волнует, потому что никто слышать не хочет про ад, через который он прошел:
По-видимому, никто не хочет знать, что современная история создала новый сорт людей: это те, кого враги помещают в концентрационные лагеря, а друзья – в лагеря для интернированных.
Арендт никогда не боялась неудобных тем и потому беспристрастно судила о распространенности самоубийств среди беженцев, осуждая не столько людей, выбравших самоубийство, сколько этот выход как таковой.
«Они выбирают тихий и незаметный способ исчезнуть, – писала она. – Как будто извиняются, что нашли для собственных проблем столь грубое решение».
Такое отношение она считала неадекватным, потому что на самом деле логику самоубийства породила и политическая катастрофа – нацизм, – и даже американский антисемитизм:
В Париже мы не могли выйти из дома после восьми вечера, потому что мы евреи. В Лос-Анджелесе мы подвергаемся ограничениям, потому что мы – «враждебные иностранцы».
В этом эссе, написанном Арендт в тридцать семь лет, впервые проявился ее дар к открытой полемике. Еще больше времени ей потребовалось, чтобы убедить себя в полезности письменных публичных выступлений. Завершается эссе призывом к евреям стать «осознанными париями» (приводится пример Рахели Фарнхаген и еще нескольких, которые будут использованы в других ее статьях: Гейне, Шолом-Алейхем, Бернар Лазар, Франц Кафка «и даже Чарли Чаплин»), потому что это единственный выход из мертвящего, к самоубийству зовущего отказа принимать собственное положение.