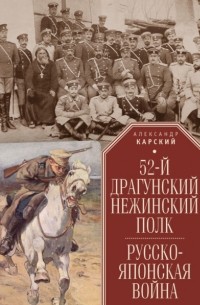Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
6. В пути
Из Ельца эшелоны с Нежинцами отправились в северном направлении, а достигнув станции Узловая, повернули на восток и двинулись по Сызрань-Вяземской железной дороге. По этой же линии двигались и эшелоны 51-го драгунского Черниговского полка (они из Орла доехали до Тулы и там повернули). Проследовали Ряжск, Моршанск, Пензу, Сызрань. В «Дневнике военных действий 52-го драгунского Нежинского полка» о пути на фронт в июне-июле 1904 года нет никаких подробностей. Поэтому, чтобы почувствовать атмосферу этой долгой и непростой дороги, следует обратиться к «Дневнику из времен Русско-Японской войны» священника Черниговцев о. Митрофана (Сребрянского). На страницах этого дневника встречаются порой и Нежинцы.
«12-ое июня… На станциях стоим страшно подолгу… Солдаты на стоянках резвятся, как дети: кувыркаются, рвут цветы, траву, украсили свои вагоны древесными ветвями, как в Троицын день…»
Но, наконец, тронулись и разогнались:
«Кругом мелькают деревни, церкви, поля, леса, равнины. Хлеба плохи; погода прохладная, дождь; мы оделись во все теплое…»
«15-ое июня. Утро. Приехали в Сызрань… Встретили эшелон Нежинского полка и с ним принца персидского…»
Несомненно, имеется в виду подполковник принц Али Кули Мирза, который ранее служил в Черниговском полку и был, как следует из примечания к этому фрагменту, очень расположен к о. Митрофану, хотя являлся, разумеется, магометанином.
Эшелоны проследовали Самару, Бугуруслан, Уфу. Начались предгорья Урала. Вот еще несколько путевых зарисовок:
«17-ое июня… Проехав Ашу, мы буквально замерли от восторга. Все высыпали к окнам; мы боялись потерять мгновение: начался переезд Уральских гор. Едем по берегу быстрой горной речки Сим между огромных гор и скал…»
На следующий день, рано утром, проследовали Златоуст, а затем и станцию Уржумка, чуть восточнее которой находится гранитный обелиск «Европа – Азия». Отсюда начинается долгий извилистый спуск железной дороги по восточному склону Урала в сторону Сибири. В тот же день прибыли в Челябинск. Вот небольшая зарисовка:
«Господи, что здесь творится на военной платформе! Прямо столпотворение вавилонское. Собралось шесть эшелонов наших да столько же 52-го Нежинского полка. Масса лошадей поставлены прямо около платформы целой кучей; все привязаны к временным веревочным коновязям; ржание, визг, крики солдат на лошадей, масса оружия, седел, фуража, солдат, офицеров; все суетятся, спрашивают, кричат. Бедного коменданта затрепали…»
Жара была более 30 °C. Судя по всему, и в последующие дни зной не спадал: у лошадей случались тепловые удары. Только к вечеру 21 июня разразилась гроза, прошел дождь, и дышать стало легче. 22 июня проехали Омск, 23-го – Каинск. Вдоль дороги потянулись необъятные болота, откуда в вагоны налетали тучи больно жалящих насекомых: мух, оводов, комаров, мелкой мошки. Особенно страдали от укусов лошади. 24-го переехали широкую и глубокую Обь. На ближайшей станции собралось много эшелонов, долго не принимали. Наконец выгрузились, была объявлена двухдневная стоянка. Еще несколько путевых зарисовок:
«Что творится на коновязях, просто ужас. Две тысячи лошадей собраны вместе… Жара; их кусают слепни; они дерутся, кусаются, ржут… К вечеру выкупали коней, напоили, накормили, спала жара, и понемногу всё утихомирилось…
Идет подполковник 52-го Нежинского полка и говорит: “Советую пойти в баню; здесь рядом, казенная, хорошая”. Вот радость-то! Действительно прекрасная баня, и мы отлично вымылись. Вообще на этом пункте построено несколько огромных каменных зданий в два и в три этажа; в них находятся офицерские номера, солдатское помещение, столовые, офицерские и солдатские бани, лазарет, прачечная. Всё это даром, для отдыха и чистки проходящих войск…»
Судя по всему, упомянутый подполковник – это либо В. В. Нарбутт, заместитель командира Нежинского драгунского полка по хозяйственной части, либо Н. Н. Мирбах, который тоже в основном занимался хозяйственными делами. Этот штрих помогает отследить движение Нежинцев по Транссибирской магистрали. После стоянки в путь тронулись 26 июня. Через три дня прибыли в Красноярск. Военная платформа располагалась на самом берегу Енисея. Всех поразил огромный, длиной в версту, мост над быстрой полноводной рекой. И снова в путь. 1 июля оказались в Нижнеудинске. По пути всё чаще встречались санитарные составы с ранеными и искалеченными людьми. На следующий день драгуны начали готовиться к конному маршу вокруг юго-западной оконечности Байкала. 3 июля прибыли на станцию Иннокен-тьевская. Выгрузились. Здесь находился воинский остановочный пункт – огромная территория длиной в версту и шириной метров в 300, на которой располагался военный городок с двухэтажными казармами, столовыми и банями. Однако в баню никто сходить не успел, так как, оказалось, уже в 6 часов вечера 51-му драгунскому Черниговскому полку следовало выступить в поход. Вперед выдвинулись трубачи и штандарт. Заиграла музыка – и драгуны отправились в путь. Всё, что касается Черниговцев, нашло отражение в «Дневнике» о. Митрофана. С Нежинцами такой ясности нет. Но, наверно, и они в тот же день, с разницей в несколько часов, двинулись со станции Иннокентьевская. Путь обоих полков 2-й Отдельной кавалерийской бригады, очевидно, пролегал по одному маршруту: перешли по мосту реку Иркут, проследовали до пассажирского вокзала, затем поднялись на высокую гору.
О. Митрофан пишет:
«Спустившись с горы, мы увидели среди леса на лужайке развевающийся флаг, большой стол, накрытый белой скатертью, с винами, закусками. По сторонам стола два костра. Картина дивная! Это уполномоченный великой княгини Елисаветы Феодоровны г. Второв угощал нас. Только около 2 часов ночи, на рассвете, тронулись мы далее в путь. Глаз не пришлось сомкнуть даже на одну секунду».
А что же 52-й Нежинский?
В прибавлении к «Московскому Листку» (№ 263 от 22 сентября 1905 г.) обнаружена любопытнейшая фотография. Подпись: «Угощение, предложенное А. А. Второвым эшелону 52-го Нежинского Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елисаветы Феодоровны полка, близ Иркутска». Несомненно, это фотография еще июля 1904 года. И, разумеется, присоединение имени Великой княгини к названию Нежинского драгунского полка – нелепая ошибка. Тут явная путаница с 51-м драгунским Черниговским полком, шефом которого Елисавета Феодоровна, действительно, являлась. Как следует из только что приведенного фрагмента «Дневника» о. Митрофана, Черниговцы добрались до места стоянки уже поздно вечером. И ушли засветло. Время для съемок неподходящее. Но место то самое: есть и флаг, и стол, и коробки с угощениями. Потому уверен: на фотографии, как и подписано, именно Нежинцы, пришедшие или в тот же день, 3-го июля, засветло, или на следующий день, когда солнце взошло. Всякие сомнения отлетают, когда отчетливо видишь кряжистую фигуру Константина Васильевича Дарагана, которую ни с какой другой спутать невозможно. На снимке ротмистр 2-го эскадрона Нежинцев – третий справа.
На привале под Иркутском. 1904 г.
А кто такой А. А. Второв? Александр Александрович был сыном известного сибирского торговца-миллионера Александра Федоровича Второва. Капитал созданного им «Товарищества А. Ф. Второва с сыновьями» в 1904 году превышал 10 миллионов рублей. А. А. Второв, являясь совладельцем фирмы, руководил ее отделением в Иркутске.
2-я Отдельная кавалерийская бригада двинулась от Иркутска по так называемому Большому сибирскому тракту. Через каждые 20 верст имелись станции с большими комнатами для проезжающих и питанием. Тогда на многих участках ускоренными темпами строилась параллельная тракту железнодорожная ветка, направленная к южной оконечности Байкала, к селению Култук. Сквозного железнодорожного движения еще не было.
Путь по горам оказался трудным. Затяжные подъемы, иногда верст по семь, чередовались с крутыми спусками, когда лошадей и повозки приходилось изо всех сил тормозить. О. Митрофан отметил:
«Леса девственны вполне и настолько непроходимы, что к некоторым местам на крутизнах нет возможности пробраться. Да и по сторонам дороги та же чаща; едва сделаешь несколько шагов вглубь, уже должен остановиться – дальше нет возможности двигаться: лежат сваленные ветром огромные сухие деревья, переплетаясь между собой ветвями и какими-то ползучими растениями…»
Впоследствии офицеры Нежинского полка рассказывали, что они видели в этой чаще медведей. Да и местные жители жаловались, что медведи посещают их хозяйства и давят скот.
Первая большая остановка была 4 июля в селе Введенское (Введенщина) на берегу реки Иркут. Тут имелось пять огромных деревянных бараков с нарами для солдат. После отдыха драгуны вновь тронулись в путь, и очередные подъемы оказались так круты, что двуколки приходилось тащить на руках. Заночевали Черниговцы в селении Моты. Полагаю, что и Нежинцы были неподалеку.
5 июля седлать начали очень рано, в 3 часа ночи. Наспех позавтракали – и вновь выступили в поход. Подъемы и спуски оказались еще длиннее и круче, чем накануне. Лошади выбивались из сил, но люди проявляли выдержку и упорство. Ночлег был устроен в селе Глубоком. Вот какая картина представала перед участниками похода:
«В котловине между гор и на склоне горы расположилось 1800 лошадей, море лошадей и людей; масса костров – точно звездочки; песни… Вдруг всё смолкло: труба заиграла зарю, и понеслась по нашему огромному лагерю священная песнь, молитва…»
6 июля кавалеристы опять встали в начале четвертого часа утра. Пройдя 24 версты по горам, спустились по неимоверно крутому склону к станции Култук. Отсюда уже ходили железнодорожные составы. Погрузка большой массы людей и лошадей затянулась. Наконец во второй половине дня эшелоны, один за другим, стали покидать станцию. Дорога пролегала в основном по вырубленным в скалах карнизам: слева – холодные байкальские волны, справа – отвесная каменная стена. Поезда шли со скоростью 10 верст в час, часто ныряя в длинные туннели. 7 июля останавливались в Выдрино, Танхое. Трактиров или хотя бы буфетов тут не водилось, поэтому спешно разворачивались походные солдатские кухни.
8 июля проехали Верхнеудинск. По Забайкальской железной дороге проследовали до Читы (9 июля), оттуда колея поворачивала на юго-восток. В «Послужных списках» ротмистров 52-го драгунского Нежинского полка И. И. Смирнова (1 эскадрон) и А. Д. Дросси (4 эскадрон) в разделе XIV «Бытность в походах и делах противу неприятеля» указано, что они перешли китайскую границу 10 июля 1904 года. В «Послужных списках» других командиров эскадронов (К. В. Дарагана, Н. П. Коломнина, А. Я. Загорского, К.-Б. В. Тупальского), а также штаб-офицеров (командира полка полковника П. А. Стаховича, подполковников В. В. Нарбутта и Н. Н. Мирбаха) указано 11 июля. Очевидно, это соответствует действительности: составы с двумя эскадронами шли по расписанию впереди остальных.
Последним пунктом на российской территории была станция «Мациевская». Затем граница. На китайской стороне первая станция – «Маньчжурия». Отсюда начиналась Китайско-Восточная железная дорога. С большим трудом и огромными денежными затратами строительство КВЖД было завершено только в 1903 году. Как раз к этому времени и подготовка Японии к войне вступила в заключительную фазу.
Офицеры и рядовые драгуны, конечно, обо всех тонкостях политики тогда не задумывались. Для них бесспорны были агрессивные действия Японии, направленные на вытеснение России с ее позиций на Дальнем Востоке. Война представлялась справедливой – ответом на дерзкое нападение.
Из «Дневника» о. Митрофана:
«От ст. Манчжурии стража еще более усилена. Довольно часто расставлены часовые; появляются разъезды пограничников, да везде по линии, на определенном расстоянии один от другого стоят столбы, обмотанные соломой; к каждому такому столбу привязана бутылка с нефтью. В случае появления или нападения где-либо хунхузов, сейчас в таком опасном месте обливают солому нефтью и таким образом зажигают сигнальный столб… Было уже несколько случаев нападений на дорогу и на воинские поезда; поэтому нашим солдатам со ст. Манчжурии розданы боевые патроны, и на ночь назначается дежурная часть…»