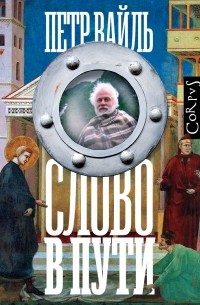Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Стол как холст
Масштабы меняются – людей, стран. За последние десятилетия сильно и разнообразно выросла Япония.
Лучшие месяцы для посещения страны – апрель и ноябрь. В это время с места снимаются все, отправляясь кто в соседний парк или ближайший лес, кто за сотни километров в специально выбранные места для созерцания. Человек западной (европейской, американской, русской) культуры тоже время от времени куда-то едет что-то смотреть, что, как правило, оборачивается образовательным по своей сути знакомством с произведениями человеческого гения – Джокондой или Парфеноном. В Японии же возведено в ранг национальной институции простое поглядение на цветы и листья. В апреле цветет сакура. В ноябре желтеет листва.
Новый год здесь примечателен разве что невообразимым числом открыток, которыми обмениваются японцы. Социальный статус человека определяется количеством полученных им новогодних поздравлений. Забывчивость ведет к разрыву отношений, небрежность – к ссоре. В последнее время разврат сервиса поразил и японцев, к чьим услугам открытки с готовым типографским текстом. Однако человек приличный возьмет все же авторучку, а человек тонкий – кисточку и тушь.
Я аккуратно посылаю такие поздравления своим японским знакомым, но ездить туда стараюсь в апреле или ноябре. Япония возникает в рождественско-новогоднем сюжете по той причине, что в эти праздники – едят. Едят и в другие, но зимой все располагает к еде долгой и обильной…
Конец века отмечен триумфальным маршем дальневосточной кулинарии – с постепенным смещением от материка к полуостровам и островам. Богатейшее китайское искусство еды чуть отодвигается перед напором более сдержанных в материалах и методах вьетнамской и тайской кухонь, перед лаконичной минималистской японской. В Нью-Йорке за минувшие два-три года едва ли не удвоилось количество японских заведений. Что важно отметить – даже не ресторанов, а закусочных, забегаловок. Мест, где получаешь чашку лапши – пшеничной (удон) или гречишной (соба) – в бульоне и, разумеется, суши. Смена столетий проходит под знаком суши – катышка вареного риса с куском сырой рыбы.
Дело не только в несомненной питательности рыбно-рисового сочетания. Дело в эстетике. У японцев господствует отношение к еде как к красоте. Стол – как живописный холст: пустоты играют в нем такую же содержательную роль, как и предметы. Японский накрытый стол, поставленный вертикально, можно обводить рамой.
Предел гастрономического лаконизма – в чайной церемонии. Подается не торт или пирог, перебивающие все вкусовые акценты, а маленькое печенье по сезону: весной – в виде цветка сакуры, осенью – в виде хризантемы. Самого чаю – чуть: зеленая горечь, взбитая в пену венчиком вроде помазка для бритья. То, во что наливается напиток, не менее значительно, чем содержимое: обряд предписывает отдельное любование чашкой. И – вот подлинный урок для литератора – триумф композиции над сюжетом. Что за чем – существеннее, чем что. Порядок угощения важнее угощения.
В общем, не наешься и не напьешься. Вкусно, но мало. Нет, все-таки мало, но вкусно.
Пожалуй, это и можно счесть формулой японского застолья. Формулой его всемирного успеха.
Понятно, что при таком переносе усилий с насыщения физического на насыщение эстетическое особое внимание уделяется всем сопутствующим процедурам: до, после и во время самого поглощения пищи. Японская рукотворная красота еды – и в подаче и в подготовке.
Самая дорогая говядина в мире – “мраморное” мясо из Кобе. Корове подносят пиво, делают ей массаж, разговаривают с ней – размеренно и негромко. В суши-барах работают только мужчины. У женщин температура тела чуть выше – всего, кажется, на полградуса, – но и такое отличие пагубно сказывается на рисе и его сочетаемости с рыбой. Рис для суши сдабривается малой толикой рисового же уксуса – для придания легкого аромата. Совсем чуть-чуть – так пользуется духами женщина со вкусом. Тонкие розовые лепестки маринованного имбиря играют роль шербета – освежают нёбо и гортань, готовя к следующей закладке. Ножи для разделки рыбы холят и лелеют, словно именное оружие. Они и есть именное оружие повара, буквально блестящий знак его доблести.
Специальной разделке подвергается рыба фугу – предмет вожделения кулинарных камикадзе. Ежегодно в Японии умирают от яда фугу более сотни человек. При правильной разделке рыба безопасна, но смертельные ошибки случаются, и, казалось бы, чего проще – не есть ее вовсе, полно других. Но такое было бы слишком просто. Да и теория вероятностей дает благоприятные шансы. Взять того же меня: я съел в Киото суши из фугу, и ничего, никакой мемориальной доски на том заведении в Арасияма на берегу реки Кацура.
Идея сырой рыбы недолго смущает воображение новичка-европейца, воспитанного на варке, жарке, тушении и запекании. Прежде всего – это вкусно. И далее – это тонко. (Только в скобках упомяну отвратительное мне слово “полезно” – сырая рыба действительно полезна, но, по моему глубокому убеждению, полезно то, что вкусно: что поглощается с удовольствием, то и идет впрок.) Естественно, первое условие тут – свежесть.
В последний раз я разместился в Киото возле храма Тофукудзи в риекане – традиционной гостинице, где ложем служил расстеленный на полу футон, под голову помещалась макура – наволочка, набитая гречневой крупой (должна за ночь прочищать мозги, я что-то не заметил), из мебели стоял столик высотой в ладонь. Через дорогу был суши-бар, где человек в высоком колпаке время от времени отказывался меня обслуживать по утрам, тыча пальцем в настенные часы: мол, приходи позже, не кормить же тебя вчерашней рыбой.
При всем том как раз в Киото – самая интересная в стране рыбная кулинария. Расположенный сравнительно далеко от моря – редкость для островной Японии, – город вынужден был придумывать для рыбы, которую сюда тащили через горы не одни сутки, различные способы сохранности: солить, вялить, мариновать, сушить. В заведении “Нисимура”, возле университета, я ел вяленую селедку в бульоне с лапшой. Описание блюда способно повергнуть в уныние или отвращение – в зависимости от темперамента, – но прошу поверить: вкусно. Не может быть невкусно уже потому, что за этим стоят столетия традиции.
Киото – традиция в наиболее вызывающем виде. Дело в том, что город на первый взгляд – совершенно современен. Не в той, разумеется, степени, как Токио. Все же Токио служит столицей последние почти полтораста лет, а Киото был ею десять веков. У Киото больше за плечами. Но старина здесь по-японски упрятана в современность, и новичок поначалу недоумевает: где же обещанные путеводителем две тысячи (!) храмов и святилищ? Они на месте, но их надо с умом и желанием искать и находить, получая гарантированное вознаграждение. Вот там, в монастырских садах, скрывшихся от времени, – лучшие места для гурмана. Потому что гурманство здесь – многослойное: ты ешь нечто вкусное, легкое и красивое, сидя на циновке, расстеленной на деревянной террасе в саду с видом на пруд, где тихо квакают лягушки. Вдруг на миниатюрном бесшумном водопаде звонко щелкает колено бамбукового желоба – и это единственное напоминание о том, что время все-таки течет.
Более наглядная старина – в квартале Гион. Здесь знаменитые матинами – деревянные планочные дома, такие, какими они были и пятьсот лет назад. Считанные метры по фасаду и до сорока метров в глубину, эти “спальни угрей”, как их называют, таят в себе дорогие тонные заведения с гейшами. Европейцы долго путали их с гетерами, пока не зауважали, разобравшись, что гейша призвана услаждать ум и душу, но не тело. Стихи, музыка, каллиграфия, чайная церемония, сервировка – приложение сил гейш, которых очень мало, и все в возрасте, поскольку учиться надо, по сути, всю жизнь. Гейши приезжают на машинах, быстро проскальзывая в раздвижные двери; на улицах Гиона можно встретить и рассмотреть только их учениц – майко: тонкие, почти прозрачные фигурки с набеленными лицами, сохраняющими любезную бесстрастность, когда турист просит сфотографироваться рядом.
В традиционном городе – изысканная еда. Что естественно, коль скоро кулинария – такое же достижение культуры, как поэзия и живопись. Блюда здесь именно что поэтичны и живописны.
В Киото подают суши, завернутые в листья хурмы: сами листья не едят, но рыба и рис пропитываются тонким особым ароматом. Используются и листья бамбука, персика, гингко: аромат различается. Точнее, должен различаться, но к этому пониманию надо взмыть. Моя провожатая по Киото – аспирантка-славистка Казуми Китагава – привела меня в закусочную на “Философской тропе” по пути от храма Гинкакудзи к храму Нанзендзи, где суши тоже были завернуты. Развернув и попробовав, я сказал: “Эти совсем другие”, имея в виду, разумеется, форму листьев. Казуми восторженно отозвалась: “Я знала, что вы сразу определите! Конечно, вы услышали аромат гингко!” Ага, прям щас взял и услышал. Но кто меня осудит за то, что я трусливо промолчал, только закатил глаза в блаженстве. Гингко же!
Как с английским газоном: чтоб достичь такого качества, надо стричь и поливать, стричь и поливать – и так пятьсот лет. Постижение японцев, достижение их уровня – дело безнадежное.
При всем этом японцы едят много, часто и увлеченно – таков один из первых культурных шоков, переживаемых в стране. Лелеемой в мечтах и вроде бы обязательной Фудзиямы не видать – она все время в туманной дымке, а вот еда мозолит глаза с утра до вечера. Правда, умудряясь при этом не мозолить желудок: лаконизм в японской кухне главное – суши не щи. (Хотя есть и подобие щей – набэ и его вариации: суп с капустой и рисовой разновидностью спагетти.) Едят тут еще и громко: в простых закусочных, где подают бульон с гречишной или пшеничной лапшой, шум стоит, как у плотины. Этикет не только не запрещает, но и предписывает хлюпать: значит, вкусно.
Так делают японцы, а стало быть, стоит принять во внимание. Вот чему учит Киото – вере в традицию, даже чужую, даже странную.
Расширение мира нарушает устоявшуюся иерархию ценностей, а живот ближе к сердцу, чем голова. И легче привыкнуть к мысли о том, что есть не менее читающие страны, чем признать превосходство шведской водки, итальянских белых грибов, норвежской лососины. Но в кулинарном мировосприятии нет места комплексу государственной неполноценности, тут господствует комплекс основных человеческих чувств – вкуса, обоняния, осязания, зрения. Оставим слух идеологии. На гастрономической карте мира свои масштабы, они меняются, и маленькая Япония у берегов огромной Евразии становится все больше и больше.