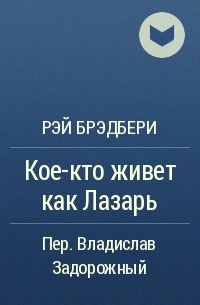Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Вы не поверите, если я скажу, что этого убийства я ждала шестьдесят лет – надеясь на него, как только способна надеяться женщина. Я и пальцем не пошевелила, дабы предотвратить это убийство, когда его неизбежность стала очевидна. Анна-Мария, сказала я себе, даже если ты будешь постоянно начеку, ты не сумеешь помешать тому, что должно свершиться. Но когда убийство наконец происходит после десяти тысяч дней напрасного ожидания, оно кажется не столько сюрпризом, сколько истинным чудом.
– Держи крепче! Ты меня уронишь!
Это голос миссис Харрисон.
Ни разу за полсотни лет мне не довелось слышать, чтобы она сказала что-нибудь шепотом или хотя бы нормально. Только крик, визг, громогласные приказы и шумные угрозы.
Да, всегда на пределе громкости.
– Успокойся, мамочка. Вот хорошо, мамочка.
Ни разу за эти долгие годы мне не довелось слышать, чтобы его голос поднялся на тон выше раболепного журчания или возвысился до громкого протеста. Ни единожды он не взорвался ругательствами, пусть бы и визгливыми!
Нет. Вечное, исполненное любви монотонное мурлыканье.
Этим утром, которое ничем не отличалось от множества утр в прежние годы, они подкатили в своем бесконечном черном роскошном лимузине, сущем катафалке, к отелю «Грин бей», где неизменно проводили каждое лето. И вот он уже суетливо протягивает руку, чтобы помочь этому манекену, этому посыпанному пудрой и тальком ветхому мешку с костями, который только в дурном сне и в шутку можно величать мамочкой.
– Осторожно, мамочка.
– Ты мне руку сломаешь!
– Прости, мамочка.
Из павильона возле озера я наблюдала, как он катил по дорожке инвалидное кресло, а старуха в нем размахивала тростью, словно мушкетом, из которого она собиралась убить наповал богинь Судьбы или фурий, если те вдруг заступят им путь.
– Осторожно, ты опрокинешь меня на клумбу! Слава богу, что у меня хватило ума в конце концов отказаться от поездки в Париж. Ты бы меня угробил в этих проклятых автомобильных пробках. Ты огорчен?
– Нет, мамочка.
– Мы увидим Париж в будущем году.
В будущем году. Ха, будущий год – это выдумка, никакого будущего года в природе не существует.
Я не сразу ловлю себя на том, что произнесла это вслух, больно вцепившись в подоконник. Почти семьдесят лет я слышу эти обещания – сперва мальчику, потом юноше-мальчику, потом мужчине-мальчику, а теперь вот этому седому насупленному жуку-богомолу с душой мальчика. Вот он катит кресло с вечно мерзнущей женщиной, закутанной в меха даже сейчас, посреди лета, – катит мимо тех веранд отеля, где некогда восседали знатные дамы и бумажные веера в их руках трепетали, как пестрые крылья восточных бабочек.
– Вон там, в коттедже, мамочка… – Его голос из-за расстояния уже плохо слышен. Голос юнца, хотя он уже старик. А прежде, в молодости, его голос казался голосом древнего старика.
Сколько же лет этой рухляди в инвалидной коляске? Пожалуй, девяносто восемь. Да, правильно, девяносто восемь. Она похожа на фильм ужасов, который неизменно крутят по вечерам каждое лето, потому что служба развлечений отеля скупится на новый.
Я быстро пробежалась в памяти по всем их приездам-отъездам вплоть до самого первого. Отель «Грин бей» только-только построили, всюду виднелись модные тогда зеленые и лимонно-желтые дамские зонтики от солнца. Стояло лето 1890 года, и я впервые увидела Роджера. Ему было столько же, сколько и мне, всего лишь пять лет, но уже тогда у него был взгляд усталого и умудренного жизнью старика.
Он стоял на газоне возле павильона и смотрел вверх, на небо и на пестрые флажки, развешанные между деревьями.
– Привет, – сказала я.
Он просто оглянулся и ни слова не произнес.
Я толкнула его в плечо и отбежала.
Он хоть бы двинулся!
Тогда я вернулась и снова толкнула в то же место.
Он вытаращился на свое плечо и собрался было пуститься за мной, как вдруг издалека громыхнуло:
– Роджер, ты испачкаешь свой костюмчик!
И он медленно поплелся в сторону летнего домика, где они жили. А на меня даже не оглянулся.
С того дня я его возненавидела.
Многоцветные зонтики расцветали тысячами и исчезали, стаи бумажных вееров уносил августовский ветер; павильон сгорел и был отстроен на том же месте и в том же виде, а озеро стало намного меньше – ссохлось, как слива. И моя ненависть, словно покоряясь местному закону прилива и отлива публики в зависимости от сезона, то появлялась, то пропадала. Порой моя ненависть вырастала до размеров гигантских, а порой на время уступала место любви – но лишь на время. Ненависть возвращалась всегда – правда, с годами все более похожая на старую стертую подметку.
Помню его семилетним. Он едет в коляске – длинные волосы раскинуты по щуплым покатым плечам. Мать рядом, и они держатся за руки. И слышен ее зычный повелительный голос:
– Если ты этим летом будешь хорошим мальчиком, то в будущем году мы поедем в Лондон. Или в крайнем случае через год.
А маленькая девчушка, дочка местной прислуги, не спускала с них глаз: сравнивала их глаза, уши, рты. Когда однажды днем он в одиночку зашел в павильон выпить лимонада, я решительным шагом подошла к нему и громко заявила:
– Она не твоя мать!
– Что? – Он в панике оглянулся, словно его мать могла услышать мои слова.
– Она тебе даже не тетка и не бабушка! – продолжала я в полный голос. – Она – ведьма, которая украла тебя из люльки. Ты не знаешь своих настоящих родителей. Ты ни чуточки на нее не похож. Она держит тебя для того, чтобы получить от какого-нибудь короля или графа миллион долларов в качестве выкупа за тебя, когда тебе исполнится двадцать один год.
– Не говори такие вещи! – закричал он и вскочил со стула.
– А почему бы и нет? – со злостью сказала я. – Зачем ты сюда приезжаешь? Ты не умеешь играть в это, ты не умеешь играть в то. Ты ничего не умеешь. Ты никчемный. Она все за тебя знает. Она за тебя все говорит. Но мне-то про нее все известно! По ночам она спит в своей спальне, свесившись с потолка головой вниз в своем безобразном черном платье!
– Не говори такие вещи! – повторил он с бледным, перепуганным лицом.
– А с какой стати мне молчать?
– Потому что это правда.
И с этими словами он пулей устремился к двери и был таков.
Снова я увидела его только на следующее лето. Да и тогда всего лишь один раз, мельком, когда моя матушка велела отнести чистые простыни в летний домик, где жили Харрисоны, мать и сын.
Впервые я сделала паузу в своей ненависти к нему в то лето, когда нам было по двенадцать.
Однажды он позвал меня из-за стеклянной двери павильона и, когда я выглянула, сказал тихим, спокойным голосом: