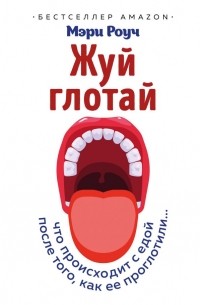Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава третья. Ливер и столкновение мнений
«Комплект образцов традиционного питания северных народов и источников поддержания здоровья» включает подборку из 48 фотографий, снабженных пояснительными подписями. На этих иллюстрациях – еда инуитов. В большинстве своем – мясная, но стейками не назовешь. «Сердце тюленя» – надпись под одним из снимков, «Мозг карибу» – под другим. Все отпечатки сделаны, по возможности, в натуральную величину. Бумага – твердая и обрезана по краям высечкой, как у тех бумажных кукол, которых в детстве страшно хотелось во что-то нарядить. Комплект фотографий, с которым я знакомлюсь, принадлежит Габриэлю Нирлангаюку, отвечающему за медицинские вопросы в общине, расположенной в Пелли-Бей – одном из поселений Нунавута. Как и я, он заехал в Иглулик – городок на маленьком острове рядом с Баффиновой Землей, – чтобы поучаствовать в Арктических атлетических играх. Компанию ему составил тогдашний мэр Пелли-Бей Макабе Нарток. По чистой случайности мы встретились втроем на кухне единственного жилого помещения Иглулика – гостиницы «Туджормивик».
Работа Нирлангаюка требует посещения школы – чтобы убедить юных инуитских «поп– и чипсоголиков» вернуться к еде своих предков. Число инуитов-охотников сокращается, поэтому снижается и потребление внутренних органов животных (а также прочих частей, не предназначенных для продажи по каналам кооперации: сухожилий, жира, крови, голов).
Я дохожу до фотоснимка с подписью «Сырые почки карибу». Спрашиваю: «А кто на самом деле это ест?»
«Я ем», – отвечает Нирлангаюк. Он выше большинства инуитов, с вызывающе выступающим подбородком, которым и указывает на Нартока: «Он ест».
Любой охотник, уверяет меня эта парочка, употребляет в пищу внутренние органы животных. Хотя с 1950-х инуиты (в Канаде это название вытесняет привычное «эскимосы») уже не ведут прежний кочевой образ жизни, большинство взрослых мужчин все еще доставляют на семейный стол то, что можно добыть на охоте. Отчасти потому, что таким образом удается сэкономить немного денег. В 1993 году, когда я была в тех местах, небольшая консервная банка Spork (местной разновидности Spam) стоила $2,69. Продукты такого рода доставляли на самолетах. Цена арбуза доходила до $25. Огурцы же были настолько дороги, что местный преподаватель сексуальной грамотности демонстрировал назначение презервативов с помощью метловища.
Я попросила Нартока пролистать подборку фотографий и показать мне, что именно он употребляет в пищу. Он потянулся через стол, чтобы взять у меня снимки. Выше запястий его руки оказались светлыми, а ниже – загорелыми, и граница была очень резкой. Арктический загар был настолько сильным, что с первого взгляда его можно было бы принять за коричневые перчатки. Нарток вглядывался в фотографии сквозь очки в железной оправе. «Печень карибу – да, ем. Мозг. Да, я ем мозг. Я ем глаза карибу, сырыми и вареными». Нирлангаюк наблюдал за всем этим, кивая в знак согласия.
«Вот эта часть мне особенно по вкусу», – Нарток держал в руке наклеенный на бумагу снимок с подписью «Фата карибу». Милый эвфемизм, помогающий не произносить «оболочка желудка». И тут меня осенило: есть охотничью добычу целиком или нет – дело тут не в экономии, а в предпочтениях. На пиршестве, устроенном в комьюнити несколькими днями раньше, мне предложили «лучшую долю» арктического гольца. То был глаз, полоски соединительной и жировой ткани с задней части которого свисали в точности так, как могли бы свисать провода с обратной стороны автомобильной фары. Рядом несколько пожилых женщин, усевшись шеренгой, слово звенья одной цепочки, извлекали мозг из костей карибу, сосредоточенно склоняя головы так, как если бы набирали эсэмэс на смартфонах.
Так исторически сложилось, что использование в пищу субпродуктов животных было для кочевых народов Арктики условием выживания. Даже в летние месяцы растительность здесь остается чахлой. Мало что может расти в тундре в изобилии – кроме мхов и лишайников. Внутренние органы животных настолько богаты витаминами, а съедобные растения настолько редки, что в образовательных программах по медицинскому просвещению населения «органы» классифицируются одновременно как «мясо» и «фрукты и овощи». Например, порция «овощей и фруктов» в учебных материалах, которыми пользуется Нирлангаюк, – это «полчашки ягод или зелени или от 60 до 90 граммов мяса внутренних органов».
Нарток показал мне образец арктической «зелени». Это лист № 13 из подборки наклеенных на картон фотографий – с подписью «Содержимое желудка карибу». Мхи и лишайники трудно поддаются перевариванию, если только вы не обладаете таким же, как у карибу, желудком с несколькими камерами для расщепления растительных волокон с помощью ферментов. Вот поэтому инуиты и позволяют карибу проделать «предварительную работу». Мне вспомнился Пэт Мюллер и его слова о том, что дикие собаки и другие хищники в первую очередь поедают желудки своих жертв и их содержимое. «Почему бы и нам, – добавил тогда он, – не делать того же к собственной пользе?»
Во время знаменитого исследования 1930-х годов группе малолетних детей-сирот предлагался «шведский стол» из 34 минимально термически обработанных и здоровых блюд: свежие овощи и фрукты, яйца, молоко, цыплята и говядина, а также печень, почки, мозги, зобная и поджелудочная железы и костный мозг. Дети предпочли костный мозг.
Если же мы окажемся способны преодолеть влияние современной западной культуры и средств массовой информации, а также соблазны малоценной пищи с повышенным содержанием соли и сахаров, то сможем ли перейти на рацион, которого придерживались прежние поколения северных народов, инстинктивно тяготевших к наиболее здоровому, разнообразному и богатому различными нутриентами питанию? Трудно сказать. Существует знаменитое исследование 1930-х годов, в процессе которого группе малолетних детей-сирот предлагался «шведский стол» из 34 минимально термически обработанных и здоровых блюд. Ни одно из них не подвергалось ненужному измельчению, не доводилось до состояния месива. В их число вошли свежие овощи и фрукты, яйца, молоко, цыплята и говядина, а также печень, почки, мозги, зобная и поджелудочная железы и костный мозг. Дети избегали кушаний из печени и почек, всех 10 видов овощей, пикши и ананасов, однако среди неаппетитных отнюдь не фигурировали блюда из мозгов и желез. А что было наиболее предпочитаемым выбором? Костный мозг.
В 22.30 солнце превратилось в «розовую принцессу». Однако света все еще хватало – его отблески играли на куртке с аппликациями из моржовой кожи, в которую была одета молоденькая девушка, катившая себе на велосипеде по гравийной дороге, рассекавшей городок. Мы снова собрались на кухне благодаря мужчине по имени Марсель, только что вернувшемуся с охоты, во время которой были обнаружены нарвалы. Нарвал – это среднего размера кит с единственным бивнем, торчащим из головы наподобие свечки, какую обычно втыкают в пирог на день рождения.
Марсель бросает на стол белый пластиковый пакет, и тот, коснувшись столешницы, упруго подпрыгивает. «Муктук», – одобрительно говорит Нирлангаюк. Иначе говоря, кусок сырой нарвальей шкуры. Нарток отмахивается: «Да ел я его и прежде. Много раз». И чертит руками в воздухе нечто, напоминающее квадрат размером с большую книгу.
Нирлангаюк поддевает ломтик муктука кончиком складного ножа и протягивает мне. Инстинктивно я готова отказаться. В конце концов, я – дитя среды, в которой воспитывалась. Росла в Нью-Гэмпшире в 1960-е годы, и мясом у нас считалась мышечная плоть. Грудинка и окорок, бургеры и отбивные. А «органами» было нечто такое, куда мы отправляли благотворительные пожертвования. Слово «почки» относилось к форме столиков, за которыми люди пили кофе. Никому из моего окружения и в голову не приходило придержать на ужин что-то из мясных внутренностей, особенно в сыром виде. А уж сырые наружные части… Это казалось просто немыслимым.
Я стянула с ножа Нирлангаюка ломоть, похожий на резину. Это было нечто, принесенное снаружи и потому холодное и странно-нарвальего цвета. Описать словами вкус? Попробуй поймай! Грибы? Грецкий орех? Времени подумать хватало: прожевать кусок нарвала, вероятно, не легче, чем выловить целого. Я отдаю себе отчет в том, что вы мне не поверите, – точно так же, как я не поверила Нартоку. Но муктук – изысканный деликатес. (И еще нельзя не упомянуть, что он несет в себе заряд здоровья: витамина А в нем не меньше, чем в моркови, и еще приличное количество витамина С.)
Мне нравится куриная кожица и свиная шкурка. Так почему нужно так волноваться из-за муктука? Потому что культура определяет наше меню в большей мере, чем кажется многим из нас. И при этом не жалует замены.
То же, что Габриэль Нирлангаюк стремится сделать с внутренними органами в интересах здоровья своих соотечественников, правительство США пыталось делать в интересах войны. Во время Второй мировой военное ведомство США отправляло за океан мясо для питания своих и союзных частей в таком объеме, что на домашнем рынке стала ощущаться его нехватка. Согласно статье, напечатанной в 1943 году в Breeder’s Gazette, американский солдат получал около фунта мяса в день. Начиная с того же года, мясное потребление для гражданских лиц в тылу стало нормированным – правда, только по основным категориям мяса. В качестве продуктов питания можно было получать все внутренние органы. Регулярная армия не использовала мясные субпродукты, потому что они быстро портились. И еще потому, что, как писал журнал Life, «наши парни такого не любят».
Штатские «такое» любили не больше. В надежде изменить положение дел Национальный научно-исследовательский совет (National Research Council, NRC) нанял команду антропологов во главе с таким уважаемым ученым, как Маргарет Мид, которым было поручено изучить пищевые привычки американцев. Каким образом люди решают, что именно считать хорошей едой, и как можно было бы изменить их отношение к выбору пищи? Начались исследования, были сформулированы основные рекомендации и обнародованы отчеты – включая статью Мид, опубликованную в 1943 году под названием «Проблема изменения пищевых привычек. Отчет Комитета по изучению традиций питания». Если когда-либо и делалась попытка выработать словесное определение для нормированного распределения продуктов, то именно в данном случае.
Первое, что предписывалось сделать предпринимателям, – выступить с иносказанием. Едва ли потребителей могло обрадовать предложение пообедать «потрохами» или «железистым мясом», как принято было называть внутренние органы животных в индустрии. И вот слова «лакомый кусочек» замелькали то тут, то там – как, например, в поэтичном материале журнала Life, озаглавленном «Изобильны мясные лакомства». Впрочем, за явным преимуществом победил вариант: «мясное многообразие». Эти слова создавали атмосферу чего-то не вполне определенного, но вместе с тем живого и приветственного, в равной мере воскрешая в памяти информацию о протеинах и показанную в прайм-тайм телепрограмму с танцевальными номерами и покрытыми блестками платьицами.
Изменить пищевые пристрастия – дело непростое. 68 американским студентам предложили легкую закуску из кузнечиков с медом. Желание попробовать изъявили всего 12 % испытуемых.
Одновременно и в том же духе (О-ох! Впрочем, нет, извините: точно таким же образом) диетологи, составляющие рационы, и шеф-повара воодушевленно подбирали «достойные имена» новым мясным закускам из внутренних органов. Немного французских мотивов в названиях, как полагали, может облегчить переход. В 1944 году журнал Hotel Management опубликовал статью, включавшую рецепты Brains à la King и Beef Tongue Piquant.
Другой стратегии требовали дети, «входящие в жизнь, не зная, что съедобно, а что нет», – писал психолог Пол Розин, много лет изучавший в Пенсильванском университете причины возможного отвращения к пище. Пока малышам не исполнилось два года, можно давать им пробовать все понемногу. Розин так и поступал. В одном незабываемом исследовании он подсчитал в процентном отношении, что именно и в каком объеме дети готовы взять в рот и проглотить из предлагаемой им «пищи». Их возраст – от 16 до 20 месяцев, а на пробу предлагались выложенные на одном подносе: рыбная икра (60 %), средство для мытья посуды (79 %), печенье с кетчупом (94 %), мертвый (стерилизованный) кузнечик (30 %), искусно свернутое спиралью арахисовое масло с лимбургским сыром, то, что обозначалось словами «собачки нагадили» (55 %), и прочее. Меньше всего процентов набрали человеческие волосы – всего 15.
К десяти годам дети, как правило, приучаются есть то же, что и окружающие. Едва пищевые предпочтения сформировываются, изменить их – дело непростое. В отдельном исследовании Розин представил публике 68 американских студентов, которым предложили легкую закуску из кузнечиков. Правда, на сей раз под «коммерческим соусом» – с добавкой меда и в том разнообразном виде, в каком принято подавать это кушанье в Японии. Желание попробовать изъявили всего 12 % испытуемых.
Так вот, Национальный научно-исследовательский совет попробовал вовлечь в эксперимент начальные школы. Экономисты, занимающиеся исследованиями в области домашнего хозяйства, получили задание найти подход к учителям и работникам системы среднего образования, отвечающим за составление меню для школьных завтраков. «Давайте сделаем больше, чем просто поприветствуем мясное разнообразие, – давайте подружимся с ним!» – прощебетала Джесси Элис Клайн в феврале 1943 года в Practical Home Economics. Управление США по продовольственному снабжению в военное время выпустило брошюру «Пособие по сохранению пищевых продуктов», а также эссе, посвященное «мясному разнообразию» и названное «Увлекательным путешествием по стране новых кушаний». Возможно, ощущая тщетность попыток заставить 10-летних американцев с энтузиазмом ухватиться за мозги и сердца, правительство страны сосредоточилось, главным образом, на том, чтобы никакие пищевые продукты не пропадали зря. Один из предлагаемых студентам видов деятельности заключался в том, чтобы «демонстрировать широким кругам граждан съедобные части пищевых продуктов, фактически, найденные в мусорным ящике». По замыслу организаторов это было затеей лучшей, чем побуждение родителей звонить ночь напролет в поисках собственных чад.
Однако попытки изменить пищевые привычки, основываясь на «просвещении школьников», наталкивались еще и на то обстоятельство, что не сами дети определяли рацион своих обедов и ужинов. Мид и ее сотрудники вскоре осознали: придется идти на поклон к той, кого они называли «стражем у врат», – проще говоря, к мамочке. Нирлангаюк пришел к такому же заключению. Я нашла его через 17 лет после нашей первой встречи и спросила, чем завершилась кампания по восстановлению традиций национальной кухни. «На самом деле мы не слишком преуспели, – признал он, говоря из своего кабинета в нунавутском управлении по охране окружающей среды и дикой природы. – Детишки ели то, что готовили для них в семьях. И единственное, чего я не делал, так это не ходил по родителям».
Даже здесь неудача. В рамках программ, проводимых Национальным научно-исследовательским советом, коллега Мид Курт Левин прочитал серию лекций, обращенных к домашним хозяйкам и пропагандирующих выгоды от употребления в пищу внутренних органов домашних животных. Выступления завершались призывом к патриотическому сотрудничеству. Основываясь на последующих опросах, пришлось констатировать: всего 10 % прослушавших лекции женщин вернулись домой и приготовили новое кушанье из субпродуктов. Устные обсуждения в группах оказались более продуктивными, чем лекции. Однако наиболее действенным стало чувство вины. «Женщинам говорили: немало людей жертвуют в этой войне очень многим, – делится с читателями Брайан Уонсинк, автор книги „Изменение привычек питания в глубоком тылу“. – И вы можете внести свой вклад в общее дело, готовя еду из субпродуктов». Неожиданно это сработало. Люди стали думать: «Ну, я же не буду тем изгоем, которому плевать на долг перед Родиной».
Не менее эффективными были торжественные обещания. Хотя теперь происходившее в те дни и сложно представить в виде живой картины, Уонсинк утверждает: правительственные антропологи требовали от членов учительско-родительской ассоциации стоя скандировать: «Я буду готовить еду из субпродуктов ____________________ раз в предстоящие две недели». «Акт принесения публичных обещаний, – по словам Уонсинка, – был убедительным, убедительным, убедительным». Теперь немного исторического контекста. 1940-е годы были временем расцвета торжественных обещаний и клятв. В залах, где собирались бойскауты, в комнатах для внеклассных занятий и в ложах «Лосей» – везде людей приучали ставить подпись в указанном месте документа или стоя декламировать то, что положено, а затем поднимать руку «за». Даже Клуб чистых тарелок, о котором так мечталось в 1942 году одному морскому офицеру, имел свою клятву: «Я ____________________, будучи членом с незапятнанной репутацией, сим подтверждаю, что обязуюсь съедать все без остатка со своей тарелки… и буду поступать так до тех пор, пока Дядя Сэм не разгромит японцев и Гитлера» – начисто, ну как с тарелки слижет.
Чтобы обратить умы людей к новой пище, порой приходится побуждать их открывать рты. Исследования показывают, что если человек будет пробовать какую-нибудь еду достаточно долго, он, вероятно, привыкнет к ней и начнет находить ее приятной. Обзорное исследование, проведенное в военное время группой ученых, изучавших пищевые предпочтения, показало: лишь 14 % студенток женского колледжа утверждали, будто им нравится сгущенное молоко без сахара. После того как эта сгущенка подавалась им 16 раз в течение месяца, опрос был проведен вторично. Теперь уровень одобрения составил уже 51 %. Курт Левин заметил: «Люди готовы любить то, что им подают, а не есть то, что им нравится».
Цена продуктов тоже имеет значение – хотя и не всегда в большой степени. Стремление сэкономить на еде – это только часть проблемы.
У этого явления глубокие корни. Грудное молоко и околоплодные воды «запоминают» особенности той пищи, которую принимала мать. Исследования постоянно подтверждают: младенцы, подрастая, сохраняют предпочтение к той еде, с которой они познакомились в материнской утробе или в период грудного вскармливания. (Ежедневно малыш заглатывает около унции околоплодной жидкости). Джулия Меннелла и Гэри Бичамп из Монелловского центра проделали немалую работу в этой области. В частности, они набрали группу экспертов-дегустаторов, анализировавших запах околоплодной жидкости, взятой во время амниоцентеза, и запах молока, полученного от женщин, как проглотивших капсулу с чесночным маслом, так и не сделавших этого. Эксперты пришли к единому мнению: опытные образцы, взятые у первых, пахли чесноком. А вот детки, кажется, ничего в толк так и не взяли. Напротив, команда монелловских экспертов писала: «Младенцы… сосали материнское молоко охотнее тогда, когда оно пахло чесноком».
В качестве консультанта по маркетингу Брайан Уонсинк оказался среди тех, кто должен был содействовать увеличению мирового потребления соевых продуктов. Успех подобного предприятия, как установил Уонсинк, в значительной мере определяется той культурой, привычный рацион которой вы намерены изменить. В странах с сильными семейными традициями – например, в Китае, Колумбии, Японии и Индии, – где выбор пищи и ее приготовление накрепко связаны с вековыми обычаями, привить что-то новое в этом плане очень трудно. А вот, скажем, в Соединенных Штатах и России, где население в меньшей мере тяготеет к следованию традициям и в большей склонно к индивидуализму, шансы на успех выше.
Цена продуктов тоже имеет значение – хотя и не всегда в той степени, в какой можно предполагать. Стремление сэкономить на еде – это только часть проблемы. Как пишет Мид, хорошо известная и почти постоянная дешевизна требухи воспрещает использование ее в пищу, относя к категории «подходит человеку, но не его образу жизни». В 1943 году еда, приготовленная из субпродуктов, могла серьезно подорвать социальный статус того, кто ею увлекался. Американцы предпочитали «умеренно-нейтральное» приготовление мясных блюд из мышечной ткани отчасти потому, что, сколько жители страны себя помнили, именно подобного рода еда была привилегией высших классов.
Отвращение к некоторым пищевым продуктам, обусловленное национальными и социальными предрассудками, в иных случаях способно было доводить путешественников– первооткрывателей до голодной смерти, ибо не позволяло им питаться тем, что ели местные жители. Британские полярные исследователи жестоко страдали от собственного снобизма, связанного с пищей и временем ее приема. «Они считали, что еда эскимосов… была слишком жалкой для британских матросов и, разумеется, совершенно немыслимой для британских морских офицеров», – писал Роберт Финей в книге «Полярные путешествия: значение пищевых продуктов и нутриентов для путешествий раннего времени».
Человеческие волосы содержат не менее 14 % L-цистеина – аминокислоты, часто используемой при изготовлении пищевых усилителей вкуса и для умягчения теста при выпечке.
Члены экспедиции Берка и Уиллса по Австралии пали жертвой голода и цинги отчасти потому, что отказывались есть туземную пищу. Брюшки бабочек-сóвок Agrotis infusa, а также витчеты – червеобразные личинки некоторых других насекомых – могут казаться отвратительной едой, однако в них содержится не меньше антицинготного витамина C, чем в таком же объеме шпината. Добавьте сюда же пользу от калия, кальция и цинка.
При всем разнообразии мясных продуктов труднее всего пропагандировать в качестве пищи репродуктивные органы. Ну как тут не пожелать удачи Диане Пуччиарелли – той, которая жаждет доказать обывательской Америке, какое это удовольствие – готовить свиные «шарики». «Я действительно работаю над проектом, связанным со свиными тестикулами», – подтверждает Пуччиарелли, директор программ по фуд-менеджменту и хостингу. И где – вы не поверите, но сердце мое ликует! – в университете Болла. Связанная обещанием хранить тайну, Пуччиарелли не могла сообщить мне, кто будет готовить соответствующее блюдо, а также какую форму и почему примет в результате исходный материал. Оставив в стороне сомнительные усилители фертильности и дерзновенные новации (например, такое кушанье как «Скалистые горы устриц»), признаем: «репродуктивное снаряжение», кажется, просто создано для того, чтобы его держали подальше от обеденных тарелок. В конце концов, ни я, ни представитель Американского института мяса Джанет Райли не готовы выступить с утверждением, будто в современной культуре принято регулярное использование яичников, маток, пенисов или вагин просто в качестве чего-то полезного и приятного на вкус.
Другое дело – в историческом смысле – Древний Рим. Брюс Крейг, президент Чикагского общества кулинаров-историков, обнародовал позаимствованный из Apicius рецепт колбасок, приготавливаемых из свиных маток. В сравнении с другими кулинарными книгами, Apicius отличается, я бы сказала, гладиаторским стилем. «Извлеките внутренности через глотку сразу после убоя, пока туша еще не застыла», – так начинается один из рецептов. Если в современной рецептуре принято советовать хозяйке «солить по вкусу», то древнеримский рецепт кулинарного приготовления матки гласит: «Добавьте необходимую порцию мозгов, приготовленных ранее». Слитер Булл, автор вышедшей в 1951 году книги «Мясные блюда на вашем столе», утверждает, будто древние греки питали особое пристрастие к кушаньям из вымени. И весьма точно определяли, что именно им требуется, – соответствующий орган свиноматки, взятый «как только та опоросилась, но еще не начала кормить приплод». Одно из двух: либо это самая жестокая кухонная практика в истории, либо домыслы самого Слитера.
Держу пари: если вы дадите себе труд хорошенько посмотреть по сторонам, то всегда сможете обнаружить чью-то приветливую улыбку, которая так и манит вас отведать что-нибудь вполне безвредное – каким бы неприятным ни казался поначалу источник еды.
Плохо прожеванной едой в кишечник, рассуждал Флетчер, мы перегружаем пищеварительную систему и загрязняем клетки организма продуктами «гнилостного бактериального распада». При методе Флетчера можно рассчитывать на то, что в организме образуется всего одна десятая отходов.
«Принимая во внимание широкий диапазон продуктов, употребляемых в пищу всеми группами населения на Земле, мы должны… поставить вопрос: существует ли среди съедобного многообразия хоть что-либо, обладающее питательной ценностью и не влекущее болезненных последствий, но вызывающее отвращение по самой своей сути, – пишет ученый-диетолог Энтони Блейк. – Если ребенка в раннем возрасте познакомить с каким-нибудь продуктом, подкрепляя это положительным отношением со стороны матери или няньки, то дитя одобрит его в качестве привычной еды». Для примера Блейк упоминает суданскую приправу, получаемую из коровьей урины, прошедшей процесс ферментации. Применяется она для того, чтобы сделать вкус пищи более ярким, напоминая в этом отношении «соевый соус, которым пользуются во всем мире». Особенно удачное сравнение было сделано летом 2005 года, когда мелкую китайскую фирму уличили в использовании человеческих волос в качестве сырья для производства дешевого эрзац-соуса из «сои». Наши волосы содержат не менее 14 % L-цистеина – аминокислоты, часто используемой при изготовлении пищевых усилителей вкуса и для умягчения теста при выпечке. Как часто? Достаточно, чтобы служить предметом научных споров между еврейскими диетологами, придерживающимися правил кашрута. «Хотя человеческие волосы и не являются особенно аппетитными, они должны считаться кошерным продуктом», – утверждает рабби Зуше Блеш, автор «Кошерной пищевой продукции», текст которой можно найти на сайте Kashrut.com. «Здесь нет ничего „загрязняющего“», – подтвердил он в письме, пришедшем мне по электронной почте. Растворение волоса в соляной кислоте позволяет выделить L-цистеин – при том, что основное вещество остается совершенно нераспознанным и чистейшим. Главная тревога рабби в данном случае не связана с гигиеной, но вызвана опасностью идолопоклонства. «Мне представляется, что женщины отращивают пышные волосы на голове, а затем обривают себя и предлагают эти волосы идолу», – пишет он. Замечено, что храмовые служители Индии тайно собирают человеческие волосы и продают их изготовителям париков. Поэтому некоторые представители кругов, озабоченных следованием правилам кашрута, тревожатся, не попадают ли эти волосы и к производителям L-цистеина? Однако беспокоиться нет оснований.
«Волосы, идущие на производство аминокислоты, поступают исключительно из местных парикмахерских», – заверяет нас рабби. Уф-ф!
Если иметь в виду желаемые перемены в образе питания, то наилучший агент влияния в данном случае – едок, приводимый кушаньями в неиссякаемый восторг. Например, король, поглощающий морских улиток. Или герой-революционер, страстно жаждущий сердец на шампуре. «В норме отталкивающие продукты или другие объекты, если их ассоциировать с кем-то… кто вызывает восхищение, теряют свою непривлекательность и даже становятся приятными», – пишет Пол Розин. Субпродукты становятся современной едой, поскольку в роли шеф-поваров в широко известных заведениях высокого уровня – таких, например, как Los Angeles’s Animal и London’s St. John, а также в программах телеканала Food Network – выступают знаменитости. В эпизоде «Железный повар» в сюжете «Битва потрохов» судьи обмирают от сырых сердец «по-татарски», трюфелей из печени ягненка, рубца, а также блюд из зобной и поджелудочной желез и мускульных желудков птиц. Если дело и дальше пойдет так, как обычно и бывает в жизни, то лет через пять-десять сердца и железы, пожалуй, начнут появляться и на семейных трапезах.
Что касается субпродуктов, то если приготовление требует, скажем, «снять оболочку», последняя фаза перехода к новой еде может оказаться не слишком быстрой. В отличие от филе или мяса для тушения, внутренности выглядят именно тем, чем являются, – внутренними органами. Данное обстоятельство служит еще одной причиной нашего сопротивления. «Внутренние органы, – говорит Розин, – напоминают нам о родстве с животными». Сходным образом трупы навевают мысли о смерти, а говяжьи языки и рубцы передают нам непрошеную весть: все мы – тоже живые организмы, что-то жующие и что-то переваривающие мешки с кишками.
Снова и снова Пэт Мюллер из AFB отмечает прогресс в кулинарных обычаях различных стран, влияющий не только на меню высококлассных ресторанов, но и на блюда, подаваемые в простых закусочных или предлагаемые в виде замороженных полуфабрикатов в супермаркетах. «Сначала появляются новые виды закусок. Тут мало риска. Затем наступает черед главных блюд. Наконец, это становится той едой, которую вы можете купить и предложить своим домашним».
Жевать печень, зная, что и у тебя есть своя, почти такая же? А табу на каннибализм?! Чем ближе мы к другим живым существам – эмоционально или филогенетически, – тем глубже в нас ужас перед необходимостью усердно поедать их. Да и мясники начинают ощущать себя убийцами. Как замечает Мид, приматы и наши домашние животные попадают в категорию «съесть – немыслимо». Даже в тех культурах, где принято употреблять в пищу обезьянье мясо, люди не переходят запретную черту, отделяющую человекообразных.
В те дни, когда я была в Иглулике, у инуитов не было обыкновения считать животных своими товарищами. Ездовая собака была – в большей или меньшей мере – частью походного снаряжения. Когда я сказала Макабе Нартоку, что держу дома кошку, тот спросил: «А как вы ее используете?» В США животные, живущие в семье, – ее члены, а не источник пищи или дополнительного дохода. Это ощущение быстро распространялось даже во время Второй мировой войны и карточной системы распределения продуктов, когда лошадь или кролик, считавшиеся источником деликатесного мяса во Франции, для американцев могли оказаться предпочтительнее субпродуктов. В 1943 году ученый Аштон Кейт из Канзас-Сити опубликовал редакционную статью «В борьбе с дефицитом мяса нам следует использовать зайчатину». Автор чуть ли не со стоном писал о том, «сколько пропадает мяса» в виде заячьих и кроличьих тушек, оставляемых на съедение койотам и воронам местными скотоводами, «неудержимыми в стремлении устраивать избиения с тысячами жертв». И, похоже, немалая часть братцев кроликов досталась матушке Кейта. «Возможно, самые приятные воспоминания моих мальчишеских лет связаны с жареной зайчатиной, тушеной зайчатиной, запеченной зайчатиной и пирогами с зайчатиной».
Один из самобытных «диетологов-экономистов» Гораций Флетчер придерживался особого, единственного в своем роде, подхода к тому, каким образом следует провести американцев сквозь времена военного мясного дефицита, не прибегая к распределению продуктов по карточкам и не гоняясь за зайцами и кроликами. То, что он предлагал, было простым, хотя и несколько обременительным средством регулирования «механики человеческого организма».