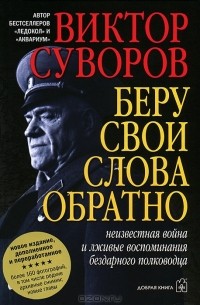Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 4. Как Жуков пытался доложить обстановку
Полководцы и военачальники охотно соглашались выступать на страницах газеты, однако, как правило, слабо владели пером. И приходилось, мягко говоря, оказывать им «безвозмездную» помощь. (Гонорары получали авторы, а не сотрудники редакции). За них писали «от» и «до». Печатали на машинке, вычитывали. Автору оставалось лишь поставить свою подпись.
Причины разгрома 1941 года Жуков объяснил просто и доходчиво: Сталин ничего не понимал, а вот он, великий Жуков, все понимал, он, гениальный, пытался доложить, но Сталин не слушал.
Раскроем последнее, тринадцатое издание мемуаров Жукова, на странице 229. Тут сказано следующее:
К сожалению, приходится отметить, что И. В. Сталин накануне и в начале войны недооценивал роль и значение Генштаба. Между тем Генеральный штаб, по образному выражению Б. М. Шапошникова, – это мозг армии. Ни один орган в стране не является более компетентным в вопросах готовности вооруженных сил к войне, чем Генеральный штаб. С кем же, как не с ним, должен был систематически советоваться будущий Верховный главнокомандующий? Однако И. В. Сталин очень мало интересовался деятельностью Генштаба. Ни мои предшественники, ни я не имели случая с исчерпывающей полнотой доложить И. В. Сталину о состоянии обороны страны, о наших военных возможностях и о возможностях нашего потенциального врага. И. В. Сталин лишь изредка и кратко выслушивал наркома или начальника Генерального штаба.
Чем можно подпереть заявления Жукова? Да ничем. Простейшей проверки эти заявления не выдерживают.
Более двух десятилетий кремлевские секретари вели Журнал записи лиц, принятых И. В. Сталиным. Все посетители зарегистрированы: время входа, время выхода. Эти записи опубликованы полностью в журнале «Исторический архив» в 1994–1997 годах. Документ решительно опровергает Жукова и тех, кто сочинял за него «Воспоминания и размышления».
Вопросами подготовки войны Сталин занимался упорно и ежедневно минимум 17 лет. С каждым годом Сталин все больше и больше времени уделял военным вопросам. Судя по записям, начиная с ноября 1938 года кабинет Сталина превратился в главный мозговой центр предстоящей войны и Мировой революции. Редко мелькнет в списке приглашенных чекист, дипломат или прокурор; остальные посетители – те, кто будет воевать, и те, кто будет их обеспечивать. Но если и бывали иногда в кабинете Сталина чекисты, дипломаты и прокуроры, то из этого вовсе не следует, что с ними Сталин только о вечном мире толковал.
Перед каждым, кто читал эти записи, открывается грандиозная картина подготовки к великой войне. Вот, например, осенью 1940 года Сталин пригласил к себе конструктора-оружейника Шпагина Георгия Семёновича. Пока никто не сумел найти упоминаний о личных встречах Гитлера с конструкторами стрелкового оружия, а вот Токарев, Дегтярев, Симонов, Горюнов были постоянными гостями в кабинете Сталина.
О чем говорил Сталин со Шпагиным? Мы этого не знаем и не узнаем никогда. Но результат налицо. С середины 1941 года до конца войны германская промышленность произвела 935,4 тысячи пистолетов-пулеметов. Их надо было использовать на многих фронтах от Норвегии до Африки, от Нормандских островов до калмыцких степей.
Промышленность Советского Союза за тот же период произвела более 6 миллионов пистолетов-пулеметов. В подавляющем большинстве – конструкции Шпагина. И их применяли только на одном фронте – против Германии и ее союзников. Гитлеровский министр вооружений и боеприпасов Альберт Шпеер вспоминал:
Солдаты и офицеры дружно жаловались на перебои в снабжении их стрелковым оружием. Особенно им не хватало пистолетов-пулеметов, и солдатам приходилось пользоваться трофейными советскими автоматами. Этот упрек следовало целиком адресовать Гитлеру. Как бывший солдат Первой мировой войны, он упорно не желал отказываться от традиционного и хорошо знакомого ему карабина… Он откровенно игнорировал разработку и производство новых видов стрелкового оружия (Шпеер А. Воспоминания. Смоленск: Русич, 1997. С. 436–437).
Гитлер до конца войны так не понял роли пистолетов-пулеметов. Ставка на винтовки прошлого века дорого обошлась Гитлеру и его армии. А Сталин понял значение пистолетов-пулеметов в конце 1939 года, в 1940 году по его приказу были разработаны надежные, предельно простые в изготовлении, обслуживании и боевом применении образцы, а в 1941 году началось массовое производство. Кстати, коммунистическая пропаганда все ставит с ног на голову: если верить советским «мыслителям», то у немцев было множество автоматов, а наш солдатик обходился винтовкой прошлого века. Дело обстояло как раз наоборот.
А вот Сталин говорит с конструктором Шавыриным. Мы тоже не знаем, о чем шла речь. Но можем догадываться – по результатам. Советский Союз вступил в войну с первоклассным минометным вооружением. Ничего равного и близкого шавыринскому 120-мм миномету в германской армии не было. Немцы скопировали советский образец по захваченным в Запорожье в августе 1941 года чертежам.
Прием продолжается. В кабинете Сталина конструкторы Шпитальный, Комарицкий, Таубин, Березин. Мы можем судить о последствиях этих встреч, сравнив советское авиационное вооружение с германским. В 1937 году в Испании гитлеровцы снимали со сбитых советских самолетов скорострельные авиационные пулеметы Шпитального-Комарицкого, которые были приняты на вооружение Красной Армии еще в 1932 году. Германские конструкторы так и не сумели к концу войны создать ничего равного и даже близко похожего. И скопировать тоже не смогли.
В кабинет Сталина входят авиационные конструкторы Яковлев, Ермолаев, Ильюшин, Петляков, Поликарпов, Таиров, Сухой, Лавочкин. Не все сразу. У Сталина – индивидуальный подход. Даже Микояна принимал отдельно, а через два месяца – Гуревича, хотя МиГ – сплав усилий обоих конструкторов. Но Сталин хотел послушать каждого в отдельности.
За конструкторами самолетов – конструкторы авиационных двигателей Микулин и Климов. Вот в узком кругу Сталин беседует с самыми знаменитыми летчиками. Затем – с высшими авиационными командирами. Тут же – снова с конструкторами самолетов и двигателей.
Редко найдешь день, когда в кабинете Сталина не побывал бы нарком авиационной промышленности А. И. Шахурин. Иногда глаза протираешь: Шахурин и… снова Шахурин. Просто это он в сталинский кабинет по два захода в день делал. Часто Шахурин бывал здесь не один, а с заместителями Дементьевым, Ворониным, Баландиным. Тут же и директора крупнейших авиационных заводов. И генералы – непрерывной чередой. Нарком вооружений Ванников – частый гость.
И вдруг – некто Москатов. Разговор с ним – за полночь. Кстати, в этот день, 4 октября 1940 года, Сталин уже переговорил в своем кабинете и с наркомом обороны, и с начальником Генерального штаба, с начальником Главного артиллерийского управления, с тремя заместителями начальника Генерального штаба, с наркомом вооружений, с начальником Главного управления ВВС, с конструкторами Таубиным, Шпитальным и Шпагиным. День не особенно напряженный: в списке всего лишь 20 человек. И последний – Москатов.
Кто же это такой? Нет такого среди генералов. И конструктора такого вроде не было. Москатов, Москатов… А ведь где-то такой встречался. Ну-ка, по справочникам пройдемся. Ах, да! Петр Григорьевич. Как же, как же… «…С октября 1940 нач. Главного управления трудовых резервов при СНК СССР». Вот оно что…
С 3 октября 1940 года в Советском Союзе обучение в высших учебных заведениях и в старших классах обыкновенных школ стало платным. Вводилась эта мера в связи с тем, что благосостояние трудящихся ужасающе повысилось и денег трудящимся все равно девать некуда. По просьбе этих самых трудящихся родное правительство им такой подарочек подбросило. Мгновенно опустели школы. Чтобы миллионы подростков зря по улицам не шатались, для них были открыты особые «учебные заведения». При военных заводах.