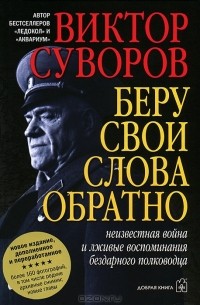Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 1. Честность с оговорками
Могу писать только правду.
При жизни Жукова вышло только одно издание его мемуаров – один том. «Это была убедительная, честная книга, это была большая правда о войне. Таковой она останется навсегда» (Красная звезда. 12 января 1999 г.).
Тут я позволю себе с любимой газетой не согласиться. «Таковой» жуковская правда навсегда не останется. Она уже таковой не осталась. И не могла остаться, ибо правда в нашей великой стране самая лучшая в мире. Самая правдивая. Самая передовая. Самая прогрессивная. Самая устойчивая. Не оттого наша правда такая живучая, что твердокаменная, а как раз наоборот. У нас гибкая правда! Эластичная. Наша правда выживает в любых условиях, ибо к ним приспосабливается. Ученые товарищи в этом случае применили бы термин: мутация. Наша правда жизнеспособна и неистребима, ибо меняется вместе с изменением условий обитания. Как бледная спирохета.
Выдумали буржуазные врачи-вредители нечто такое против спирохеты и возрадовались: сифилис побежден!
Рано радовались, господа хорошие! Не выгорело вам! Возбудители сифилиса тут же перестроились. По-научному – адаптировались, по-нашему – перековались. На тот же манер, подобно стойким жизнерадостным спирохетам, меняется наша большая правда о войне, в частности – та правда, которую миру поведал величайший стратег всех времен и народов.
Заявляя, что правда Жукова неизменна, товарищи из «Красной звезды» лукавят. Уж им-то надо знать, что второе издание «Воспоминаний и размышлений» практически ничего общего, кроме названия, не имело с первым изданием. Скажу больше: второе издание полностью опровергает первое. А третье – опровергает второе.
Сейчас «большая правда о войне» Жукова совсем не та, что была раньше. Завтра она будет другой. Она менялась и продолжает стремительно меняться прямо на глазах. Особая роль в этом процессе принадлежит младшей дочери «великого стратега» Марии Георгиевне: она сделала все возможное, вернее – невозможное, чтобы книга великого полководца день ото дня становилась все более правдивой. В архивах отца Мария Георгиевна неустанно находит что-то новое.
Второе издание, которое вышло после смерти Жукова, стало двухтомным. И было объявлено: вот она, наконец, – историческая правда! Вот теперь-то в книгу вошло все то, что проклятая цензура не пропустила в первое издание!
Шли годы, времена менялись. Возникали новые проблемы, новые требования. На каждом историческом этапе те же события получали новую оценку, новую трактовку, новое объяснение. И Мария Георгиевна тут же находила новый «вырезанный цензурой» кусок, или множество кусков, их вставляли в книгу, одновременно прыткие соавторы вырезали все то, что моменту больше не соответствовало, печатали новое издание, и книга снова становилась созвучной времени. И снова объявляли на весь свет: вот теперь-то, наконец, опубликована полная правда!
Оказалось, что Георгий Константинович Жуков предусмотрел все вопросы, которые будут задавать потомки через десятилетия после его смерти, и на все вопросы дал ответы.
Самое удивительное в том, что он дал разные ответы. Если сегодня общество ждет от Жукова одного ответа, то именно его и получает. А если через некоторое время официальный взгляд на тот же вопрос изменится, то изменится и ответ Жукова.
Как только требуется подтвердить новую точку зрения, так тут же Мария Георгиевна находит вырезанный цензурой фрагмент. А если завтра приказывали точку зрения изменить на противоположную, то фрагмент снова уходил в разряд несуществующих.
После смерти Жукова его мемуары прошли путь от однотомника к двухтомнику, дальше растолстели до трехтомника, но потом вновь сократились-скукожились до двухтомника. Книга сама собой съежилась, из нее выпало все лишнее, ненужное, не актуальное.
В 1990 году вышло десятое издание. Оно было особым. Оказалось, что все, о чем Жуков писал до этого, – полная чепуха. И только в десятом издании, через четверть века после смерти великого стратега, перед читателем наконец открылась та большая правда о войне, которую маршалу не позволили сказать при жизни.
Первые девять изданий «Воспоминаний и размышлений» – это большая правда. Но вспоминать эту большую правду больше не рекомендуют. Советы исходят от весьма авторитетных лиц – например, от бывшего министра обороны СССР и последнего Маршала Советского Союза Д. Т. Язова. Дмитрий Тимофеевич вписал свое имя в историю тем, что, уподобившись Гитлеру, через 50 лет после него бросил танковые армады на захват Москвы. На том, как и Гитлер, Маршал Советского Союза Язов сломал шею. Но в отличие от Гитлера, сей стратег не застрелился, хотя и следовало бы. Теперь полководец Язов советует молодым офицерам заводить домашние библиотеки и наполнять их сочинениями Жукова. Но не всякими:
Я посоветовал бы им перво-наперво обзавестись мемуарами этого великого полководца. Причем приобретать надо не любые попавшиеся под руку в книжных магазинах издания, а именно последние издания «Воспоминаний и размышлений», начиная с десятого (Красная звезда. 2 декабря 2003 г.).
Миллионы книг первых девяти изданий «Воспоминаний и размышлений» – это отходы исторического развития. Место им – на свалке истории. Они хороши были для своего времени. Сейчас незачем их держать в домашних библиотеках офицеров. Сейчас другие потребности, сейчас нужна другая большая правда о войне.
Маршал Язов не одинок. Ту же песню поет маршал бронетанковых войск Олег Александрович Лосик. Его похвалы начинаются с ритуальных заверений в честности Жукова, но эти настойчивые повторения рождают сомнения и подозрения. Если кто-то бьет себя в грудь, непрестанно заявляя о кристальной честности и правдивости, то у нормального человека возникает противоположная психологическая реакция. Посмотрите на мелких шулеров в подворотнях: это их стиль – на честность напирать.
Да и о какой честности Жукова речь, если он описал множество операций, но ни разу не вспомнил о потерях? Авторы жуковских мемуаров похожи на организаторов реставрации Кремля и московского Белого дома: ремонт завершен, но смету никому показывать не хочется; зачем, мол, кому-то знать детали, зачем расстраиваться, зачем помнить, во что все это обошлось и куда лишнее подевалось?
Объявив книгу Жукова честной, маршал бронетанковых войск Лосик тут же уточняет, что жуковская честность не простая, а с оговорками:
Это честная книга. Правда, в девяти изданиях по конъюнктурным соображениям в книгу не вошли факты… Готовя десятое издание, дополненное по найденной к тому времени первой рукописи автора, издательство учло… Мемуары потянули на три тома (Красная звезда. 2 декабря 2000 г.).
Повествуя о конъюнктурных соображениях, было бы неплохо назвать главного конъюнктурщика. А рассказывая о том, что мемуары когда-то тянули на три тома, следовало бы объяснить непонятливым, почему в настоящий момент они больше никак на три тома не тянут.
И еще: а где гарантия того, что конъюнктурные соображения больше не принимаются во внимание? На протяжении двух десятков лет в первых девяти правдиво-конъюнктурных изданиях четко просматривалось стремление многочисленных авторов и соавторов «самой правдивой книги о войне» угодить власти, уловить ее желания и ретиво их удовлетворить. А разве в последних изданиях это стремление не просматривается? А разве сегодня книга хоть в чем-нибудь не соответствует официальным идеологическим установкам?
Сам Георгий Константинович хорошо понимал, что большая, но вчерашняя правда никому не нужна. Жуков знал, что историю будут постоянно переписывать. Считал, что так и надо. Сам он был ярым сталинцем – до тех пор, пока Сталин был здоров. В письме в ЦК ВКП(б) от 12 января 1948 года на имя Жданова Жуков называл себя «слугой великого Сталина»:
Прошу Центральный комитет партии учесть то, что некоторые ошибки во время войны я наделал без злого умысла, и я на деле никогда не был плохим слугою партии, Родине и великому Сталину (журнал «Военно-исторический архив». 2007. № 2(86). С. 57).
При Хрущёве в моде было быть антисталинцем; таковым Жуков и стал. Без Жукова никакого ХХ съезда партии и публичных разоблачений Сталина быть просто не могло.
При Брежневе культ Сталина возродили, насколько это было возможно. И снова Жуков стал верным сталинцем – читайте «Воспоминания и размышления», изданные при Брежневе.
А во времена горбачёвской перестройки было приказано Сталина снова пинать ногами, и отношение Жукова, к тому моменту уже покойного, к Сталину в четвертый раз изменилось на противоположное. Читайте «Воспоминания и размышления», выпущенные во времена Горбачёва.
Каждый раз у Жукова разворот на 180 градусов. В прямо противоположную сторону. У меня флюгер на крыше так резко не поворачивается. Его туда-сюда болтает. Но так, чтобы точно на 180 градусов, – не замечал.
Сам Жуков говорил:
При Сталине была одна история, при Хрущёве – другая, сейчас – третья. Кроме того, историографическая наука не может стоять на месте, она все время развивается, появляются новые факты, происходит их осмысление и переоценка, – надо уловить дух времени, чтобы не отстать. С другой стороны, о многом еще говорить преждевременно (Огонёк. 1988. № 16. С. 11).
Фраза о том, что дух времени надо уловить и этому духу соответствовать, просто восхитительна. В соответствии с этим требованием мемуары покойного Жукова волшебным образом обновляются. В любой конкретный момент они духу времени соответствуют. Вот пример. При жизни Жукова в первом издании мемуаров было сказано:
Несмотря на огромные трудности и потери за четыре года войны, советская промышленность произвела колоссальное количество вооружения – почти 490 тысяч орудий и минометов, более 102 тысяч танков и самоходных орудий, более 137 тысяч боевых самолетов (Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1969. С. 237).
При этом живой Жуков ни на какие источники не ссылался. А вот тринадцатое издание (М.: ОЛМА-Пресс, 2003. С. 252): та же фраза, но цифры другие – 825 тысяч орудий и минометов, 103 тысячи танков и самоходных орудий, более 134 тысяч самолетов. И ссылка: Советская военная энциклопедия. М.: Воениздат, 1976. Т. 2. С. 66.
Между первым и тринадцатым изданиями – расхождение в тысячу танков и самоходных орудий. С самолетами расхождение еще большее: в первом издании – 137 тысяч одних только боевых самолетов, в тринадцатом – 134 боевых, транспортных, учебных и прочих. И сшибают с ног данные о производстве артиллерии: в первом издании – почти 490 тысяч орудий и минометов, в тринадцатом – 825 тысяч.
Разница в 335 тысяч стволов! Треть миллиона. Это 55 833 огневых батарей, если они шестиорудийные. Это 83 750 огневых батарей, если они четырехорудийные.
Если на обслуживание каждого из этих, пропущенных Жуковым в первом издании, орудий и минометов определить в среднем по пять человек, то требовалось полтора миллиона артиллеристов. Если учитывать всех, кто такой уймой артиллерии управляет и ее работу обеспечивает – командиров взводов, батарей, дивизионов, полков, бригад и дивизий, личный состав артиллерийских штабов, батарей управления, подразделений связи, водителей артиллерийских тягачей и так далее, – то цифра уходит далеко за два миллиона. Неужели Жуков об этом не знал? Неужели всем этим он управлял, не имея представления о том, что находится под его контролем?
Самое интересное – ссылка на источник. Редакторы тома могли бы честно написать, что Жуков в военных вопросах не разбирался, войной не интересовался, о войне ничего не знал, мостил от фонаря, а вот сейчас открылись другие цифры. И редакторам следовало сослаться на новейшие исследования.
Однако повествование ведется от лица Жукова, и этот Жуков в одном издании говорит одно, в другом – другое, в третьем – третье, в тринадцатом – тринадцатое, и цитирует книги, которые не читал.
Которые не мог читать.
Второй том «Советской военной энциклопедии», на который в данном случае ссылается Жуков, подписан в печать 20 июля 1976 года – через два года, один месяц и два дня после смерти великого полководца.
Ни одного тома «Советской военной энциклопедии» при жизни Жукова не было издано. В момент смерти Жукова первый том не только не был подписан в печать, но даже еще и не сдан в набор, а последний том подписан в печать и вовсе через шесть лет после кончины величайшего полководца.
Вот как покойный улавливает дух времени. В стремлении соответствовать ему Жуков перебрал. Судите сами: Георгий Константинович отсылает нас к четвертому тому «Истории Второй мировой войны 1939–1945». Любопытный читатель, проверьте выходные данные четвертого тома, сравните с датой смерти «маршала Победы». Гарантирую: обхохочетесь.
Спешу донести, что к волшебным трансформациям мемуаров величайшего полководца всех времен и народов я тоже имею некоторое отношение. Я тоже, так сказать, руку приложил.
В советской историографии было принято войну против Гитлера называть «Великой» и даже «Отечественной». Эти названия серьезные историки пишут с большой буквы. А словосочетание «Вторая мировая война» они писали с малой буквы: этим они подчеркивали важность войны на советско-германском фронте и полную неважность той же войны на других фронтах.
Я неоднократно (например, в книге «Самоубийство: Почему Гитлер напал на Советский Союз») напоминал грамотеям: имя собственное, как ни крути, надо писать с заглавной буквы. И еще: война Советского Союза против Германии – это часть Второй мировой войны. Не может часть быть больше целого. Если часть заслуживает заглавной буквы, то извольте и целое с заглавной буквы писать.
Спорить никто не стал, но понемногу словосочетание «Вторая мировая война» в официальной коммунистической прессе стали писать как положено – с заглавной буквы. Через 25 лет после своей смерти Георгий Константинович Жуков тоже перестроился на общий лад, уловил дух времени, и теперь строго блюдет правила русской грамматики; сомневающимся предлагаю сравнить первые и последние издания «Воспоминаний и размышлений».
Слово «Рейхстаг» (если речь идет о здании, а не о высшем законодательном органе Германии) и словосочетание «Имперская канцелярия» – тоже имена собственные. Я их пишу с заглавной буквы, а Жуков – пока со строчной. Дальше по тексту этой книги слово «Рейхстаг» и другие имена собственные читатель встретит в обоих вариантах: цитируя Жукова, я не имею права переделывать его текст на свой лад, по своему пониманию и усмотрению, но твердо уверен в том, что свое отношение к соблюдению правил грамматики покойный Жуков еще изменит.
Ставит в тупик заявление Жукова о том, что «о многом говорить еще преждевременно».
Это о чем – преждевременно? Война завершилась, враг повержен, о чем же нельзя говорить? И почему?
Жуков умер через 33 года после германского вторжения, так ничего о войне и не рассказав. Все, что написано в его мемуарах, было известно до него, было опубликовано другими авторами. И если в последних изданиях книги Жукова появляются новые моменты, то новыми они являются только для «Воспоминаний и размышлений». Все «новые моменты» аккуратно переписаны из чужих книг – из той же «Советской военной энциклопедии», например. Сам Жуков никаких секретов не открыл.
И как прикажете совместить заявления великого полководца о том, что он способен говорить только правду, с его же откровением в том же абзаце о том, что время говорить правду еще не пришло?
И зачем пенять на цензуру, если сам не готов говорить без утайки? Неполная правда есть неправда, то есть ложь. Сокрытие исторической правды – преступление против собственного народа. Народ, который не знает своей истории, обречен на поражения, вырождение и вымирание. Среди прочих в послевоенном вырождении русского народа виноват Жуков.
В те славные времена, когда великий полководец якобы работал над своей «самой правдивой книгой о войне», тысячи честных людей писали «в стол». Почему Жуков так не поступил? Некоторые публиковали правду в самиздате и тамиздате. Если это единственно возможные пути правды, почему Жуков ими не воспользовался? Почему, наконец, Жуков не бежал за границу, в свободную страну, где он мог бы рассказать правду о войне? Струсил?
Возразят: Жуков был не одинок, о войне врали многие. Согласен: врали, но не до такой степени.
Своей, мягко говоря, излишней разговорчивостью Жуков нанес невосполнимый урон всем народам бывшего Советского Союза.
Но, сам того не ведая, Жуков своей необузданной говорливостью вредил и коммунистической власти. Заявив, что было на войне нечто такое, о чем не следует вспоминать, Жуков нанес смертельный удар коммунистическому термину «Великая Отечественная война». Действительно, что это за «священная война», в детали которой «великий стратег» вникать не рекомендует?
Если, по убеждению Жукова, через треть века не настало еще то счастливое время, когда можно говорить правду о войне, то когда оно настанет? Когда все свидетели уйдут в мир иной? Когда почистят все архивы и «за ненадобностью» сожгут все лишнее, неактуальное, не соответствующее историческому моменту?
Во втором издании «Воспоминаний и размышлений» была усилена позиция Жукова в вопросе о том, что правду о войне говорить нельзя:
По вполне понятным причинам мною не будут затронуты вопросы, раскрытие которых может нанести вред обороне страны (Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1975. Т. 1. С. 313).
Опубликовано сие через 30 лет после завершения войны и больше чем через треть века после германского вторжения. О великий радетель нашей безопасности! Да что же это за тайны такие? Списаны танки, заросли крапивой взорванные укрепления, обвалились окопы и траншеи, распущены корпуса, армии и фронты, Гитлера давно нет, и Сталина тоже, наши фронтовики к тому моменту большей частью вымерли…
Но великие тайны остались. Если их раскрыть, будет нанесен вред обороне Советского Союза и боеспособность армии упадет!
Но вот, подобно гниющему трупу, Советский Союз окончательно разложился. Главная причина: в стране категорически запрещалось говорить правду. Разрешалось только врать. Все снизу доверху пропитано враньем. Обманывая народ во всем, правители сами проникаются верой в свои выдумки. Надо было принимать решения, и они их принимали, основываясь на ложных представлениях. А раз так, то и решения их не могли быть правильными.
Непроницаемым слоем вранья покрыта вся советская история, и прежде всего – история военная. После смерти Жукова прошло еще чуть ли не четыре десятка лет, но официальные сочинители так ничего нового и не открыли.
Тем временем идут миллионами все новые и новые тиражи жуковского творения. И в каждом молотом по нашим головам бьет призыв не затрагивать вопросы, «раскрытие которых может нанести вред обороне»… Советского Союза.
Для придворных историков мемуары Жукова – основа и несокрушимый фундамент истории войны. Они бесстыдно ссылаются на «Воспоминания и размышления», хотя знают, что есть темы, – как утверждал сам Жуков, их несколько, – которые вообще нельзя трогать. Правду о войне раскрывать нельзя, а то невзначай, как учил Жуков, можно нанести вред обороне Советского Союза – обороне страны, которой больше нет.
У меня просьба ко всем защитникам Жукова: объясните, что имел в виду величайший стратег! Назовите те запретные темы, которые, по мнению Жукова, нельзя обсуждать. Так и быть, если обсуждать нельзя, обсуждать их не будем. Но вы их назовите. А то ведь откуда нам знать, о чем можно говорить, а что обсуждению не подлежит?
О чем же рано говорить через десятилетия после войны? О штрафных батальонах? Жуков на войне штрафников видом не видывал и слыхом о таких не слыхивал. В мемуарах он этих рабов войны не вспоминал и об их судьбах не размышлял. Но народ об этом знал и без Жукова. В те годы, когда Жуков якобы писал мемуары, Владимир Высоцкий на всю страну хрипел про штрафные батальоны, не дожидаясь, когда разрешат говорить правду.
Может быть, не пришло еще время говорить о том, что народы Советского Союза гитлеровцев хлебом-солью встречали? Жуков и об этом не вспомнил. Но мы-то знали об этом из рассказов свидетелей, из великой книги Анатолия Кузнецова «Бабий яр». Кузнецов не ждал тех прекрасных времен, когда можно будет касаться любых тем и вопросов. Он просто писал правду.
О чем еще не пришло время говорить? О потерях? Жуков нигде ни единым словом не вспоминал потери Красной Армии. Но и без Жукова народ знал, что потери были просто невероятными. И без Жукова честными исследователями была вычислена цифра потерь. И она далеко превосходит 7 миллионов, объявленных при Сталине, 20 миллионов при Хрущёве и 27 миллионов при Горбачёве. (При Горбачёве к сталинской цифре приплюсовали хрущёвскую и получили новую, самую правдивую.)
Трудно понять позицию издателей мемуаров Жукова. Элементарная честность требует изготовить штамп «О многом говорить еще преждевременно. Жуков» и печатать жирными красными буквами поперек каждой страницы его мемуаров.
Заявление Жукова о том, что время говорить правду еще не пришло, является главным свидетельством против его книги «Воспоминания и размышления». После такого заявления честный человек просто не стал бы писать ни единого слова. Или написал бы все, что думает, все, что считает правдой, запечатал бы в трехлитровые стеклянные банки и зарыл бы в саду.
Еще надо было написать письмо потомкам: правду о войне в ХХ веке говорить не позволяют, но я ее для вас сохранил, вот она, читайте!
Но Жуков, объявив, что правду говорить не настало время, поставил свою подпись под сочинением в 700 страниц. Сообразим: если в этом сочинении правда о войне не содержится, тогда чем же оно наполнено?
Если правда отпадает, то что остается?
Заявление Жукова – главное свидетельство в пользу «Ледокола».
Критиков прошу меня не беспокоить и мне не досаждать до того момента, пока не будет опубликован список запретных тем, которые, по мнению Жукова, не пришло время обсуждать.