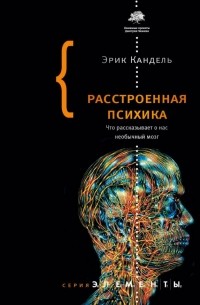Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Пионеры неврологии и психиатрии
Примерно до 1800 года болезнями считались лишь те расстройства, которые возникали в результате очевидного – заметного при вскрытии – повреждения мозга, и эти расстройства назывались неврологическими. Расстройства мышления, чувственного познания и настроения, как и наркомания, не связывались с видимыми повреждениями мозга и потому считались дефектами морального облика человека. Лечить таких “слабоумных” полагалось “закалкой”, для чего их изолировали в лечебницах, приковывали к стенам, подвергали лишениям и даже пыткам. Неудивительно, что такой подход был медицински бесполезен и психологически разрушителен.
В 1790 году французский врач Филипп Пинель официально основал ту область, которая сегодня называется психиатрией. Он утверждал, что психические расстройства – это не нравственные изъяны, а настоящие болезни, а потому психиатрию следует считать разделом медицины. Пинель освободил пациентов большой парижской психиатрической больницы Сальпетриер от оков и ввел гуманные, ориентированные на психологию принципы лечения, которые стали предвестниками современной психотерапии.
Пинель считал, что психические расстройства поражают людей, имеющих к ним наследственную предрасположенность и испытывающих чрезмерное общественное или психологическое давление. Его представления о психических болезнях были удивительно близки к современным.
Хотя Пинель оказал огромное моральное влияние на психиатрию, гуманизировав лечение пациентов, прогресса в понимании психических расстройств затем не было вплоть до начала XX века, когда великий немецкий психиатр Эмиль Крепелин основал современную научную психиатрию. Влияние Крепелина невозможно переоценить, и на страницах этой книги я снова и снова буду обращаться к его достижениям, поскольку они пронизывают все этапы истории неврологии и психиатрии.
Крепелин был современником Зигмунда Фрейда, однако если Фрейд полагал, что психические болезни хоть и локализуются в мозге, но приобретаются в ходе жизненного опыта – часто из-за травматических переживаний в раннем детстве, – то Крепелин усматривал в них биологическое происхождение, генетическую основу. Из этого он заключал, что психические заболевания можно отличать друг от друга так же, как и любые другие: наблюдая за их первыми проявлениями, клиническим течением и долгосрочными исходами. Это заключение сподвигло Крепелина выстроить современную систему классификации психических болезней, которой мы пользуемся по сей день.
Взглянуть на психические болезни с биологической точки зрения Крепелина вдохновили Пьер Поль Брока́ и Карл Ве́рнике – врачи, которые впервые продемонстрировали, что мы можем многое узнать о себе, изучая болезни мозга. Брока и Вернике обнаружили, что конкретные неврологические расстройства можно связать с конкретными областями мозга. Их прорывные исследования заложили фундамент современной науки о мозге, поскольку помогли понять, что психические функции, обеспечивающие нормальное поведение, тоже можно связать с конкретными областями мозга и их совокупностями.
В начале 1860-х Брока заметил у одного из своих пациентов – страдавшего сифилисом мужчины по фамилии Леборн – весьма любопытный дефект речи. Леборн прекрасно понимал речь, но не мог выражать свои мысли. Он понимал, что ему говорили, поскольку мог в точности выполнять указания, но всякий раз, когда он пытался заговорить сам, из его уст вырывалось лишь нечленораздельное бормотание. Его голосовые связки не были парализованы – он без труда напевал мелодии, – но его мысли почему-то не облекались в слова: он не мог ни говорить, ни писать.
После смерти Леборна Брока изучил его мозг, надеясь найти объяснение этому недугу. Он обнаружил в передней части левого полушария область, пораженную болезнью или травмой. Впоследствии Брока нашел еще восемь пациентов с такой же речевой патологией и выяснил, что у всех них повреждена одна и та же область в левой половине мозга, позже названная зоной Брока (рис. 1.1). На основании этого Брока сделал вывод, что за нашу способность к речи отвечает левое полушарие мозга, или его же словами: “Мы говорим левым полушарием”4.
В 1875 году Вернике наблюдал зеркальную картину дефекта Леборна. Один из его пациентов свободно владел речью, но не мог ее понимать. Если врач говорил ему “положить предмет А на предмет Б”, пациент терялся в догадках, о чем же его просят. Вернике связал дефицит понимания речи с повреждением задней части левого полушария, теперь известной как зона Вернике (рис. 1.1).
Он же выяснил, что такие сложные психические функции, как речь, нельзя локализовать в одной области мозга: они задействуют несколько взаимосвязанных областей. Подобные сети формируют нейронную “проводку” мозга. Вернике показал не только то, что за понимание и производство речи отвечают разные области мозга, но и то, что эти области связаны друг с другом дугообразным пучком. Информация, которую мы получаем при чтении, через глаза передается в зрительную кору, а информация, которую мы слышим, через уши поступает в слуховую кору. Затем информация из этих двух участков коры объединяется в зоне Вернике, где преобразуется в нейронный код для понимания речи. Только после этого информация передается в зону Брока, позволяя нам выражать свои мысли (рис. 1.1).
Вернике предсказал, что однажды кто-нибудь выявит расстройство речи, вызванное разрывом связи между зонами Вернике и Брока. Так и оказалось: люди с поврежденным дугообразным пучком не испытывают трудностей с пониманием речи и изъяснением, однако эти функции осуществляются независимо. Это немного напоминает президентскую пресс-конференцию: информация поступает, информация выходит, но между первой и второй нет никакой логической связи.
Сегодня ученые считают, что и другие сложные когнитивные навыки требуют участия разных, но взаимосвязанных областей мозга.
Рис. 1.1. Анатомический путь понимания (зона Вернике) и производства (зона Брока) речи. Зоны связаны дугообразным пучком.
Хотя нейронная схема владения речью в итоге оказалась еще более сложной, чем полагали Брока и Вернике, их открытия стали основой для современных представлений о неврологии речи и даже о неврологических расстройствах. Сосредоточив внимание на локализации заболеваний (место, место и еще раз место!), Брока и Вернике обеспечили значительный прогресс в диагностике и лечении неврологических расстройств. Конечно, ущерб от неврологических болезней в мозге обычно хорошо заметен, и потому выявлять их гораздо проще, чем большинство психических расстройств, поражающих мозг гораздо деликатнее.
Стремление локализовать функции мозга резко набрало обороты в 1930–1940-х. В те годы прославленный канадский нейрохирург Уайлдер Пенфилд оперировал пациентов с эпилепсией, вызванной рубцеванием в мозге после травмы головы. Пенфилд пытался провоцировать у них ауру – особые ощущения, нередко предваряющие эпилептический приступ. Если это получалось, врач понимал, какой крошечный фрагмент мозга необходимо удалить, чтобы облегчить течение болезни, не нарушив важные функции вроде речи или способности двигаться.
Во время операции пациенты Пенфилда пребывали в сознании – в мозге нет рецепторов боли – и говорили ему, что ощущают, когда он стимулировал разные области их мозга. Проведя за несколько лет почти 400 операций, Пенфилд установил, какие зоны мозга отвечают за осязание, зрение, слух и движения разных частей тела. Его карты сенсорных и двигательных функций используются по сей день.
Но одно из открытий Пенфилда поистине поразительно. При стимуляции височной доли мозга – той его части, которая находится прямо над ухом, – пациент мог вдруг сказать: “Такое впечатление, что я о чем-то вспоминаю. Cлышу звуки, песни, фрагменты симфоний”. Или: “Я слышу колыбельную, которую пела мне мама”. Пенфилд задумался, можно ли локализовать столь сложный и таинственный психический процесс, как память, в конкретных областях мозга. В конце концов он сам и другие ученые пришли к выводу, что это вполне реально.