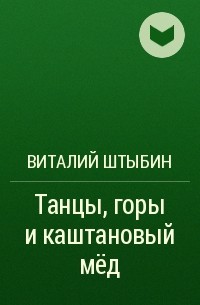Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Всё лучшее… гостю!
Ещё до начала «Шапсугской экспедиции» перед нами стоял острый вопрос: где жить во время её проведения? Почти месяц в пути, а средств для проживания в отелях побережья на такой срок не хватало. На помощь пришли местные жители: как только объявление об экспедиции появилось в сети, тут же нашлись добрые люди и предложили жильё. Большую часть пути мы провели в гостях, и первая встреча состоялась в Туапсе вечером пятницы. Местный житель, уроженец Адыгеи, предоставил нам гостевую комнату в отдельном строении, расположение которого на холме спасло нас во время осенних потопов, бушевавших в тот месяц на Черноморском побережье. Вечер мы провели за ужином с семьёй хозяина, где и наметился наш окончательный маршрут. Первой точкой на пути стал аул Большое Псеушхо, откуда происходила семья супруги хозяина дома. С этого дня началось наше знакомство с одной доброй и очень важной черкесской традицией – гостеприимством. Во время поездок по Лазаревскому району большей частью мы ночевали в уютном доме в ауле Калеж, куда нас пригласил его хозяин.
Всю полноту черкесского гостеприимства мы почувствовали на второй день нашего путешествия по причерноморским черкесским аулам. Накануне мы проезжали через аул Малое Псеушхо, в котором у нас совсем не было контактов. В тот день мы решили ограничиться фотографией памятников Великой Отечественной войны для государственного архива Краснодарского края и съёмками видов аула с краткой информацией о нём. Небольшой ухоженный аульский памятник солдатам расположился рядом с Домом культуры. Наши действия привлекли внимание сотрудников дома, которые поинтересовались у нас о причинах фотосъёмки. В те дни вся страна отходила от шока стрельбы в керченской школе, и поэтому люди тревожились по любому поводу. Мы объяснили цели нашей поездки и познакомились с Марет Тхагушевой, которая руководит центром и детским танцевальным ансамблем «Дети гор». Она пригласила нас на следующий день в гости, ближе к вечеру. Новый день мы провели в окончании дел в Большом Псеушхо, потом посетили расположенный неподалёку чешский посёлок Анастасиевка, в окрестностях которого сняли материал о местных дольменах и огромном древнем кургане – Храме Солнца. В назначенное время мы приехали к Дому культуры Малого Псеушхо, я схватил инвентарь для съёмок в обе руки, и мы пошли к дверям. Каково было наше удивление, когда внутри нас встретила группа молодых ребят в красочных национальных костюмах. Играла черкесская музыка, ребята улыбались и протягивали нам тарелку с халюжами – жареными пирожками, аналогом русской традиции хлеба-соли. В результате у нас получилась чудесная фотография, где ребята в своих ярких костюмах улыбаются в камеру, а я, довольный, кушаю пирожок на заднем фоне.
Ещё одна похожая история произошла с нами позже в посёлке Лазаревское. Мы договорились с Центром адыгской культуры о встрече 4 ноября, в День народного единства, когда на главной площади шли праздничные мероприятия. Мы знали, что ребята из центра будут выступать и погружены в репетиции, потому даже не подозревали, какая нам готовится встреча. И вновь я с полными руками оборудования был пойман в неожиданный момент. За углом здания весь танцевальный коллектив с музыкантами выстроился в ряд. Как только мы появились, нам предложили отведать пирожков, и дальше ребята исполнили несколько танцев для нас. Признаюсь, я был приятно поражён таким вниманием.
Эти истории лишь капля в море. За годы работы с черкесами я был неоднократно принимаем в гостях, и мне всегда старались всячески помочь в моём деле. Главное не злоупотреблять этой ценной традицией, и тогда вам откроется необычный мир черкесского общества и двери домов в каждом ауле будут открыты, а столы ломиться от угощений.
Гостеприимство – визитная карточка всех народов Кавказа. Гость здесь священная фигура. Принять его у себя и обеспечить самым лучшим образом для хозяина честь и составляет основу его авторитета в обществе и социальный капитал. Раньше для этих целей строились специальные помещения – кунацкие или хачещ. Это отдельные строения рядом с домом хозяина, в которых всегда стояла лучшая мебель и принадлежности, поддерживались чистота и уют, но никто из хозяев в этом помещении не жил. В кунацкую мог зайти и отдохнуть любой человек, не спрашивая разрешения. Хозяин не имел права задавать вопросов, его задачей было накормить незнакомца и дать ему отдых. Во время трапезы хозяин удалялся, чтобы не мешать гостю, и если гости пировали, то он подавал еду и стоял в углу, как прислуга. Гость вешал на стену плеть, и по её положению хозяин понимал, надолго ли гость задержится. Если надолго, тогда хозяин мог задать вопрос гостю о том, кто он и куда направляется, хотя этот вопрос он мог задать и без знаков на третий день. В кунацкой люди встречались, общались и развлекались, даже кровная месть уходила на задний план, если враг входил в кунацкую. Хозяин своей жизнью отвечал за безопасность гостя. Считалось возмутительным предлагать оплатить услуги хозяина, для него это было оскорблением. Каким бы затратным ни был гость, он удовлетворял любопытство хозяина и жителей аула новостями, особенно если гость приехал из дальних краёв, точно, как это делают современные СМИ. Писатель-декабрист Бестужев-Марлинский подмечал, что в обычае почитания гостя больше любопытства, чем настоящей доброты, но большинство современников считали, что в этом культе есть и то и другое. Проблема в том, что во второй половине XIX века при российской администрации правом гостя стали пользоваться преступники, чтобы скрыться. До этого обычай создавал проблемы с желающими погостить за чужой счёт, на что жаловались, например, черкесы района Горячего Ключа, где были целебные воды. Порой неблагородные знатные черкесы злоупотребляли гостеприимством. Доходило даже до стычек из-за желания занять кунацкую, когда там уже другие гости рангом поменьше. В кунацких равнинных аристократических субэтносов можно было наблюдать и сословное разделение. Например, если крестьянин становился гостем у знатного, тот взамен имел право потребовать от него выполнения каких-либо работ, что отражало неравноправие сторон. Повсюду регулировалось количество подушек, угощений, предметов быта в зависимости от социального положения гостя.
Сегодня уважение к гостю сохранилось в обычаях народа, хотя кунацкие уже не строят – слишком накладно. Для гостя стараются выделить специальную комнату в общем доме, как в прошлом это делали для кунаков (названых братьев) хозяина дома.
Вероятно, обычай гостеприимства был воспринят предками черкесов от индоевропейских или индоиранских племён вместе с хозяйственными практиками равнинного скотоводства, которое было их визитной карточкой. С ним вместе появилась на Кавказе и традиция ритуальной кражи скота (набегов), отражённая в индоевропейской мифологии в образе воина Трито, который в понимании традиции отбирал данный людям богами скот от недостойных почитателей, и передавал тем, кто его больше заслуживает за счёт правильного почитания богов. В индоевропейском обществе посвящение мальчика в мужи предполагало охоту на скот, как бы в стае собак или волков, то есть через классический набег в звериной сущности. Археолог и историк Дэвид Энтони, который специализируется на изучении и реконструкции происхождения индоевропейских племён, в книге «Лошадь, колесо и язык» посвятил отдельные главы вопросу гостеприимства. В индоевропейском и индоиранском мировоззрении понятие «гостя» имело сакральное значение, такое же, как сегодня на Кавказе. Массовое распространение понятия фиксируется лингвистами в индоевропейских языках, где слова «гость» или «гости» означает и «гостеприимство». Дэвид Энтони связывает появление этого культурного института у западных индоевропейцев в раннем бронзовом веке с появлением скотоводов-всадников ямной культуры, принёсших также патронимический (мужской) стиль социального устройства с мужчинами во главе, мужскими культами и понятием куначества/аталычества. Эта культура впервые стала полностью кочевой, она не оставляет следов оседлых поселений. Регулярные и дальние кочевые миграции привели к смешению кочевников с другими культурами и народами. Поэтому они выработали культ гостя, который позволял породниться и наладить контакты с чужаками, что позволяло безопасно передвигаться по степным территориям и вырабатывать большую сеть родственных контактов, внутри которой все жили по общим правилам. Эта функция сдерживала рост конфликтов и анархии на обширных территориях. Аналогичную функцию культ гостя выполнял и в черкесском обществе, позволяя наладить обширные контакты и избегать конфликтов, особенно на фоне популярности кровной мести, чья культовая сила оказывалась слабее в иерархии перед безопасностью гостя.
Гостеприимство считается столпом черкесского этикета, а в персоне гостя сходятся все понятия моральных правил «адыгэ хабзэ» («закон адыгов»). Соблюдение этикета всегда разнилось от нормы к норме и зависело от личных качеств человека. Кто-то соблюдал их больше, кто-то меньше. Этикетные нормы охватывают все стороны жизни и в прошлом значительно определяли социальную структуру общества и личную жизнь каждого черкеса. Поэтому об этикетном кодексе стоит поговорить отдельно.