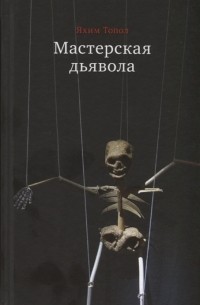Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
1
Я мотаю в Прагу, на самолет. Ну как мотаю – тащусь по обочине, слегка окутанный туманом дурмана, потому что пью.
В последнее время мы со студентами терезинского «Комениума» много пили.
И вот я иду вдоль дороги, а частенько и пробираюсь по кювету, чтобы меня не увидели патрульные из машины дорожной полиции.
Не хочу, чтобы меня замели и стали задавать вопросы про пожар в Терезине.
Иной раз бросаюсь в этот кювет и скрючиваюсь там, вжимаясь спиной в глину, иначе мне не поместиться.
Так потихоньку я продвигаюсь к Праге, чтобы попасть на самолет.
В бутылке еще кое-что осталось – это вино от Сары. Мясо, которое мне дали в дорогу, уже съедено.
Мне не хотелось его есть, долго не хотелось, но потом я заставил себя, ведь силы мне не помешают.
Луна уже почти полная.
Терезинские валы из красного кирпича давно остались позади – все эти стены моего родного города…
Города, который, как говорил мне отец, основала императрица Мария Терезия. С той поры по нему прошагали сотни тысяч солдат многих армий; императрица Мария Терезия любила военные парады, говорил мой папа – майор, военный капельмейстер, просто обожавший терезинские парады с оркестром.
Теперь этот город у меня давно за спиной, позади остались все эти огромные здания времен Марии Терезии и Иосифа II, склады под миллионы единиц боеприпасов, конюшни для сотен лошадей, казармы на десятки тысяч вояк; я ухожу, как ушли все защитники этого города, который строился ради армии… приток солдат в город, построенный для солдат, прекратился.
А город без армии разрушается.
Моих коз, которые выедали траву с крепостных стен, продали.
Большинство из них.
Отец до этого не дожил.
Я – один из тех, кто хотел спасти Терезин.
Моя матушка говорила, что я появился на свет, когда они с папой меня уже и не ждали; при этом она часто повторяла, как ей хотелось бы, чтобы я остался совсем маленьким и в случае нужды мог спрятаться в наперстке. Я питался бы горошинами, дрался с кошкой за каплю молока, ходил, обернув бедра маленькой тряпочкой, – короче, был бы мамин Мальчик-с-Пальчик.
Поначалу мне это было приятно, что тут скрывать.
Но никуда не денешься – я рос, как все дети.
И меня уже не радовало, когда отец с дирижерской палочкой в красном футляре, расшитом миниатюрными изображениями желтых серпиков и молоточков, уходил на работу, а матушка принималась закладывать окна и двери подушками и одеялами.
Раньше, говорят, я хлопал в ладоши, когда мама отодвигала от стен мебель.
Между всеми этими шкафами и шкафчиками, буфетами, перевернутыми стульями, креслами и парадным диваном она создавала надежное убежище, гнездышко для нас двоих.
Мне нравилось, когда в этом теплом гнездышке мы с матушкой прижимались друг к другу и сидели там, обнявшись, пока отец, вернувшись после работы, не вытаскивал нас из безопасного укрытия.
Окружающий мир был огромным, и матушка пряталась от него.
Как только стало возможно, я начал от нее удирать.
Смутно вспоминаю, как это произошло в первый раз: однажды я вырвался, выскользнул из ее надушенных объятий, оттолкнул ее протянутые ко мне руки, протиснулся под диваном, перелез через кресло, хлопнул, подпрыгнув, по ручке двери, открыл ее – и вылетел наружу.
Там я вместе с другими ребятами гонял как сумасшедший туда-сюда по крепостным стенам, кидался в траву, вскакивал и мчался дальше.
И, конечно, Лебо! Его мы все знали, в Терезине иначе и быть не могло.
Кроме того, дело было отчасти и в моей матушке…
Лебо единственный с ней дружил. Ну, не то чтобы дружил, но цветы ей носил.
И еще тетушки о моей маме немного заботились.
Она совсем не выходила из дому.
Но всегда могла рассчитывать на то, что в Международный женский день или в годовщину освобождения страны Красной армией Лебо принесет ей огромную охапку полевых цветов, собранных где-то далеко под крепостными стенами, там, куда не доходили мои козы, или тайком вручит ей запорошенный красной пылью букет в День матери – праздник, который при коммунистах не отмечали; дядя Лебо всегда дарил маме цветы, а тетушки улыбались.
Когда-то Лебо будто бы даже обменивался с матушкой парой слов, но я этого не помню.
А помню, наоборот, что мама в последние годы уже почти совсем не разговаривала.
Она все время хотела лишь одного – сжаться, чтобы занимать поменьше пространства, найти себе такое местечко, где можно было только дышать, – этого ей хватало.
Дядю Лебо знали в Терезине все дети.
Сначала мы думали, что Лебо его зовут потому, что у него такой вытянутый череп и высокий лоб, – мы считали, что по-настоящему он дядя Лобо, но это было не так, а объяснила мне все тетя Фридрихова, которая девочкой прятала маленького, едва родившегося Лебо в коробке от ботинок у себя под нарами, поскольку ее место было в самом углу камеры для осужденных женщин и девушек, и имя Лебо, рассказала она, появилось так. Старшей в их камере была словачка, по воле случая баба-повитуха, и вот, приняв тайком в камере роды, она якобы произнесла вслух – хоть и шепотом – то, что думали про себя все женщины: чтоб молчал, либо мы его задушим, так выразилась повитуха, и сказанное ею со словацким выговором «либо» стало именем Лебо.
Рожать и прятать новорожденных в камере запрещалось, но женщины надеялись, что Красная армия семимильными шагами спешит в Терезин, и они не ошибались.
При самих родах ни тетя Фридрихова, ни другие мои тетушки не присутствовали, тайными родами руководили более опытные пожилые женщины, которых уже нет в живых, и я жалел, что мои тетушки были тогда такие молодые, а то они могли бы рассказать, кто была мать Лебо, хотя, в общем-то, какая разница, ведь родительница Лебо, должно быть, все равно не выжила в сумятице военных будней: может, сгинула в одном из последних эшелонов, идущих на восток, или скорее, как думали тетушки, угодила в тифозную яму, и вообще, за недозволенные роды она так или иначе получила бы пулю, объясняла мне тетя Фридрихова.
«Впрочем, мы не очень-то обращали на это внимание!» – прибавила она, вспоминая старые времена в Терезине; у нее как раз были в гостях тетя Голопиркова и тетя Догналова, и тетя Фридрихова обвела взглядом стены своей маленькой квартирки, куда я пришел с расспросами, а потом из ее горла раздалось бульканье сдавленного смеха; в конце концов, не удержавшись, она прыснула со смеху – и тетушки Голопиркова и Догналова, которые, подобно ей, провели молодость в Терезине, тоже засмеялись.
Лебо был нашим дядей, дядюшкой всей терезинской мелюзги.
Это для него мы обшаривали коридоры – при своем мелком росточке мы могли пролезть в любой канал, где случайные наносы досок из ограждений, смытых паводками с лугов, причудливо коробили поверхность воды; в подземелье не было гнили, щиты, предупреждающие об опасности, которые установили здесь работники Музея, не могли нам помешать, их легко было отодвинуть детской рукой, особенно же нас манили бункеры у самых дальних бастионов…
И как же здорово было отыскать какую-нибудь широченную трубу или старый хлев, забраться в укромный уголок у крепостных стен, куда редко кто заходил, где валялись бутылки и презервативы, прижаться к кирпичам, ощущая все грани и изгибы кладки, и отдыхать!
Матушка пыталась не выпускать меня из дому.
Лучше бы ты остался во мне, говорила она. Чего тебе там не хватало? Сама она никуда не ходила.
Тронутая, одно слово.
Так незло, да и то только иногда, ворчали на мать мои тетушки, жившие по соседству: тетя Фридрихова, тетя Догналова, тетя Голопиркова и другие.
– Это у нее с тех пор! Она не виновата! Ведь сколько всего она вынесла! – говорили они.
Матушка никуда не выходила, ей нужно было чувствовать спиной стену или угол комнаты, она довольствовалась малюсеньким пространством, которое позволяло дышать, и большего не желала, но при всем этом она не окончила дни в психушке, туда ее не забрали, даже после того как она привязала меня в чулане, чтобы я не ходил в школу, даже после этой и других подобных историй, когда мать не давала мне выйти из дому, ее не изолировали, ведь она была герой войны, поэтому ей позволяли делать чуть ли не все что вздумается, и, несмотря на то что она наложила на себя руки, когда меня отправили из города в училище, никто не осуждал ее, никто не очернял ее память, ибо матушка была жертвой зверств и героиней войны; само собой, отцу тоже никто ничего не сказал, ведь он тоже был герой войны, таких у нас в Терезине было множество, даже дядю Лебо, который один-единственный дарил моей матери огромные букеты цветов, считали героем как городские власти, так и ученые из Музея, хотя он в Терезине в войну только появился на свет и не мог помнить всех этих ужасов.
Дядя Лебо командовал нами – последней горсткой отчаянных защитников Терезина. Он в Терезине родился, ходил в терезинскую школу, работал в Музее, пока не уволился, а главное – в Терезине он собирал предметы.
С дядей Лебо и Сарой, которая первая пришла к нам из внешнего мира, мы основали коммуну «Комениум», международную школу для студентов со всего света.
Название ей придумала Большая Лея, приехавшая в Терезин сразу после Сары, и мы дали нашему заведению имя Учителя народов Яна Амоса Коменского, который утверждал, что школа должна быть игрой.
Но наше дело похоронено под обломками, точнее сказать, сгорело в огне, и вот я уношу ноги – мотаю в Прагу.
Устроил это Алекс, белорус.
Это он устроил мой побег, потому что только у меня так крепко засел в башке Лебо с его планами, но прежде всего с его адресами и контактами, которые приносили нам деньги; и все это богатство, контакты, хранится у меня на флешке, в этой малюсенькой умной штучке…
Я называю ее «Паучок».
Лебо – единственный в мире человек, который в Терезине не только родился, но и прожил там всю свою жизнь.
И все связанное с Терезином – не с его славным боевым прошлым, а в основном с его жуткой историей времен войны – было страстью Лебо, потратившего десятки лет на собирание предметов – и контактов, которые должны были помочь спасти город. Все эти контакты он передал мне, чтобы мы выжали из них деньги на «Комениум».
Потому что Лебо настаивал на том, чтобы Терезин сохранился целиком, со всеми этими ходами, подвалами, нарами, надписями, выцарапанными на стенах, и со всей своей жизнью: с горожанами, овощным магазином, гладильней, общественной столовой и прочим.
Всех этих горожан я знаю.
Лебо не хотел, чтобы от Терезина остался только Музей с туристическим маршрутом, проложенным музейщиками, – этого не хотел никто из нас, последних жителей.
Все контакты Лебо я сохранил в «Паучке», который теперь сжимаю в кармане.
Пока у меня есть «Паучок», мне есть куда бежать. Это устроил Алекс с тем, чтобы я помогал ему в его стране. Он хочет продолжить дело Лебо у себя на родине.
Я иду сквозь ночь, которая полнится звуками и шуршанием машин, несущихся по шоссе на Прагу. Иду по обочине, временами присаживаюсь отдохнуть в придорожную канаву и, вжимаясь спиной в глину, вспоминаю.
В Терезине я выгонял на валы коз, все мое небольшое стадо: козы выедали траву, что было совершенно необходимо для поддержания обороноспособности и сохранения красоты крепостных стен; нередко я водил мое стадо к самым дальним валам – это, как объяснял мне отец, было моим почетным долгом. Ведь именно эти валы со стороны Праги – первое, что видели бесчисленные делегации, которые приезжали почтить память чешских патриотов, замученных в Малой крепости, и множества узников-евреев, замученных или умерщвленных иными способами в Терезине либо вывезенных в лагеря смерти на восток. Да-да, эти самые стены из красного кирпича на окраине Терезина со стороны Праги служат визитной карточкой города-крепости, как говаривал мой папаша-майор, и, конечно же, именно поэтому их украшал почетный нагрудник – кумачовый транспарант с надписью С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ НА ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА И НИКОГДА ИНАЧЕ. Аж досюда я гнал иногда моих козочек – это был последний бастион города-крепости.
Однако чаще всего мое стадо паслось невдалеке, у самого подножья валов, потому что козы любили траву, красную от пыли, что сыпалась из кирпичных крепостных стен.
Мой папа-майор был среди освободителей Терезина, в город он попал в последние дни войны, встретился здесь с моей мамой, а в дальнейшем прославился образцовой организацией военных парадов на терезинской площади, этом огромном строевом плацу времен императрицы Марии Терезии.
Отцовы марши до сих пор звучат у меня в ушах, они гремели, когда я был еще совсем маленький и прятался за коврами, диванами, зеркалами, креслами и прочей мебелью в маминых объятиях, вдыхая запах ее шеи и красивого лица, и позже, когда я убегал от нее на валы и лазил по бункерам вместе с другими детьми, с которыми мы пасли коз, подражая их меканью… нам и оттуда был слышен терезинский оркестр. Выгонять коз на валы было нашей, терезинской мелюзги, повинностью; потом отец избавил меня от нее, отправив в училище, где очередные военные марши должны были выковать из меня человека.
Мои сверстники тоже разъехались по училищам, а те, у кого на это недоставало денег, шли хотя бы во вспомогательные войска: девчонки – поварихами, прачками или шлюшками, парни – шоферами и минерами, даже самые тупые устраивались помощниками мясника на бойне, – но я был сын майора, так что о вспомогательных войсках не могло быть и речи.
Бойня находилась в Терезине, это бы мне подошло, я мог бы водить туда старых коз – от валов она была рукой подать, рядом с кладбищем, – но мне пришлось уехать в училище, а моя мама на другой же день после того, как отец отвез меня, умерла. Тетушки потом рассказали мне, как это случилось: папа вернулся с репетиции полкового оркестра и произвел пару привычных манипуляций с дверью, позволявших попасть в квартиру, где мебель была сдвинута тесно-тесно, так, чтобы мама могла забиться в какую-нибудь оставшуюся щель, годную лишь для того, чтобы дышать, но в этот раз, нажав на дверную ручку, папа повесил маму, которая, встав на колени, старалась занять собой как можно меньше пространства, такой уж у нее был бзик…
«Тронутая она была», – сказала тетя Фридрихова. «Это все из-за того шока в яме», – сказала тетя Голопиркова. «Бедный мальчик!» – сказала тетя Догналова, укрыв меня широким изгвазданным фартуком; только я уже был не мальчик, я сбежал из училища, за что полагались такие наказания, как розги, связывание, сотни приседаний, и все это – под издевательский хохот персонала, заглушавший свист прутьев, а хуже всего – мерзкая армейская губа… но мне было все равно, меня тянуло домой, к козам, плевать я хотел на наказания, и в этом я оказался прав: ничего со мной не сделали ни за ту самоволку, ни за все остальные, ведь мой папаша был майор!
Между тем папаша был мной недоволен и всякий раз колотил меня за отлучки, что в конце концов и вышло ему боком.
Я тоже был недоволен тем, что приходилось учиться, таскаться по далеким полигонам или торчать в классах с огромными окнами, через которые весь мир наваливался мне на плечи, и я смывался при всяком удобном, а позже и неудобном случае, потому что умел просочиться даже и сквозь наглухо законопаченную дверь, я всегда отыскивал лазейку, хотя меня даже запирали, и какими-то путями пробирался домой, после чего меня всякий раз находили в проеме крепостной стены, где кирпичи и бревна образовывали загончик для коз.
Туда мой папа-майор шел в первую очередь.
И – марш обратно в училище!
Там меня заставляли учить английский, язык врагов, и русский, язык друзей, и я учился без продыха, с гнетущей тяжестью окружающего мира я справлялся, утыкаясь в учебники, погружаясь в них с головой, только так можно было выжить в классе, а о большем я не мечтал! Видимо, прежде всего благодаря навязанным мне языкам – ничего другого я из училища все равно не вынес – я стал потом правой рукой Лебо и пришелся очень кстати, когда строили «Комениум»; по сути дела, я следовал отцовскому завету: трудился на благо Терезина и, как позднее объяснил Лебо, кладя свою огромную лапу мне на плечо, по-своему оборонял этот папин город-крепость, так что в конце концов папаша, несмотря на нашу последнюю ссору, которой он не пережил, мог бы мной, вероятно, даже гордиться.
Может, и так.
Из училища меня в итоге выставили. Хоть у меня и был папа-майор, для армии я не подходил.
И я вернулся пасти коз и был этим счастлив, потому что другие мальчишки-девчонки повырастали, а новой детворы не появилось, так что остался я со своим стадом один-одинешенек.
Козы – это в Терезине была не просто какая-нибудь деревенская забава или пища, а символ города-крепости; это были биологические боевые машины.
Козы очищали от сорняков, травы и кустарника проходы между валами, эти уязвимые места любой крепости; что бы там ни считалось чудом военной техники – прусские пушки, округлые стены французских бастионов, немецкие «тигры», советские «катюши», прозванные «сталинскими оргáнами», или всевозможные стволы, выкованные позже молотами холодной войны, – козы, жадно поедавшие всю растительность, неизменно поддерживали городские укрепления в чистоте.
На что годились бы все эти продвинутые военные технологии, если бы один-единственный храбрый солдат смог проползти по заросшему сорняками рву к городским воротам и самой что ни на есть примитивной базукой проделать в них брешь?
Если исчезнут козы, любой город-крепость падет.
Папаша, конечно, не собирался оставлять меня при козах, этого ему было мало; он хотел, чтобы я учился руководить и командовать, чтобы по моему приказу люди превращались в машины и все такое… В тот раз мы отчаянно ругались с ним на стенах, покрытых красной пылью, так как кирпичи, терзаемые сотни лет холодными ветрами, источают микроскопические облачка красной пыли, подобно тому как обитающие в воде животные выпускают защитное чернильное облако. Под конец ссоры отец, видно, понял, что я уже вырос настолько, что он не в силах поколотить меня… тогда он схватился за сердце и еще за мою руку, как будто собираясь сбросить меня со стены, но я-то как раз устоял, это он обмяк и начал падать; он рухнул навзничь в красную траву, так что мои козы прыснули в разные стороны, я полез вниз и стал звать их, успокаивая, я и отца пытался оживить, точь-в-точь как нас инструктировали в училище, но безуспешно.
Ему устроили грандиозные военные похороны, на главной площади Терезина выстроились части, которые затем под грохот орудийных залпов маршировали по городу до позднего вечера, на похоронах играли лучшие военные оркестры из всех окрестных гарнизонов, это были едва ли не самые красивые похороны за всю историю Терезина, как говорили мои тетушки и наш сосед, зеленщик Гамачек. Похороны понравились всем. Само собой, мне соболезновали многие военные, которые тогда еще жили в городе. А потом меня посадили.