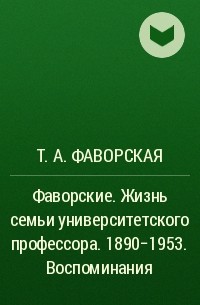Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
1.4. Безо, становящееся традицией… Болезнь отца. Домашнее обучение и православное говение
Сборы на дачу всегда начинались заблаговременно, они начинались с того, что мать составляла список вещей, которые нужно было взять с собой, и другой список – тех вещей и продуктов, которые нужно было купить для дачи. С этим списком потом посылался Петр Малафеев. В аптекарском магазине Герша на 1-й линии покупали мыло, зубной порошок, вату, бинты, мочалки и разные медикаменты. Петр приносил оттуда обыкновенно большую лучинную корзину всякой всячины. Из лабаза (торговля мукой и всякими крупами) привозили заколоченный ящик с крупчаткой и различными крупами, из чайного магазина – другой ящик – с сахарным песком и колотым сахаром. В магазине Ландрина покупали фруктовые леденцы в бумажках и большую жестяную коробку с монпансье. Несколько палок московской колбасы на все лето обеспечивали нас копченой колбасой. Когда все было закуплено, Петр приносил большой глубокий квадратный ящик из гладких толстых досок, в котором, вероятно, был запакован когда-то какой-нибудь прибор или реактивы, присланные из-за границы. Приносили мелких мягких стружек и несколько меньших ящиков для банок с вареньем. И тогда начиналась укладка. Укладывал все отец сам, мать подавала мне отобранные заранее вещи, а я их носила отцу и смотрела, как он артистически укладывает самые разнообразные вещи – мягкие и твердые, стеклянные и металлические, – причем никогда не случалось, чтобы он что-нибудь разбил или испортил, все доходило в полной сохранности. Он укладывал так, чтобы между вещами нигде не было ни малейшей пустоты, все было переложено стружками или мягкими вещами настолько плотно, что ни один предмет нельзя было сдвинуть с места. Наконец, все ящики уложены, на всех написано: «Верх, осторожно», Петр заколотил их и перевязал веревками, привел ломового извозчика, отвез их на Балтийский вокзал и отправил их малой скоростью, товарным поездом. День отъезда назначен, лошади Андреева заказаны, ответ получен, и мы едем опять в Безо, опять на дачу Вольмана, которую мы оставляем за собой. На этот раз в Безо поехали и Тищенко, хотя они и предпочитали свой Удрай нашему Безо, но этим летом захотели пожить на берегу моря. Андрей Евграфович и Ольга Владимировна с сыновьями попросили отца снять им дачу.
Фройлен Бирзак у нас уже не было, а по-немецки я еще не говорила. Тогда решено было найти мне учительницу среди многочисленных дачников Безо. Отец был знаком с преподавателем русского языка одной из немецких школ Петербурга, так называемой Петер-шуле, он просил его порекомендовать кого-нибудь из его бывших учениц, отдыхающих в Безо. Выбор остановился на восемнадцатилетней Маргарите Федоровне Шюлер и оказался очень удачным. Я быстро подружилась с моей молоденькой учительницей и к концу лета так хорошо заговорила по-немецки, что посторонние принимали меня за немку.
Утром до завтрака я играла на рояле, причем уже не на тех роялях, которые стояли в пустом доме, а на рояле, находившимся в квартире самого Лангсеппа, из уважения к отцу и потому что мы жили на даче у Вольмана, он предложил мне упражняться на этом не расстроенном рояле.
После завтрака приходила Маргарита, около часа мы с ней занимались, а потом шли гулять или купаться. Раз начав купаться, я не пропустила ни одного дня, купалась в любую погоду, и за лето выкупалась раз пятьдесят. Тогда нравы были другие, считалось неприличным, чтобы одновременно купались мужчины и женщины, и были установлены определенные часы для купания тех и других, по два часа каждым, начиная с девяти утра и до вечера. Во время женского купания на берегу на высоком шесте развивался красный флаг, в мужские часы он спускался. У самого берега было очень мелко, и надо было идти далеко, чтобы дойти до глубокой воды. Чтобы избежать неприятного путешествия по мелкой воде, в нескольких местах были устроены длинные мостки с перилами с одной стороны, которые шли, постепенно повышаясь, и вдавались далеко в море. На конце этих мостков были устроены поперечные помосты, на каждом из которых находилось три-пять будочек. В этих будочках было по две двери, одна вела в будку с помоста, другая была расположена на противоположной стене. Прямо с порога этой двери начиналось лесенка, спускавшаяся в море и стоявшая нижним своим концом на дне. Спустившись по лесенке, попадали уже в достаточно глубокую воду. В каждой будке было по две скамейки вдоль стен, на которых можно было оставить платье, купаться можно было и в дождливую погоду, так как одежда оставалась сухой.
Мы пользовались купальней всегда от одиннадцати до двенадцати часов. Собираясь купаться, я брала с собой простыню, купальную рубашку, клеенчатый чепчик, термометр и ключ от купальни. Тогда специальных костюмов для купания почти не было, большинство купалось в белых или цветных рубашках. Прежде чем войти в воду, я мерила температуру воды, обычно она было около пятнадцати градусов Реомюра, в жаркие дни она была шестнадцать-семнадцать градусов Реомюра. Безо расположено на южном берегу Финского залива, поэтому, когда дул южный ветер, он угонял воду в море, ее верхний, более теплый слой, воды было мало, и она было холоднее, хотя в воздухе было тепло. При сильном северном ветре море волновалась, вода стояла высоко, в воздухе было холоднее, зато вода была теплой, можно было сразу погрузиться в нее. я купалась обыкновенно почти до самого отъезда, в августе часто были дожди и ветры, я накидывала плащ и все-таки шла купаться. Придешь в будку, разденешься, измеришь температуру, она всего лишь десять градусов Реомюра. Ветер дует, идет дождь, воды много, спустишься со ступенек, держась за перила, быстро окунешься два-три раза – и скорее в будку, тело горит как обожженное. Вытрешься, оденешься – и домой. Маргарита в такую погоду не купалась, только ходила со мной. В конце августа мостки от постоянных ветров расшатались, и пришлось прекратить купаться.
Обыкновенно мы заканчивали свое купание задолго до мужского часа, но раз как-то мы позднее вышли из дома, вода была теплая, мы увлеклись и не заметили, что флаг убрали с шеста. Мы стали спешно подвигаться к будке, смотрим, а около дверей уже стоят незнакомые мужчины. Хотя мы были в рубашках, мы опустились в воду и стали двигаться к будке ползком, перебирая по дну руками, быстро выбежали по лесенке, оделись и побежали по мосткам на берег. Там нас уже поджидала какая-то незнакомая блюстительница нравов, которая и накинулась на нас с упреками: «Как это возмутительно, какое безобразие, вы нарочно сидели в воде, пока не пришли мужчины». Мы не стали оправдываться и как можно скорее удалились с пляжа.
Такое ежедневное купание в относительно холодной воде очень благотворно сказалось на моем здоровье, частые простуды, которыми я страдала, почти совсем прекратились, я закалялась не только купанием: и зимой и летом я спала всегда под одной простыней, у меня вообще не было одеяла. Приехав на дачу, я снимала чулки и не надевала их до самого отъезда, все лето я ходила в ситцевых или других хлопчатобумажных платьях, ни пальто, ни верхних кофт я не надевала ни разу Единственную дань холодной погоде в конце августа я отдавала тем, что надевала шерстяную юбку с бумажной кофточкой. И ведь мне не было холодно! Я очень не любила, когда меня считали слабенькой, старалась по возможности не обращать внимания на свои недомогания и никогда не распространялась о своих болезнях.
В плохую погоду купаться мы ходили лишь вдвоем с Маргаритой, в хорошую с нами часто ходили хозяйские девочки Альма и Луиза. В этом году я с ними больше сошлась и подружилась, особенно с Луизой. Случилось это потому, что, во-первых, я стала говорить по-немецки, а во-вторых, русской компании для меня не было. Маргарита, правда, не одобряла моих разговоров с ними, боялась, что их плохое произношение повлияет и на частоту моего выговора, но я не обращала на это внимания и по-прежнему проводила целые дни с Луизой. Для того чтобы Луиза поскорее освободилась от своих обязанностей я, где могла, всегда ей помогала: собирала с ней ягоды, которых у них много было разведено в огороде, чистила вместе с ней медную посуду, и даже если в чем-то не могла ей помочь, просто присутствовала при ее работе и болтала с ней. В свободное время мы играли в крокет и в разные другие выдуманные нами игры или беседовали где-нибудь в укромном уголке. По зимам они учились в немецкой школе в Ревеле (Таллине) и прилично читали и писали по-немецки, русский же язык у них сильно хромал.
В Везо было много разнообразных прогулок – и ближних, и дальних. Одной из излюбленных далеких прогулок была прогулка в Пальме – имение, в котором жил барон Пален, которому принадлежала и земля, на которой расположено было Везо. До Пальмса было около двенадцати верст. Для этой прогулки обыкновенно нанимали одну или две телеги, смотря по количеству участвующих, нагруженных провизией, самоваром, корзинками для ягод (в Пальмсе было много лесной земляники); путешествие начиналось и длилось с утра до вечера. Дорога была живописная, шла главным образом лесом, а в самом Пальмсе был небольшой парк с прудом посередине. Господский дом, красивой, затейливой постройки, был расположен на возвышенности, около дома были красивые цветники, но близко к дому мы никогда не подходили и любовались им только издали. В этом году тоже собрались в Пальмсе мы с отцом, старшие мальчики Тищенко, Володя и Максим Фаворские и М. Н. Рыбкина за хозяйку (она опять жила с Тищенко вместе со своей матерью). По моей настойчивой просьбе со мной отпустили и Луизу. Нежно простившись с матерью, оставшейся дома, я весело побежала с Луизой вслед за телегой.
По приезде в Пальме обыкновенно устраивались на лужайке около протекавшего мимо парка прозрачного холодного родника. Не дожидаясь, пока вскипит поставленный самовар, многие, в том числе Алексей Евграфович, утоляли жажду после продолжительного путешествия по солнцу прямо холодной родниковой водой. Закусив, напившись чаю и захватив с собой корзинки, мы отправлялись в парк. Парк был большой, с многочисленными ухоженными дорожками, с разнообразными большими тенистыми деревьями, между которыми росла густая некошеная трава, а в этой траве – крупная, спелая земляника. Я собирала ягоды медленнее других, но зато я брала только спелые ягоды, которые все, не перебирая, можно было брать на варенье. Все хорошие ягоды я клала в корзинку, а в рот препровождала только случайно попавшиеся мне в руку перезрелые плоды. Нагулявшись и набрав ягод, мы возвращались к нашей телеге, выпивали еще один самовар, доедали провизию и отправлялись в обратный путь.
С приездом мальчиков Фаворских Андрюша мне изменил, проводил с ними все время. Они играли в индейцев и устраивали на берегу ручья, недалеко от нашей дачи, какую-то хижину и не позволяли девочкам смотреть на их работу. По желанию моих родителей я ходила к Ольге Владимировне учиться рисовать и срисовывала группу красных грибов и желтые ирисы в вазе. Я никогда не отличалась способностями к рисованию, и уроки эти мне особой пользы не принесли.
Алексей Евграфович часто навещал Ольгу Владимировну и мальчиков и договорился с ними и с Андрюшей пойти удить рыбу на какое-то озеро. Они должны были встать в 3:00 ночи, чтобы к рассвету прийти на озеро и застать утренний клев. Мне он не разрешил пойти с ними, хотя мне этого очень хотелось. Путешествие это должно было состояться через несколько дней после поездки в Пальме. День был назначен, уговорились, кто кого будет будить, и улеглись пораньше спать. Однако этой рыбалке не суждено было осуществиться. Я спала крепко и не слышала, как кто-то из мальчиков подходил и стучал к Алексею в Евграфовичу в окно и что тот ответил, что плохо себя чувствует и на озеро идти не может. Утром температура у отца оказалась немного повышенной, сначала думали, что он простудился, но потом оказалось, что он заболел брюшным тифом, и к тому же в очень сильной форме. Никто в Безо им не болел, единственное вероятное объяснение было то, что во время поездки в Пальме он, разгоряченный, напился очень холодной сырой родниковой воды. Но, как бы то ни было, он заболел. В Безо не было ни больницы, ни постоянных врачей, ближайший город Везенберг находился в тридцати пяти верстах, вести отца в Петербург было опасно. К счастью, в Безо жил на даче старичок-немец – доктор Zopfel, который взялся лечить отца. В Петербург Марии Павловне была послана тревожная телеграмма, она взяла за свой счет кратковременный отпуск и приехала сама, и вместе с ней приехал второй служитель отцовской лаборатории Василий Ломакин и привез с собой городскую отцовскую кровать с сеткой, чтобы отцу было удобнее лежать. На следующий день приехал университетский фельдшер Борисов, дежурить около Алексея Евграфовича по ночам.
Все трое приезжих скоро уехали назад в Петербург. Главный уход за отцом ложился, конечно, на мать. Я была еще глупа и не понимала всей серьезности болезни отца: я добросовестно дежурила около него днем, но это не мешало мне по-прежнему играть и болтать с Луизой.
Я уже писала, что в пустом доме Лангсеппа была открытая терраса, которую использовали в качестве сцены для любительских спектаклей: перед ней на лужайке ставили несколько рядов скамеек для зрителей. Комнаты, выходившие на террасу, служили кулисами. Только последние несколько лет в Безо появилось значительное число русских дачников, и количество их все возрастало. Стали приезжать преподаватели Гатчинского сиротского института, преподаватели средних и высших учебных заведений Петербурга. В Безо приезжали преимущественно семьи лиц, пользующихся летними трехмесячными каникулами, так как часто ездить в Безо и обратно было дорого и утомительно. Таким увеличением русского дачного населения были недовольны прежние основные дачники, немецкие семьи из Петербурга, Ревеля и других ближних городов. Русские дачники были, как всегда, более тароватые и часто более состоятельны, цены на дачи и на продукты несколько поднялись, что, конечно, не нравилось немцам. Но и кроме этого чувствовался известный антагонизм. Немцы держались особняком и лишь с трудом объединялись с русскими. Немецкая часть дачников ежегодно устраивала любительский спектакль на немецком языке и использовала для этой цели упомянутую террасу
Когда отец заболел, там как раз шли репетиции пьесы. Смотреть эти репетиции никого не пускали, но ребятам, в том числе и мне, все ведь надо знать, все интересно. Репетировали вечером. Мы с матерью поужинали, она ушла к отцу, а я, пользуясь своей безнадзорностью, отправилась смотреть репетицию, для чего залезла на наш забор, с которого прекрасно была видна освещенная терраса и все было хорошо слышно. Я так была увлечена спектаклем, что не слышала даже колокольчиков коляски, на которой приехала Мария Павловна, и увидала ее, когда она уже входила в калитку. Я побежала ей навстречу и стала ей рассказывать о спектакле, а не о том, что волновало ее, – о болезни отца.
Такое мое излишнее увлечение спектаклем можно объяснить тем, что меня лет до пятнадцати мать не пускала ни на какие вечерние спектакли, да и на дневные спектакли я ходила не чаще одного-двух раз в год. Не пускали меня вечером в театр потому, что матерью для меня был установлен регулярный образ жизни, в частности, я всегда ложилась спать около десяти часов, спектакли же кончались поздно, сообщения хорошего не было, пришлось бы очень поздно ложиться спать, а наутро рано вставать и идти в школу. Мать не забывала о том, что у нее туберкулез, и старалась оградить меня от него закаливанием и регулярным образом жизни. Но к школьным занятиям она относилась очень серьезно, без действительной болезни не оставляла меня дома, насморк и кашель не считался препятствием для посещения школы. Перед экзаменами я занималась целыми днями, посредине обязательно выходила погулять, а вечером ложилась спать в обычное время.
В начале болезни у отца в течение нескольких суток не прекращалась икота, что напугало мать и смутило врача, но потом она прошла, и болезнь пошла нормальным путем. Старичок-доктор каждый день навещал отца и, когда он начал поправляться, пускался с ним в длинные разговоры. Но в народе говорят: «Пришла беда – отворяй ворота». Через несколько дней после того, как заболел отец, Ольга Владимировна и мальчики уехали в Москву, получив телеграмму, что Андрей Евграфович заболел гнойным плевритом. Болезнь Андрея Евграфовича была серьезна, пришлось сделать операцию и выпускать гной из плевры.
Отец медленно поправлялся, происходило обновление организма: во рту и, очевидно, во внутренностях сменялись слизистые оболочки, благодаря чему вкусовые ощущения были значительно более интенсивными. Сходила кожа с рук и с ног; лежа на кровати, отец, чтобы занять себя, снимал с ног целые полосы и лоскутья омертвевшей кожи, а со всей пятки сразу снялась толстая, огрубевшая от хождения кожа толстым слоем. Отец долго хранил ее в виде курьеза.
Фото 22. Алексей Евграфович Фаворский после брюшного тифа. 1902 г.
Новая, нежная слизистая оболочка желудка и кишечника требовала бережного к себе отношения и легкой питательной пищи. В то время бывали случаи, когда выздоравливавшие после брюшного тифа больные умирали от грубой, несоответствующей пищи. Много было матери забот и хлопот с диетой отца. Был уже август, ягод уже не было таких, которые годились бы на кисель, составлявший необходимую часть меню Алексея Евграфовича. У наших хозяев росла только земляника, других ягод они не разводили, кроме красной смородины, но она была слишком кислая. Оказалось, что у нашего бывшего хозяина в саду есть еще черная смородина, и вот меня стали посылать за ней. Каждый раз я брала понемногу, чтобы варить кисель из свежих ягод; особенно тщательно процеживали сок, чтобы как-нибудь, упаси боже, не попало в кисель зернышко смородины: считалось, что это очень опасно. В конце августа Алексей Евграфович поправился настолько, что смог уехать в Петербург. После тифа месяца два не разрешалась умственная работа, да и пополнеть Алексею Евграфовичу было необходимо. У нас есть фотография, где он снят сразу после болезни, на ней он выглядит совсем старичком, так много у него морщин благодаря его худобе (фото 22).
Матери тоже нужно было отдохнуть и поправиться; Андрей Евграфович тоже нуждался в отдыхе и поправке после своего плеврита.
Решено было поехать всем вместе в Крым на виноград. Списались с Ярцевыми и поехали в Ялту.
Фото 23. Алексей Евграфович Фаворский,А. М. Жданов и шведский астроном. Стокгольм, 1901 г., конгресс памяти Абеля
Я очень огорчилась, что Боя пришлось оставить в квартире на попечение домработницы и Марии Павловны. Родители уже спускались по лестнице, а я задержалась в передней, чтобы в последний раз попрощаться с собакой.
Да, болезнь не красит человека! Таким ли был Алексей Евграфович год тому назад, когда он отправлялся вместе с А. М. Ждановым в Стокгольм на съезд математиков и астрономов, посвященный юбилею знаменитого шведского математика Абеля (фото 23). В то время Швеция и Норвегия были объединены в одно соединенное королевство, во главе которого стоял старый шведский король Оскар. Торжества носили всенародный характер. На открытии съезда, на торжественном заседании, на которое собрались ученые всего мира, присутствовал и король, производивший впечатление доступного и доброжелательного правителя. Алексей Евграфович и Жданов пробыли в Скандинавии около десяти дней, кроме Стокгольма побывали в Осло (тогда – Христиании). Оба города и местная природа очень понравились отцу. В Стокгольме они обедали в знаменитом в то время ресторане «Под оперой» (Opera cellar), где их угощали малиной со сбитыми сливками, в которых плавали кусочки льда. Приятели снялись там вдвоем, а затем Алексей Евграфович снялся отдельно, фотография очень удалась, впоследствии он отдал ее увеличить и подарил мне этот портрет на именины. Он висит теперь в нашей столовой. Несколько лет спустя какая-то немецкая фирма, занимающаяся распространением портретов известных ученых, обратилась к отцу с просьбой прислать его карточку для увеличения, он послал свою стокгольмскую фотографию и получил ее обратно и, за известную цену, несколько увеличенных портретов, которые у нас сохранились (фото 24).
Фото 24. Алексей Евграфович Фаворский
Отец привез мне национальный шведский костюм, который я потом носила, особенно пригодилась впоследствии юбка – синяя, суконная, с вшитым в нее полосатым шерстяным же передником. Он привез еще несколько пар красивых ножниц с художественный насечкой знаменитой шведской фабрики «Eskilstuna», а также столовые ножи и вилки. Последние тоже были красивы, но мы употребляли их только на больших приемах, так как они были тяжелы и очень плохо очищались. Отец остался очень доволен поездкой; на заседания, кроме торжественного, он, конечно, не ходил, но провел время очень хорошо.
Поездка в Крым не была, конечно, такой интересной, но она была необходима и принесла отцу и дяде большую пользу, они вернулись домой совершенно здоровыми и смогли приступить к работе. Я по-прежнему ходила каждый день в знакомую лавочку за виноградом; первое время наши больные больше сидели дома, но по мере того, как силы их прибывали, мы стали делать прогулки в окрестности Ялты, ездили в Ливадию, в Массандру и Ореанду, в Алупку. В Гурзуф решили поехать на катере, море было относительно спокойно, но все же мать и Ольга Владимировна не вынесли небольшой и кратковременной качки, их обеих укачало, так что, когда мы туда прибыли, мы должны были оставить их отлеживаться и втроем пошли гулять. Обратно мы поехали уже на лошадях. Ярцевы встретили нас как старых друзей, я опять общалась с Олей и другими девочками, хотя все они много времени проводили в гимназии, дома оставалась одна только Ася. Быстро промелькнули полтора месяца, больные поправились, мать тоже отдохнула после тяжелого лета (фото 25). Поленовы уже вернулись в город и ждали только меня, чтобы начать занятия. Мужчин уже влекла к себе работа, я мечтала о встрече с подругами, о школе, о собаке. Распростившись с гостеприимными хозяевами, поправившиеся и отдохнувшие, мы все вместе отправились по домам.
Сразу же по приезде начались занятия в школе, уроки с Маргаритой, с мадемуазель Адель, музыка. В этом году школа наша опять помещалась в новом помещении, на этот раз у Коноваловых, в той большой комнате, где жили девочки. Комната была очень большая, по стенам стояли кровати девочек, посреди комнаты была устроена деревянная горка, с нее по полированным доскам можно было скатываться на пол, покрытый линолеумом, и по нему еще дальше вперед. Свободного места там было много, и наши парты не надо было двигать с места. Занимались мы по-прежнему охотно и с интересом. Мы начали изучать историю Греции и ей увлеклись.
Фото 25. Андрей и Алексей Фаворские с женами в Ялте. 1902 г.
Липе пришлось пережить в этом году первое горе: умер дедушка И. Кузьминский, в имение которого они ездили каждое лето. Придя в этот день на занятия, мы застали Липу и ее сестер всех в слезах. Имение Лозоватка, в котором до этого времени Коноваловы проводили каждое лето, перешло к сестре Варвары Ивановны, ездить туда всей семьей на все лето стало неудобно, Дмитрий Петрович купил в тех же местах небольшое именьице Забаву и с тех пор проводил там с семьей каждое лето. Липа была в восторге от Забавы и расписывала нам прелести купания в Днепре, свой сад, виноградник, вечера в степи (фото 26).
Фото 26. Липа. 1909 г.
Этой зимой нам устроили на заднем дворе горку для катания на санках, поливали водой. Таня Поленова часто обходилась и без санок, каталась прямо на сиденье. Сама она была толстая, пальто было длинное, вся в снегу, она неуклюже взбиралась на горку и катилась вниз то сидя, то лежа на боку. Она постоянно расхваливала свое Павловское и Костромскую губернию, и ее прозвали «костромской медведицей». Мы редко ссорились с Липой, она была умная, спокойная, выдержанная девочка, но, когда это все-таки случалось, мы дразнили ее «Мазепой». Мазепа был презренный изменник, украинец, Липа жила в Екатеринославской губернии, было его землячкой. Она очень обижалась на это прозвище. У меня прозвища не было. Раза два я попробовала последовать Таниному примеру и покаталась без санок. Когда я в совершенно вымазанном пальто вернулась домой, мне так досталось, что я больше не пробовала кататься без санок.
Этой зимой стали поговаривать о том, что Н. А. Меншуткин и А. А. Волков переходят работать в вновь открытый Политехнический институт, что Алексей Евграфович будет заведовать кафедрой органической химии, и мы переедем в квартиру Н. А. Меншуткина, а Тищенко – в квартиру А. А. Волкова. Так все это и случилось. Весной Меншуткин и Волков уехали, их квартиры стали ремонтировать, и осенью мы переехали в ту квартиру, в которой живем в настоящее время. Тогда это номер был 33, потом стал 69. В освободившуюся нашу квартиру въехал Живоин Ильич Иоцич, в квартиру Тищенко – Здислав Антонович Погоржельский с женой Александрой Иосифовной, в бывшей квартире Красуских поселился Евгений Владиславович Бирон.
В апреле мы опять сдавали экзамены, теперь уже в третьем классе. Хуже всех сдала Нина, и Вера Ивановна решила отдать ее в гимназию. Так как считалось, что у нее малокровие и вообще слабое здоровье (хотя выглядела она ничуть не хуже нас с Липой), ее отдали не в гимназию Шаффе, где была расширенная, так называемая министерская программа, а в одну из казенных гимназий ведомства
Императрицы Марии, с более узкой программой, чтобы нетрудно было учиться. Мы не сожалели о разлуке с Ниной и тем более с Верой Ивановной. Для уроков русского языка была приглашена Мария Викентьевна (фамилию не помню). Преподавала она неплохо, но мы ее не особенно любили и называли Викешо. Естествознание стала преподавать Мария Федоровна. Настал май месяц, и мы уехали на дачу в наше любимое Безо.
Как я уже неоднократно говорила, отец очень любил природу: животных, птиц, цветы, всякие растения. Мы уже и раньше ходили с ним на рыбную ловлю, за грибами, воспитывали вместе птенчика. Этим летом мы занялись с ним вместе ботаникой: он купил определитель «Флора средней России» Маевского, достал большие листы фильтрованной бумаги, и мы начали с ним определять сначала более простые, а потом и более сложные цветковые растения. Сначала мы занимались этим вместе, потом, когда я приноровилась, он предоставлял мне самой определить и только спрашивал, как называется то или иное растение и помогал разбираться в наиболее сложных случаях. Я с большим удовольствием занималась составлением гербария, отыскивала все новые и новые растения. Гербаризировать я чаще всего ходила после обеда, родители в это время ложились отдохнуть, а я отправлялась или в луга, если они были еще не скошены, или в поля, где я ходила по цветущим межам или по берегу ручья, где собирала водяные или любящие влагу и тень растения. На берегу моря на голом песке я нашла растение с лиловыми цветами и была очень довольна.
Из сказанного мною можно сделать неверное заключение, что я на даче проводила время с Маргаритой, с Луизой, с отцом и совсем не уделяла время матери. Это совсем не так. Летом у нас с матерью была одно общее дело – варка варенья. Отец, смеясь, говорил, что у нее есть одна страсть – варить варенье! Действительно, несмотря на свое плохое здоровье, мать ежегодно наваривала летом около десяти пудов разного варенья, причем она следовала правилу, что варенье должно быть не только вкусным, но и красивым, поэтому для варенья отбирались всегда самые спелые, без всяких изъянов ягоды. Варенье варилось всегда на маленьком огне, чтобы ягоды не разварились, не потеряли своей формы. Крыжовник варился всегда без косточек, у черной смородины тщательно выстригались черные кончики. В Безо было раздолье в смысле ягод для варенья. Первой ягодой была земляника, каждый день Луиза приносила нам три штофа ягод, самые спелые шли на варенье, те, что похуже, – на еду. Благодаря различному времени созревания разных сортов, выращиваемых в хозяйском саду, земляника около месяца не сходила у нас с обеденного стола. Кроме садовой, была и лесная земляника, которую продавали обыкновенно эстонские ребятишки. Здесь бывал большой отход, так как на варенье шли только со всех сторон красные ягоды, все хотя бы слегка беловатые отбрасывали, так как от таких ягод варенье становилось горьковатым, кроме того, они дольше варились, и варенье приобретало коричневый цвет. Вскоре после появления земляники зеленщик привозил крыжовник – зеленый, без волосков, самый подходящий для варенья. Здесь требовалась быстрота в его чистке, так как, полежавши, он становился мягким. Почти в это же время начинали носить морошку, уже желтую, но еще не мягкую – спелая морошка разваливалась при варке на отдельные зернышки. Вслед за ней начали продавать лесную малину. Ее покупали с большим разбором и очень тщательно сортировали: самые лучшие ягоды – на варенье, спелые, но не совсем целые ягоды – на еду, еще похуже – на варенье для пирогов и, наконец, самые маленькие обрывки ягод – на смоквы. В Безо в лесах было много черники, голубики и брусники, из первых двух ягод пекли пироги, а чудную крупную красную бруснику обыкновенно покупали перед отъездом и в большой лучинной корзине отвозили в город, где уже варили из нее чайное варенье с яблоками и покислее для жаркого. Вишен в Безо не было, вишневое варенье варила в городе Мария Павловна, но обыкновенно в небольшом количестве. Варенья наварили столько, что в течение всего года каждый день к послеобеденному чаю подавали варенье, конфет покупали мало. Мне варенье надоедало, я для разнообразия предпочитала какое-нибудь испорченное варенье. Правда, такого почти никогда не бывало, разве что варки Марии Павловны. Или однажды родственница отца, которой он систематически помогал, старушка Малинина, жившая где-то в Нижегородской губернии, прислала ему банку варенья из лесной черной смородины, сваренной без сиропа. Взрослые его не стали есть, а я с удовольствием съела.
Из приведенного мною краткого описания видно, что работы с вареньем было столько, что хватало на целое лето. Варенье варилось всегда на открытой террасе, на примусе, в медном тазике для варенья. Матери трудно было одной справляться с вареньем, здоровье ее медленно, но постепенно ухудшалось, домработницам ни чистка ягод, ни тем более варка варенья не доверялась. Помощницами матери были я да приезжавшие летом Мария Павловна и С. А. Рукина. Чистить ягоды я научилась очень рано и давно уже могла помогать матери в этом ответственном деле. К варке варенья меня допустили гораздо позднее, сначала я училась встряхивать тазик так, чтобы пенки собирались вместе, потом я стала принимать участие в самой ответственной части процесса – в определении степени готовности варенья. Когда я возвращалась с купания, варка варенья уже была в полном разгаре и продолжалась до обеда. Больше всего работы было в июле, в июне была только одна земляника, в августе уже все ягоды кончались. На даче чай пили с конфетами только в июне, а потом уже подавали варенье.
Как перевозилось такое количество варенья? Банки с вареньем покрывали белой плотной бумагой, а сверху – тряпкой и тщательно завязывались веревкой, края бумаги и тряпки аккуратно обрезались. Затем приносились небольшие, банок на шесть, ящики, и отец упаковывал их, тщательно перекладывая банки стружками и сеном так, чтобы ни одна банка не шевельнулась. Заколоченный и завязанный ящик ждал, пока кто-нибудь из гостей поедет в Петербург. В благодарность за гостеприимство гость должен был доставить ящик с вареньем в петербургскую квартиру. Два-три ящика удавалось таким образом отправить, остальное везли сами, уезжая с дачи.
На даче распорядок дня был не такой, как в городе, вместо завтрака и обеда был обед и ужин. Утром пили кофе с кренделем, который пекли сами. Крендель сдобный, с изюмом, и его еще мазали маслом. Мать не принимала непосредственного участия в приготовлении обедов и ужинов и в печении кренделей, давала только руководящие указания. Иногда мы с ней делали коржики по рецепту, который она вывезла из поездки в Малороссию. Я растирала масло и яйца с сахаром, мать месила тесто, и мы с ней делали лепешки-коржики и относили на кухню для печенья. В плохую погоду мы с ней читали вслух, а в хорошую делали небольшие прогулки, причем я выбирала каждый раз новый маршрут и носила с собой складной стул. Домработницы у нас менялись довольно часто, приблизительно каждые два-три года, отцу надоедала их манера готовить, он начинал придираться, домработницу отпускали и нанимали новую.
Перед отъездом на дачу в этом году у нас как раз произошла такая смена, новая кухарка Анисия была уже немолодая, приятная женщина, охотно поехавшая с нами на дачу. Вскоре к нам приехал Н. А. Прилежаев, дачная жизнь пошла обычным путем, как вдруг Анисия получила письмо, что у нее в деревне заболела дочь, и уехала к ней, обещав вернуться, как только той станет лучше.
Что тут было делать? Выписывать новую домработницу не имело смысла, мать стряпать не могла, тогда Алексей Евграфич сказал, что он будет стряпать сам, а Полежаев будет у него кухонным мужиком. И действительно, они добросовестно проработали около двух недель, пока не вернулась Анисия. Алексей Евграфович стряпал очень хорошо, подходя к приготовлению того или иного блюда с точки зрения химика, и результаты были превосходны. Прилежаев носил ему дрова и воду, чистил картошку, мыл посуду и выполнял различные мелкие поручения.
Число знакомых, живших в Безо, с каждым годом увеличивалось. Тищенко и Фаворские больше не приезжали, но зато постоянными дачниками сделались Ганешины. Сестра Ольги Владимировны Фаворской, Лидия Владимировна, была замужем за преподавателем Технологического института Сергеем Александровичем Ганешиным, насколько я помню, он читал там курс товароведения. Семья у них была большая: две дочери, Ольга и Лидия, и три сына, Александр, Сергей и Дмитрий. Последний был крестником отца, ему в это время было около года. Лидия Владимировна была еще молодая веселая и милая женщина. Сергея Александровича я лично знала мало, он проводил лишь часть лета на даче, так как имел еще какую-то дополнительную работу, чтобы содержать такую большую семью.
Кроме этих старых знакомых, у нас завелись и новые дачные знакомые, в основном учителя Гатчинского сиротского института. Это были: учитель французского языка Иосиф Михайлович Генглез и его жена Виргиния Павловна, жившие в Безо с тремя своими сыновьями; Федор Федорович Штробиндер с женой Марией Ивановной и пятью дочерьми; историк Покровский с женой и их родственники Голубковы. По-прежнему жили в Безо Сапожниковы. Почти в каждом знакомом семействе летом было чье-нибудь рождение, или именины, или день свадьбы, в который созывались взрослые и детские гости, куда нас всегда приглашали и куда мы ходили с отцом или я ходила одна на чисто детские праздники. У нас летом не было никаких именин и других поводов для приема гостей, а так как мы у многих бывали, то надо было сделать ответное угощение. И вот тогда мы придумали созывать гостей 6 августа (19-го старого стиля). В этот день празднуется Преображение Господне на горе Фаворе, а так как наша фамилия произошла от названия этой горы и писалась раньше через фиту, то мы называли этот праздник нашим фамильным праздником и стали в это число устраивать угощение родным и знакомым.
Этим летом у нас с отцом появилось еще одно занятие: мы стали играть в теннис. Один предприимчивый господин устроил в Безо, в различных местах на подходящих лужайках теннисные площадки и сдавал их по часам. Отец купил хорошую английскую ракетку Handicap такой тяжести, чтобы она годилась и ему и мне, и мы начали играть. Раза три в неделю я уходила на теннис после обеда и играла до чая. Взрослые играли по вечерам (фото 27).
В конце августа мы вернулись в город и въехали в нашу теперешнюю квартиру. Чтобы омеблировать такую большую квартиру, отец купил новый буфет, новый большой обеденный стол и к нему двенадцать стульев. Отец получил теперь кафедру органической химиии большую лабораторию, но, ввиду того что наплыв студентов, желавших работать под его руководством, был очень большой, для практикума по органическому синтезу не хватало места, и вскоре стали устраивать для него отдельную лабораторию на нижнем этаже старого Физического института. Заведовать ею стал Ж. И. Иоцич, который положил много сил и труда при ее устройстве и оборудовании, всеми силами борясь с недобросовестностью подрядчиков, считавших, что казну не грабят только дураки. По этому поводу очень хорошо выразилась одна из домработниц, живших у Тищенко: «Что вы, барыня, последний это человек, который казенное добро жалеет».
Хотя отец уже читал курс органической химии в Технологическом институте с 1897 года и целый год уже читал такой же курс на Высших женских курсах, он тратил много времени на подготовку каждой лекции, и в дальнейшем он всегда накануне лекции просматривал старый и подбирал новый материал.
Фото 27. Безо. Компания теннисистов
Нина Каракаш поступила в гимназию, и нас осталось только трое, а так как мы были очень дружны, то занятия шли у нас хорошо, и мы занимались с большим удовольствием. В этом году занятия проходили в нашей квартире. Я уже писала, что после нашего переезда в новую квартиру была выстроена университетская столовая. Вот что нам рассказал по поводу этой столовой профессор Карл Карлович Баумгардт. До устройства этой столовой студентам приходилось питаться в плохой столовой на 10-й линии. Когда в Университет поступил сын княгини Юсуповой, он обратил на это внимание. Он был болен чахоткой и перед смертью завещал своей матери построить для студентов столовую около Университета. Мать выполнила его просьбу, столовая была выстроена, студенты стали получать хорошие дешевые обеды. Столовой заведовал выборный комитет. Но такое благополучие продолжалось недолго, деньги приходили к концу, столовая была накануне закрытия. Можно было бы, конечно, передать ее в казну, но в дарственном акте было сказано, что столовая не должна переходить в ведение государственного учреждения. Тогда один из членов комитета предложил: «Надо предложить Витте войти в состав комитета». Другие усомнились, что Витте согласится, но внесший предложение член комитета настаивал, говоря, что Витте сейчас не у дел и он охотно согласится. И действительно, Витте вошел в состав комитета и предложил передать столовую Министерству народного просвещения. Комитет протестовал, указывая на условия завещания, но Витте успокоил их, говоря: «Не беспокойтесь, все будет в порядке». Министерство согласилось и купило столовую, уплатив значительную сумму. В это время Витте опять пришел к власти и передал столовую опять комитету. Таким образом, столовая осталась за комитетом, а на деньги, полученные от Министерства, она могла существовать. Вот как власть имущие обращались с казенными деньгами! Я записала рассказ Карла Карловича, пока он свеж у меня в памяти.
Возвращаюсь к описанию наших занятий. С уходом Веры Ивановны на Марию Федоровну легла основная преподавательская работа, русский язык преподавала Мария Викентьевна, арифметику – Елена Ивановна, Закон Божий – Елизавета Евграфовна. Мария Федоровна вела занятия по русской древней истории, географии и естествознанию и геометрии, и вела очень хорошо! Этой осенью в Петербурге было довольно сильное наводнение, вода залила набережную и вошла в ворота Университета, но по двору не растеклась. По затопленным улицам местами разъезжали на лодках. Мы бегали к воротам на набережную, смотреть наводнение, потом нам пришлось об этом пожалеть. Мария Викентьевна пользовалась всяким удобным случаем, каждым мало-мальски интересным событием, чтобы задать нам на эту тему сочинение. А тут вдруг наводнение, которое мы сами наблюдали, – извольте, пожалуйста, его описать. По древней истории мы проходили историю Рима времен Юлия Цезаря, Антония, Октавиана Августа и очень ей увлеклись. Мария Федоровна даже достала билеты в театр на пьесу из этой эпохи, пьеса шла вечером, и меня на нее не пустили, Таня с Липой ходили и остались очень довольны, а я, конечно, расстраивалась. Ездили мы с Марией Федоровной смотреть Домик Петра Великого. В Петербурге было не много различных видов транспорта: конка, извозчики и пароходики Финляндского общества, ходившие по немногим определенным маршрутам. Мария Федоровна была женщина экономная, да нам на одном извозчике было и не поместиться, а ни конка, ни пароходики к домику Петра Великого не шли, поэтому она повезла нас туда на ялике, то есть на лодке. Против Университета, рядом с пароходной пристанью, всегда можно было нанять лодочника. Меня, конечно, никогда не возили на яликах, на такой утлой посудине переезжать широкую, глубокую Неву считалось опасным. Но Мария Федоровна заранее никому не сказала о том, на чем мы поедем, и мы с интересом и вполне благополучно пересекли Неву на ялике. По правде сказать, это был первый и последний раз, когда я ездила по Неве на лодке.
Ходили мы с ней в Зоологический музей, и в Эрмитаж, и в Петропавловский собор. Уроки музыки продолжались, успехи мои, правда, были невелики. Андрюша по-прежнему бывал у нас почти каждый день, но свободного времени у нас было теперь гораздо меньше. В этом году у меня прибавились еще занятия английским языком. Я говорила уже свободно по-французски и по-немецки, и теперь можно было начинать английский язык. Распорядок дня у меня теперь был следующий: с девяти до двенадцати – школьные уроки, в половине первого – завтрак, с двух до четырех – занятия языком по два раза в неделю каждым, два раза в неделю уроки музыки, в половине шестого обед, в семь – чай и после него приготовление уроков; в девять – вечерний чай, после него окончание уроков, если они не были закончены, в половине одиннадцатого ложились спать. Англичанка мне попалась очень удачная – Miss Violet Plincke (фото 28) – молодая, красивая, культурная, образованная. Отец ее, англичанин, служил в каком-то банкирском доме, две сестры ее тоже давали уроки. Мать у них давно умерла. В течение шести лет, что я у нее занималась, мы с ней подружились и полюбили друг друга. То же было у меня с Маргаритой, они стали как бы моими старшими подругами, в особенности с того времени, как я поступила в гимназию и стала заниматься с Маргаритой просто для практики разговорного языка. Они были совершенно разные, но имели одно общее качество – жажду знаний, стремление к высшему образованию. Маргарита кончила Peterschule, программа этого учебного заведения отличалась от гимназической программы, там преподавание шло на немецком языке, поэтому его выучивали, конечно, гораздо лучше, чем в казенной гимназии, но зато там не изучали ни алгебры, ни геометрии (в женском отделении школы). Благодаря такой программе Маргарита не могла поступить на Высшие женские курсы, а ее интересовали биологические науки, поэтому она стала готовиться на аттестат зрелости. Экзамены нужно было сдавать по всем предметам в объеме мужских гимназий в комиссии при учебном округе. Маргарита не побоялась, все время, свободное от уроков, она посвящала занятиям, но так как этого времени у нее было мало, то ей понадобилось несколько лет для того, чтобы подготовиться и сдать экзамен, после чего она поступила на физико-математический факультет на группу биологии, через год после того, как я поступила на курсы.
Фото 28. Miss Violet Plincke
Она была высокого роста, крепкого сложения, достаточно красива, с густыми и темными бровями и такими же темными косами, уложенными в прическу Движения ее были быстры и резки, она не была нежной и ласковой, но была способна на глубокую привязанность. Она сама не занималась политикой, но у нее были знакомые среди социал-демократов. Miss Violet была тоже красива, но в другом роде: у нее были большие светло-серые глаза и светлые волосы; она не одевалась по моде, имела свой собственный стиль. Во-первых, она носила короткие волосы, которые она завивала, так что прическа ее была похожа на современную, тогда же никто волос не стриг. Тогда все носили длинные, до пола, юбки, Miss Violet носила полукороткие юбки, примерно такой же длины, как носят сейчас. Блузки она всегда носила белые, из шелковой тафты. Тогдашняя тафта не была похожа на современную. Это чисто шелковая, слегка кремовая мягкая гладкая ткань. Рукава ее блузок были без обшлагов, кончались или рюшами, или оборочкой на резинке. Miss Violet училась тоже не в гимназии, она окончила частный пансион, где хорошо изучали языки, рисование, музыку, но где изучение арифметики ограничивалась четырьмя правилами и, конечно, не изучались ни алгебра, ни геометрия.
Интересы Miss Violet были совсем не те, что у Маргариты: ее интересовала литература, философия, а больше всего – история религии, греческая и римская мифология, античное искусство. Кроме Высших женских курсов, доступ на которые для нее был закрыт, в Петербурге были частные курсы Раева, на которых хорошо было поставлено преподавание как раз тех дисциплин, которые ее занимали. Никаких экзаменов для поступления на эти курсы не требовалось, и Miss Violet поступила на них года через три после того, как она стала давать мне уроки. Характер у нее был совсем другой, она была ласковая, нежная, немножко не от мира сего. Мы с ней привязались друг другу, летом мы с ней переписывались. Благодаря такому различию в моих наставницах, в их интересах, и темы разговора, которые мы вели, были различны, различны были книги, которые мы с ними читали.
Переселение наше в новую квартиру совпало с электрификацией нашего жилого корпуса. Первое время вид электрических настольных ламп резал глаза, мы привыкли, что у таких ламп в середине резервуар для керосина, а тут какая-то тоненькая ножка! Не помню точно, но приблизительно в это же время на улицах Петербурга появились первые легковые автомобили. Вид их совсем не походил на современные машины, кабины для шофера не было, спереди они заканчивались, как и прежние экипажи, только не хватало оглобель и лошади. Казалось очень странным, как это экипаж движется без лошади. Шоферам полагались шубы мехом наружу, так как они при езде обдувались ветром.
Фото 29. Здислав Антонович Погоржельский
В бывшей квартире Тищенко поселились Погоржельские. Здислав Антонович (29 фото) был типичный поляк, высокого роста, красивый, всегда подтянутый, вежливый, но в душе ни к кому хорошо не относившийся и любивший одного себя. Женат он был на Александре Иосифовне, тоже польке, как мне кажется с примесью еврейской крови. Здислав Антонович ничего не имел, кроме лаборантского жалования, у Александры Иосифовны были собственные довольно значительные средства, у нее была доля в каком-то «деле» в Варшаве. Она была прекрасная хозяйка, хорошо знала языки, тратила много денег на туалеты, квартира их была очень хорошо обставлена. Она считала себя красивой, у нее были очень хорошие рыжеватые волосы, но в лице у нее было что-то неприятное. Погоржельский был учеником отца, они стали бывать у нас, особенно часто приходила Александра Иосифовна, которая по годам подходила к Марии Павловне и они скоро подружились. У Марии Павловны была слабость хорошо одеваться, и Александра Иосифовна свела ее со своей хорошей, дорогой портнихой и у Марии Павловны стали появляться нарядные платья, непохожие на платья матери и мои. Она принимала участие в развлечениях и поездках в Иматру и другие места, которые организовывали Погоржельские. Александра Иосифовна часто приходила к нам по вечерам и не пропускала ни одного собрания гостей у нас, по какому бы поводу они не собирались, и даже тогда, когда ее не приглашали.
Здислав Антонович был библиотекарем Химического общества, тогда все должности по обществу бесплатно выполняли члены общества: библиотекарь – Погоржельский, казначей – Николай Николаевич Соковнин, тоже ученик отца, бывавший у нас по субботам, ученый секретарь – В. Е. Тищенко, в качестве его помощника были молодые члены общества. Редактором журнала Общества в течение ряда лет до 1900 года был Н. А. Меншуткин, а с его уходом Алексей Евграфович занимал этот пост до самой своей смерти, помощником у него был К. И. Дебу, а с 1917 года – Степан Николаевич Данилов, который после смерти Алексея Евграфовича заменил его на посту ответственного редактора «Журнала общей химии», как с 1930 года стал называться «Журнал Русского химического общества».
Знавшая хорошо французский и немецкий языки, Александра Иосифовна помогала Здиславу Антоновичу в его работе по библиотеке: в составлении картотек, переписывалась с заграничными корреспондентами, переводила ему необходимые для его научной работы статьи.
Наступил новый 1903 год. У нас появилась новая учительница русского языка Анастасия Ивановна Беляева. Мы от этого только выиграли. Анастасия Ивановна была прекрасным педагогом и очень хорошим человеком, мы ее очень полюбили. Она преподавала русский язык в народном училище, где-то на рабочей окраине, как будто в районе Путиловского завода. Она нам часто рассказывала о своих учениках и говорила, что ей гораздо больше нравится заниматься в училище, чем гимназии. В училище дети рабочих занимаются с таким интересом, так стремятся к знанию, а гимназисты сплошь и рядом относятся к учению безо всякого интереса и думают лишь о шалостях и о том, как бы досадить учителю. Идея нашей домашней школы ей очень понравилась, и она с удовольствием согласилась заниматься с нами. В конце Великого поста на Страстной неделе мы говели в Университетской церкви, она помещалась на третьем этаже, напротив актового зала. Она была небольшая, но очень светлая и чистая, пол был устлан коврами, впереди по бокам располагались два клироса, отделенные белой деревянной решеткой, к которым были прикреплены хоругви, две ступени амвона, за ними – золоченые царские врата, над ними – изображение Тайной вечери, перед которым всегда горит лампада.
С нами ходила всегда Мария Федоровна, Андрюша и мальчики Тищенко, достигшие соответствующего возраста. Первый раз мы шли в церковь в вербную субботу, каждый держал в руке пучок вербы. Посередине церкви стоял большой чан с вербами, после службы батюшка подходил к чану и наделял каждого из приходивших прихожан несколькими веточками вербы, предварительно кропил святой водой. Дома все эти вербочки ставились в банку с водой.
На следующий день, в Вербное воскресенье, мы ходили к обедне и ко всенощной. С понедельника начиналась говенье. Утром шли в церковь на часы. Священник в черной ризе читал великопостные молитвы. Для чтения молитвы святого Ефрема Сирина он выходил на середину церкви, все становились на колени, два или три раза во время чтения молитвы батюшка становился на колени. Во время службы три человека певчих выходили на середину церкви и пели длинную молитву, торжественно и грустно звучал ее напев. Служба была длинная, продолжалась около двух часов. Вечером к 7 часам шли ко всенощной, эта служба была короче, народу в церкви была немного, только говельщики, кроме подростков были и взрослые. Каждый год одновременно с нами говел Советов, а наши отцы не говели и никто из знакомых мужчин не бывал в это время в церкви. Во вторник были те же службы, в среду после часов мы исповедовались. Перед клиросом ставили маленький столик, диакон записывал на нем идущих к исповеди; часть клироса загораживали ширмой, там сидел батюшка и исповедовал. Вечером опять шли к вечерне, а в четверг утром шли к обедне причащаться.
К этому дню шили нам всем новые платья, мне шили или из белой кисеи на голубом шелковом чехле, или пикейное белое с голубым шелковым поясом. Настроение было торжественное, праздничное, обедня была длинная, приходили домой только к завтраку. Вечером шли слушать двенадцать Евангелий. Раньше, когда я еще не говела, мы с матерью зажигали лампадку перед небольшой старенькой иконой, которая висела у меня в детской, садились и читали двенадцать Евангелий – отрывки из всех четырех Евангелий, в которых говорится о страстях Христовых. Все берут с собой эти выдержки из Евангелий в церковь, стоят с зажженными свечами, священник читает очередной отрывок, а молящиеся следят по своим книжечкам. После службы выходят на улицу с зажженными свечами и стараются донести горящую свечку до дома, всячески охраняя маленький огонек от ветра. Дома этим огнем зажигали лампадку. В пятницу опять ходили утром и вечером в церковь, утром прикладывались к плащанице, изображавшей умершего Христа. Плащаницу всегда убирали живыми цветами. Вечером была очень красивая служба и крестный ход, это ходили «Христа хоронить».
На этом обыкновенно заканчивали говенье, в субботу утром уже не ходили в церковь. В пятницу вечером после церкви я обыкновенно помогала матери делать пасху: растирала масло добела, смешивала желтки с сахаром, ваниль – с сахарной пудрой, строгала миндаль. В субботу днем красила с отцом яйца. С этого года меня стали брать в церковь к заутрене. К заутрене ходили отец, Мария Павловна и я; мать не ходила в церковь, а домработницы (их теперь было у нас две – кухарка и горничная, так как такая большая квартира требовала много времени на ее уборку) оставались готовить праздничный стол для разговения, в церковь они шли к ранней обедне, когда мы возвращались.
Церковь была полна, когда мы приходили в начале двенадцатого, там было очень душно, мы стояли обыкновенно на площадке перед церковью, которая тоже наполнялась празднично одетым народом. Отец был в сюртуке и белом галстуке, я надевала сшитое к причастию платье, Мария Петровна тоже была нарядная. Все стояли со свечами, из церкви слышались возгласы священника и пение певчих, на площадке царила торжественная тишина. Наконец, минут за десять до двенадцати выходил из церкви крестный ход: шли священники, диаконы, певчие за ним несли хоругви, шел народ, все со свечами, на площадке становилось свободнее; мы не ходили с крестным ходом. Я с волнением ждала того момента, когда покажется возвращающийся крестный ход и все ближе и ближе слышно будет ликующее пение пасхального тропаря «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Закрытые в церковь двери открываются, священник останавливается около них и обращается к присутствующим: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе», – хором отвечают ему.
Шествие направляется в церковь, а на площадке начинают христосоваться. Из церкви доносится несмолкаемое пение торжественных и ликующих пасхальных напевов, на душе так хорошо и так радостно, испытываешь особенное, незабываемое чувство.
Служба кончается, одеваемся и идем домой, где нас ждет празднично одетая мать, приходят Тищенко, садимся за стол, все веселы, все довольны. За окнами темная безлунная пасхальная ночь, отчетливо видны пылающие факелы по углам крыши Исаакиевского собора. Так свежи, так искренни были переживаемые чувства, но прошло немного времени, и молодой пытливый ум своим беспощадным анализом навсегда разрушил детскую веру. Очарование Страстной недели и пасхальной ночи осталось в памяти светлым видением прошлого.