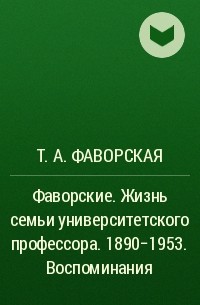Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
1.2. Мое детство. Главный человек – отец! Впервые в Европу… Наша жизнь в Петербурге и на отдыхе. Наши гости: родные и знакомые
Болезнь сына так потрясла Наталью Павловну, что роды начались у нее преждевременно, и уже 21 апреля (4 мая) она родила дочь, которую назвали Татьяной. Так как я родилась раньше времени, то была маленькая и худенькая, весила всего лишь два кило. На следующий день, 22 апреля, Гранюшка умер. Его похоронили на Волховом кладбище рядом с Евграфом и Максимом Андреевичами. О горе моих родителей не приходится и говорить, но жизнь не дает спокойно предаваться горю: нужно было работать, нужно было кончать диссертацию, а матери нужно было заботиться о новорожденной дочке. Молока у нее не было, пришлось взять кормилицу. Крестными моими были Вячеслав Евгеньевич Тищенко и Ольга Владимировна Фаворская, жена Андрея Евграфовича; они поженились в 1883 году и жили в Москве, где Андрей Евграфович работал помощником присяжного поверенного.
Ольга Владимировна была дочерью художника Владимира Осиповича Шервуда, художественные способности передались от него детям: Ольга Владимировна хорошо рисовала, а сын его, Леонид Владимирович, был известным скульптором (фото 11). После умершего маленького Евграфа у Андрея Евграфовича и Ольги Владимировны родилось еще двое сыновей: Владимир Андреевич, известный художник-гравер, и Максим Андреевич, ветеринарный врач. В год моего рождения Андрей Евграфович и Ольга Владимировна проводили лето с детьми в Пушкино под Москвой. Они пригласили моих родителей провести лето вместе с ними. Когда я подросла, я очень полюбила свою крестную. Ольга Владимировна по характеру несколько похожа на мою мать: добрая, мягкая, она была совсем непрактичная, то, что называют «не от мира сего». Говоря о них обеих, отец и Андрей Евграфович называли их почему-то странным названием «наши небесные курицы».
Фото 11. Ольга Владимировна Фаворская
Зима 189091 года была опять тяжелой для моих родителей: вследствие неправильной беременности мать должна была лечь в клинику Военно-медицинской академии, где ей делали серьезную операцию, после которой она очень плохо поправлялась. У нас в это время жила сестра моей матери, Мария Павловна, которая училась в Петербурге на бухгалтерских курсах. Весной отец снял дачу на берегу Волхова в районе Новой Ладоги. Мать перевезли туда, врачи рекомендовали ей солнечные ванны. Лето в тот год было исключительно жаркое, матери устроили на балконе солярий, и она за лето значительно окрепла, но, к большому огорчению и ее и отца, врачи объявили, что детей у них больше не будет. Таким образом, я росла единственным ребенком. Отец в это время с головой ушел в работу. Потеря любимого сына, болезнь жены сделали его более суровым и замкнутым. Магистерская диссертация на тему «По вопросу о механизме изомеризации в рядах непредельных углеводородов» была готова, и 15 (28) сентября 1891 года состоялась ее защита. Таким образом, Алексей Евграфович был вознагражден за свою настойчивость и терпение, он сразу выдвинулся из рядов своих товарищей, далеко опередив их.
Итак, с работой (и с научной, и с педагогической) все обстояло хорошо. Дома же не все было благополучно: Наталья Павловна чувствовала себя неважно, а я умудрилась где-то подцепить брюшной тиф. В то время никаких лекарств против этой болезни не существовало, приходилось терпеливо ждать, когда недуг кончится сам собой. Наталья Павловна, сама врач, следила за ходом болезни и позднее говорила мне, что у меня был классический брюшной тиф, протекавший точно по учебнику. Лечил меня и наблюдал за здоровьем матери старик-англичанин – доктор Дункан. Он был высокообразованный человек, очень интересовался химией и подолгу беседовал с Алексеем Евграфовичем о его работах. Раза два он приносил в подарок отцу бутылку старого английского портвейна.
Расходы в связи с болезнью жены и ребенка были большие, а лаборантское жалование было очень маленькое, поэтому и сам Алексей Евграфович, и многие его товарищи подрабатывали, делали различные анализы, используя для этого летние каникулы. Каникулы в Университете в то время продолжались три месяца – с июня по сентябрь, один месяц посвящали анализам, а два отдыхали. Дачи для семьи обычно снимали недалеко от города, и часть отдыха посвящали поездкам в город для работы. В 1892 году дача была снята неудачно. Ездить искать было некому, Алексей Евграфович снял ее по совету знакомых, которые прельстили его хорошей охотой. Когда же мы приехали на дачу, то оказалось, как говорил отец, что там все болото, болото, посреди болота плешь, и на этой плеши стоит наша дача. Лето было неважное, единственным развлечением отца были хождения за грибами с Марией Павловной. Возвращались они из этих походов мокрые до колен. К завершению удовольствия, в болотах водилось много змей. Однажды я играла на крыльце, няня стояла на улице, а взглянув на меня, она испустила дикий крик: на крыльцо не спеша вползала гадюка. Отец, бывший поблизости, вовремя подоспел с большой палкой и убил змею. Убитую змею он зарыл в большой муравейник и некоторое время спустя вытащил оттуда отличный скелет гадюки.
Вскоре после моего рождения отец получил новую квартиру на первом этаже главного здания Университета, в той половине его, которая обращена к Биржевой линии. Здания Физического института в то время еще не было, и днем в окна, выходившие в коридор, светило солнце. К одному из окон, выходивших в сад, из комнаты и из сада были приставлены низкие лесенки и, таким образом, из квартир можно было попадать прямо в сад. В это время получил там же квартиру и В. Е. Тищенко. Здоровье матери все не налаживалось: слабость после операции давно прошла, но зато появился кашель, и она стала временами температурить. Вот с этого времени постоянным помощником Натальи Павловны стал Петр Малафеев (лабораторный служитель Алексея Евграфовича). В химических лабораториях в то время не было уборщиц и вообще никакого женского обслуживающего персонала. Уборку лабораторий и всякую подсобную работу выполняли мужчины, которые назывались лабораторными служителями. Холостые служители или те, у которых семьи жили в деревне, жили в общежитии во дворе Университета (здание рядом с Физическим институтом). Большинство из них работало в лабораториях до самой старости. Хотя казенное жалование было невелико, многие из них прирабатывали, оказывая различные услуги профессорам и ассистентам.
Петр Малафеев каждое утро приносил свежие булки и хлеб к утреннему чаю. Алексей Евграфович обычно пил чай с московским калачом, утром завтрака горячего у нас не полагалось, а только пили чай или молоко с булками и маслом. Рано утром почтальон приносил всегда свежую газету, которую Алексей Евграфович читал за чаем. По своему здоровью матери трудно было ходить за покупками, и поэтому целый ряд закупок по ее поручениям делал Петр. Помню, как я примеряла черные башмачки на пуговицах, которые купил Петр; когда я начала кататься на лыжах, он же покупал мне валенки. Весной при переезде на дачу он нанимал извозчиков и перевозил вещи. Телефонов тогда не было, и за врачами ездил тоже Петр. Летом он присматривал за ремонтом квартиры и тому подобное. Петр Малафеев был небольшого роста, коренастый, с рыжими волосами и бородой. До поступления в лабораторию он отбывал воинскую повинность и ушел в запас бравым фельдфебелем. Когда отец возвращался с охоты, Петр чистил и смазывал его ружье, а когда зимой Алексей Евграфович привозил с охоты зайцев, Петр обдирал их, за что получал шкурку и переднюю часть зайца. За все эти услуги Петр получал ежемесячную плату. Петр любил маленьких детей, когда он приходил к нам после работы, то охотно играл со мной, я звала его Петей и любила с ним играть.
Лето 1893 года мы провели с семьей Тищенко в имении сестры Вячеслава Евгеньевича, Лидии Евгеньевны, бывшей замужем за помещиком Дейхманом. Имение их называлось Белое и было расположено в Витебской губернии, где-то около Себежа. Отца, как всегда, привлекла охота, а также дешевизна деревенской жизни. Ко времени жизни в Белом относится мое первое воспоминание об одном маленьком факте, о котором я помню сама, а не по рассказам взрослых. Я помню солнечный день, я сижу на траве на обочине полевой дороги, вдоль которой колышется ржаное поле, в нем так много васильков! Рядом со мной няня плетет мне из них венок.
Следующая зима была опять тяжелой для моих родителей, особенно для моей больной матери – я заболела дифтеритом. В то время еще не была изобретена сыворотка, и лекарств против этой болезни не было. Лечил меня доктор Дункан. Каждый приход его я встречала криками и плачем. Когда он смотрел на мое распухшее, покрытое пленками горло и вынимал ложечку, которой он придерживал мой язык, она всегда была в крови. Форма заболевания у меня была и на этот раз типичная. Доктор Дункан очень жалел меня и говорил: «Бедная девочка, борется с кокками». Когда мне стало лучше, осторожный доктор останавливал радость родителей и говорил, что до истечения шести недель с начала болезни все еще можно ожидать паралича сердца. Паралича не случилось, я поправилась, только в детстве и в юности у меня бывали частые ангины.
Алексей Евграфович, как я говорила, очень любил маленьких детей, и ему было очень тяжело смотреть на страдания любимого беспомощного существа. Когда мне бывало лучше, он старался развлекать меня, купил мне первые книжки. Хороших дешевых детских книжек для таких маленьких детей издавалось мало. У меня уже была одна книжка, которую мне подарила О. В. Фаворская, она называлась «Прочная книжка», в ней все страницы с хорошими рисунками и сказочками были наклеены на толстый картон. Она жила у меня в целости в течение нескольких лет, когда же я выросла, ее отдали моим двоюродным братьям Тищенко; не прошло и года, как от «Прочной книжки» остались одни лоскуты.
Алексей Евграфович купил мне одну или две небольшие книжки без переплета, в которых были собраны некоторые наиболее известные былины о русских богатырях. Когда я поправилась, я выучила эти книги наизусть, былинный язык мне, конечно, был малопонятен, и я перевирала трудные места. Например, то место, где «слетались на его чело хищные вороны», в моем изложении звучало «слетались на него челохичные вороны». Алексей Евграфович много смеялся над последней фразой, ловил меня, тискал и говорил: «Ах, ты моя, челохичная Титика!» (фото 12).
Фото 12. Татьяна Фаворская. 1895 г.
Несмотря на домашние огорчения и заботы, работа в лаборатории шла полным ходом, Алексей Евграфович заканчивал свою докторскую диссертацию. Вероятно, в связи с этим летом 1894 года мы никуда далеко не поехали, а проводили лето недалеко от Петербурга в деревне Лопухинки. Лето это было неудачное, отец отмечал каждый день погоду и насчитал за три месяца семьдесят шесть дождливых дней! На обратном пути в город мы, по-видимому, обедали в ресторане на вокзале, я первый раз была в таком учреждении, и мне показалось, что это какой-то дворец, меня поразили также блестящие никелированные вилки с четырьмя зубьями, дома у нас вилки были о трех зубьях с черными деревянными черенками. Плохо проведенное лето сказалось неблагоприятно на здоровье моей матери, всю последующую зиму она чувствовала себя плохо.
В 1894 году была закончена постройка здания новой химической лаборатории (теперешнее здание НИХИ). Помещения химических лабораторий в главном здании Университета уже давно не удовлетворяли ни по своему объему, ни по оборудованию возросших потребностей в связи с заметным увеличением числа студентов, желающих специализироваться на химии, и большим размахом научно-исследовательской работы (фото 13).
Фото 13. Закладка химической лаборатории
На первом этаже новой лаборатории помещались лаборатории неорганической химии и аналитической химии. На втором этаже – препаровочная, большая аудитория амфитеатром, занимавшая в высоту два этажа, библиотека Химического общества и лаборатория технической химии. На третьем этаже – большая химическая аудитория, над библиотекой – малая химическая аудитория и затем лаборатория органической химии. Помещения были высокие, светлые, в них вместо печного было устроено паровое отопление.
Жилой флигель с квартирами для профессоров и ассистентов был разделен на четыре этажа. На первом этаже были две квартиры для ассистентов, в них поселились справа от входа – Тищенко, слева – К. А. Красуский. На втором и третьем этажах были квартиры профессоров: на втором этаже жил Д. П. Коновалов, на третьем – Н. А. Меншуткин. На четвертом этаже опять было две квартиры: направо жили мы, налево – ассистент Меншуткина Алексей Алексеевич Волков. В подвальном этаже поселили лабораторных служителей: кочегара, швейцаров, гардеробщика; кроме того, там были кладовые и подсобные помещения. В подвале помещались водоструйные насосы, от которых шли свинцовые трубки в лабораторию органической химии, к ним присоединяли приборы для перегонки в вакууме; перегонять можно было на каждом рабочем столе.
В квартирах было печное отопление. Из каждой квартиры был выход на внутреннюю теплую лестницу, по которой в любое время можно было пройти в помещение лаборатории, не выходя на улицу. В нашей квартире было пять комнат: детская, спальня, столовая, кабинет, в пятой комнате почти всегда жил кто-нибудь из родственников: сестры матери или племянник Алексея Евграфовича Николай Александрович Прилежаев, сын Енафы Евграфовны. Родители его умерли, сам он окончил духовную семинарию и поступал в Университет. Раньше можно было по окончании семинарии поступать в любой Университет, а потом начальство решило, что в семинарии подготовка хуже, чем в гимназии, и разрешило семинаристам поступать только в Варшавский университет. В этот университет поступил и Н. А. Прилежаев, он работал там у Егора Егоровича Вагнера, по окончании университета он остался там ассистентом и часто приезжал к нам на зимние и весенние каникулы поработать в лаборатории Алексея Евграфовича и отдохнуть среди родных. Ванной комнаты в нашей квартире не было, отец ходил в баню, а для меня и для матери ставили на кухне большую железную крашеную ванну.
На парадной лестнице внизу, на площадке около квартиры Красуского, был устроен камин, который каждый день топил швейцар Василий Букинин. Рядом с камином стоял табурет, на котором он сидел, на его обязанности была уборка лестницы, которая всегда сверкала чистотой. На черной лестнице в стене были сделаны шкафы для провизии, у каждой квартиры дворники укладывали каждые три-четыре дня поленницу колотых дров. Все квартиры были казенные, и жильцы не платили ни за помещение, ни за дрова, ни за свет, платили только дворникам за колку дров.
Фото 14. Николай Александрович Меншуткин
Мы жили на четвертом этаже, а на одной площадке с нами жил А. А. Волков с семьей, детей у него не было, сам он был еще молодой человек, но с больным сердцем, он умер несколько лет спустя. Под нами жил Николай Александрович Меншуткин с женой и двумя сыновьями: Борис Николаевич учился в это время в Университете, младший был гимназистом (фото 14). Дети Меншуткина были мне совсем не интересны, а самого Меншуткина я боялась и не любила: он был очень важный, не позволял, чтобы над его квартирой бегали и прыгали. Как только я запрыгаю, меня сейчас же останавливают: «Тихо, тихо, Меншуткин будет браниться!» Зато на двух нижних этажах детей было достаточно. У Дмитрия Петровича (фото 15) и Варвары Ивановны Коноваловой, когда они приехали в эту квартиру, было пять человек детей. Это были четыре дочери: Елена, Олимпиада, Мария и Нина, самый младший был сын Николай, через год после переезда родилась еще одна дочка – Вера. На первом этаже у Тищенко в это время было трое сыновей: Андрей, Владимир и Николай, позднее родились еще два сына – Дмитрий и Евгений. Липа Коновалова и Андрюша Тищенко были моими друзьями и ровесниками, а вообще нас была большая компания ребят, которые вместе играли во дворе и в саду. В нашей прежней квартире в главном здании поселился геолог Борис Константинович Поленов с женой Марией Федоровной и двумя дочками – Натальей и Татьяной, последняя была на полтора года меня моложе, и мы с ней очень дружили.
Фото 15. Дмитрий Петрович Коновалов
В. Е. Тищенко в это время еще не защитил магистерской диссертации, средства его были ограниченны, а между тем каждые два года у них прибавлялось по сыну. Поэтому жили они скромно, специальной няни у них в то время не было, Елизавета Евграфовна справлялась с хозяйством и с детьми с помощью только помощницы, Вячеслав Евгеньевич целые дни проводил на работе. В квартире у них тоже было пять комнат.
С Меншуткиным и его семьей ни мы, ни Тищенко не были знакомы и не бывали друг у друга. С Коноваловыми мы бывали друг у друга на елках, на всяких детских праздниках. У них в квартире было восемь комнат, но такое помещение для них было мало, и им отдали еще одну очень большую комнату и одну маленькую. Варвара Ивановна была еще очень молодая и интересная женщина, она вышла замуж за Дмитрия Петровича пятнадцати с половиной лет в 1887 году, а в 1894 году у нее уже было четыре дочери и один сын. Несмотря на это, она выезжала в гости и устраивала приемы. Она была дочь богатого помещика Екатеринославской губернии, имела собственные значительные средства. У Дмитрия Петровича кроме профессорского жалования других средств не было.
Вернувшись домой из Лопухинки, отец много времени проводил дома, у себя в кабинете, писал свою докторскую диссертацию. Очень часто я потихоньку пробиралась в кабинет, садилась где-нибудь в уголке с тетрадкой на коленях и что-то усердно чирикала в ней. Это я «писала диссертацию». Когда мы переехали в новую квартиру, Алексею Евграфовичу пришлось покупать кое-что из мебели, чтобы ее обставить: он купил себе большой письменный стол, книжный шкаф, диван, по два мягких кресла и стула. Одно из этих кресел стояло потом около его письменного стола, и он проводил в нем почти все свое время, обдумывая результаты и планы работы. Алексей Евграфович не признавал никаких занавесок на окнах, говорил, что в них только разводится пыль; он очень любил комнатные растения, и у нас их всегда было очень много.
Я была единственной дочкой, родители меня очень любили, боялись меня потерять, но я не была центром внимания всего дома, кумиром, все желания которого выполняются в обязательном порядке. Главным человеком в доме был отец, на первом месте были его желания, его привычки, его удобства. Образ жизни, распорядок дня, устройство квартиры, меню обедов и завтраков, все устраивалось по его вкусу. Благодаря этому я не выросла балованной эгоисткой, этому же способствовало и разумное воспитание матери, которая с малых лет приучала меня к исполнению долга, учила всему доброму, хорошему. Причем лучше всяких наставлений и рассуждений действовал ее личный пример. Несмотря на развивавшуюся тяжелую болезнь, она всегда была спокойна, выдержанна, никогда не жаловалась и не причитала, всегда была занята. На меня она никогда не кричала, не шлепала меня. Она была со мной ласкова, но целовала редко, боясь передать мне свою болезнь, много читала мне вслух, пока я сама не научилась. Когда я хворала, она целые дни не отходила от моей постели, готовила мне какое-то необыкновенное прохладительное питье и подолгу читала.
Если Алексей Евграфович был недоволен матерью или мной, он не кричал и не бранился, а переставал разговаривать с ней или со мной на день-два, а иногда и на неделю. Такое его молчание было мне всегда очень тяжело и неприятно, мать тоже страдала от этого. Проснувшись утром, он любил, когда я прибегала к нему в постель, дурачился со мной, заставлял рассказывать ему сказки или говорить стихи. Родителей своих я очень любила, считала, что мама у меня самая хорошая, а папа всех умней, что он все знает лучше, чем все другие папы. С ним я всегда чувствовала себя в полной безопасности, с ним я ничего не боялась, он все может, от всего спасет.
Елизавета Евграфовна иначе обращалась со своими сыновьями: она и кричала на них, и наказывала, редко их ласкала, иногда высмеивала, когда они болели, она не сидела около них. Это, конечно, можно было понять, учитывая ее занятость. Но я, конечно, сравнивала свою мать с теткой и больше всего боялась, что вдруг мои мама и папа умрут и меня отдадут тете Лизе!
Зима близилась к концу, диссертация Алексея Евграфовича была написана и представлена к защите. Тридцати пяти лет Алексей Евграфович стал доктором. Научная работа его все ширилась, появлялись все новые ученики. Кроме Университета, он преподавал в 1891–1894 годах органическую химию в Михайловской артиллерийской академии и артиллерийском училище. В училище до него химия была в загоне, юнкера относились к ней спустя рукава. Когда же настало время экзаменов, Алексей Евграфович стал требовать от них настоящих знаний, а так как их не было, то он поставил двойки почти всему курсу. Юнкера подняли бунт: «Как, из-за какой-то органической химии получать двойки! Где это видано!» – и пошли с жалобой к директору. Директор был человек неглупый, он выслушал юнкеров, выслушал Алексея Евграфовича, понял, что последний совершенно прав и приказал всем в кратчайший срок ликвидировать двойки и впредь относиться к органической химии со всей серьезностью, так как для артиллериста эта наука является одной из важнейших. В следующие годы юнкера относились уже с подобающим уважением и к органической химии, и к самому Алексею Евграфовичу и двоек больше не получали. В Артиллерийской академии он приобрел учеников: Владимира Николаевича Ипатьева, Алексея Васильевича Сапожникова и Николая Михайловича Витторфа, которые впоследствии все были профессорами, а Ипатьев – академиком.
Путь от Университета до Артиллерийского училища и Академии, находившихся на Выборгской стороне, был не близкий, я помню, что в дни лекций отец вставал в семь часов, пил чай и уезжал. Он не пропускал этих занятий, даже когда был болен. Помню, что он ездил однажды на лекции больной ангиной, мы с матерью узнали об этом, только когда он поправился. В те времена он вообще не любил говорить о том, что ему нездоровится, и продолжал работать, не обращая внимания на болезни. В молодости я вспомнила такое поведение Алексея Евграфовича, оно мне очень импонировало, и я в этом отношении всегда старалась ему подражать.
Настало лето 1895 года. Здоровье матери настолько ухудшилось, что решено было везти ее за границу. Отец занял для этой поездки сто рублей у брата Андрея, и мы втроем поехали сначала в Берлин к Роберту Коху, чтобы окончательно установить болезнь матери. При исследовании ее мокроты были обнаружены туберкулезные палочки. По совету докторов отец повез Наталью Павловну в Швейцарию, недалеко от города Веве, в местечко Mont Signal. Из Берлина мы сначала проехали в Гейдельберг, где в то время училось и работало много русских студентов, а некоторые окончившие химики совершенствовали свои знания в Гейдельбергском университете, у известных немецких профессоров. В Гейдельберге мы пробыли дней десять в пансионе фрейлины Керн, у которой жили преимущественно русские. Несмотря на многолетнее пребывание русских под ее кровом, Керн никак не могла научиться русскому языку. Она была очень ласкова с матерью и со мной, и все поражалась, что такая маленькая девочка так хорошо говорит по-русски. В Берлине и Гейдельберге мы заходили в пивные, и отец давал мне пробовать пиво, которое мне очень понравилось. Сидя за столиком, отец заговорился со знакомыми, оглянулся, а меня рядом на стуле нет! Смотрит, а я хожу между столиками, улыбаюсь и приветливо раскланиваюсь с немцами.
Как уже говорилось, Алексей Евграфович плохо знал немецкий язык, особенно разговорный, химические книги он еще читал, а говорить или понимать разговорную речь ему было трудно. Из-за этого с ним случались курьезы и неприятности. Как-то пошел он в булочную за белым хлебом и вместо Weissbrod (белый хлеб) стал спрашивать Weissbett (белую кровать). В каком-то городе нам надо было пересаживаться с поезда на поезд; отец спросил, сколько времени остается до отхода поезда, – ему ответили: «Funfzein minute», то есть пятнадцать минут, а Алексей Евграфович услышал: «Funfzig minute», то есть пятьдесят минут и не спеша пошел с нами на нужную платформу. Идем мы, вдруг видим – наш носильщик бежит бегом с нашими вещами, вталкивает нас в вагон, вещи пришлось бросать уже на ходу.
В этом возрасте я была очень храбрая и общительная: в поездах я выходила из нашего купе, заходила в другие и заводила там знакомства. У меня с собой была книжка «Веселые рассказы» Буша, я ее почти всю знала наизусть, вот с этой книжкой я и переходила из одного купе в другое и показывала картинки новым знакомым. Долгое путешествие все же утомило не только мою мать, но и меня. Особенно утомительны бывают длительные остановки, проводимые в вагоне. Раз как-то поезд наш особенно долго стоял в каком-то городе, как будто во Франкфурте-на-Майне, я устала, мне все надоело, я стала капризничать и просить у отца купить мне куклу. Никакие уговоры не действовали, Алексей Евграфович махнул рукой и отправился в город. В незнакомом городе с его знанием немецкого языка быстро найти игрушечный магазин было очень трудно. В какой магазин попал отец, не знаю, только спустя некоторое время он вернулся в вагон и принес мне фарфоровую статуэтку – девочку в кружевной фарфоровой юбочке. Я успокоилась и играла такой неудобной куклой, и даже привезла ее в Россию, только юбочка немного обломалась.
Но вот мы и в Швейцарии, в отеле «Signal». Здесь все говорят по-французски, так что здесь уже свободно объяснялась мама. В первый же день по приезде со мной случилось приключение: я храбро вышла из отеля, прошла по двору и завернула за угол. Там был молодой лесок, я зашла в него и пошла по дорожке, оглянулась, а кругом деревья, дома не видно. Заблудилась! Я бросилась бежать со слезами и криком «Батюшки, спасите!». Выбежала на лужайку, на которой росла громадная липа, к ней были приставлены лестницы, и мужчины и женщины собирали липовый цвет, который во Франции и в Швейцарии заваривают и пьют в качестве потогонного. Работники увидали, что к ним бежит маленькая девочка, плачет и что-то кричит на незнакомом языке. Они окружили меня, стали успокаивать и подарили большую ветку цветущей липы. В этот момент подоспел отец, который издали услыхал, как я кричала: «Батюшки, спасите!» – и бросился мне на помощь.
Я живо освоилась в отеле и в саду и не скучала, так как мне нашлась хорошая подруга, русская девочка Оля Вернер, шести лет, приехавшая со своей матерью и тетей. Все звали ее не Олей, а Зайкой. Мать ее была полная, краснощекая, трудно было поверить, что она больна туберкулезом. Когда отец ей это сказал, она ему ответила: «Ничего-то вы не понимаете!» – и, как мы потом узнали, она умерла вскоре после возвращения в Россию. Зайка осталась круглой сиротой, и ее воспитала тетя. Мы с ней встретились лет через восемь и потом бывали друг у друга. Она окончила географический факультет Университета и работала на кафедре климатологии, где мы с ней вновь случайно встретились в начале 30-х годов и крупно поспорили из-за какой-то аудитории. Больше я ее не видала.
Но тогда, в Швейцарии, она была веселая, бойкая девочка, и мы с ней очень хорошо проводили время. Однажды мы с ней сильно провинились. В нашем отеле было много пансионеров – и больных, и здоровых, разных национальностей: немцев, французов, англичан. Был старик-англичанин, который не мог ходить, и его катали в кресле. Он, по-видимому, любил детей, всегда здоровался с нами, приветливо нам улыбался и иногда угощал нас конфеткой или шоколадом. Мы часто устраивались играть неподалеку от него и во время игры погладывали на него. Как-то утром после завтрака его повезли кататься, мы и раньше любили сопровождать его, побежали с ним, никому не сказав. Вернулись мы с этой прогулки только к обеду, никто не видел, что мы с ним ушли, родные наши переволновались, не могли понять, куда пропали девочки. Когда мы вернулись, нам здорово досталось.
Не знаю, насколько помогла моей матери Швейцария, во всяком случае, она стала чувствовать себя лучше. Когда пришло время возвращаться на родину, решено было, что отец один вернется в Петербург, а нас с матерью оставит погостить в Витебске, у гимназической ее подруги Е. И. Кузнецовой, по мужу Андреевой. В том году лето в Швейцарии было жаркое, но жара не была утомительной, так как почти каждую ночь шли дожди. Чтобы не повредить окрепшему здоровью матери резкой переменой климата, и решено было пожить нам в Витебске. Мне у Андреевых было очень весело: у них в то время было трое детей: Вера, которая была старше меня года на три, Павел, старше меня на год, и Глеб, мой ровесник. Позднее у них родилась еще одна девочка. Мальчики оба умерли, еще перед Первой мировой войной, а Вера Павловна жива до сих пор. Она окончила Высшие женские курсы по историко-филологическому факультету и много лет преподавала в Университете русский язык иностранцам и народам Севера, сейчас она на пенсии. О жизни в Витебске у меня осталось мало воспоминаний: помню, как мы гуляли по бульвару и собирали желтые и красные кленовые листья, которыми была усеяна дорожка. Помню еще, что у Андреевых была няня, которая рассказывала очень страшные сказки про разбойников. Как-то вечером Андреевы с матерью пошли к кому-то в гости, и я очень боялась, что без них на нас нападут разбойники.
Мы прожили в Витебске, должно быть, месяца полтора и вернулись домой. Я рада была вернуться к своим игрушкам и книжкам и к своим друзьям – Андрюше Тищенко и Тане Поленовой. Еще прошлой зимой мы с ними начали заниматься французским языком. Учительница француженка приходила к нам, к нам же приходили и Таня с Андрюшей. Начинались занятия, должно быть, часов в десять, кончались в двенадцать часов. Таня Поленова была здоровая, толстая, она еле выдерживала до двенадцати часов, начинала повторять: «Хочу домой, котлетку хочу».
Фото 16. Андрей Тищенко. 1895 г.
По приезде из Витебска занятия наши возобновились, к весне мы уже знали порядочно слов и пели хороводные песенки. В двенадцать часов за Таней приходили и уводили ее домой, а Андрюша обыкновенно оставался. Он приходил к нам почти каждый день и уходил домой уже вечером. Если он уходил раньше, я вцеплялась в его куртку и кричала: «Не уходи!» И я, и родители мои его очень любили, у него были очень оттопыренные уши, и отец звал его не по имени, а «Вислоухий». Он был тихий, спокойный мальчик (фото 16), добрый и справедливый, он никогда не участвовал ни в каких нехороших шалостях, я его считала гораздо лучше себя, тем более что и мать всегда ставила мне его в пример, я искренне огорчалась, что не могу быть такой хорошей, как он, – не слушаюсь, шалю, стараюсь скрыть свои проступки, как-нибудь вывернуться, а он всегда честно признается, если в чем-нибудь провинится. Мы с ним очень дружили, ему у нас было хорошо, дома братья были моложе, следующий за ним Володя был большой шалун (фото 17). Тетя Лиза была недовольна, что его так тянет к нам, дразнила его, называя «Фаворский сын», и доводила его до слез.
Фото 17. Андрей, Владимир, Николай и Дмитрий Тищенко. 1898 г.
Наступила весна, когда надо было думать, куда ехать летом. Врачи рекомендовали повезти мать куда-нибудь, где теплее. Старинные знакомые отца Митропольские ехали на Украину, или, как тогда говорили, в Малороссию, в Полтавскую губернию в город Гадяч, там они жили прошлым летом в слободе на берегу Псёла и собирались снова туда поехать. «Приезжайте, остановитесь у нас и поживите, пока не найдете себе помещение», – говорили они. Родители рискнули. Оказалось, однако, что найти подходящее помещение нелегко: в хатах комнаты низенькие, душные, а матери нужен свежий воздух. Наконец, нам указали на краю слободы большой рубленый дом с садом, хозяин которого переехал в город. И дом, и сад оказались хорошими, мы очень удобно устроились. Когда мы снимали дачу под Петербургом, мы возили с собой домработницу, сюда же мы ее не повезли, дорога была дорогая. К счастью, нам порекомендовали местную стряпуху Явдоху, которой мы остались очень довольны. Она жила у нас со своим пятилетним сыном Ванько.
У Митропольских мне не было подходящих товарищей, я об этом не жалела, мы с Ванько прекрасно проводили время. Мать сама не купалась, меня же она водила купаться на Псёл каждый день; с нами, конечно, бегал и Ванько. Он купался только до Ильина дня (20 июля старого стиля), хотя вода и после этого была еще очень теплая. Мы с ним играли или в саду, или во дворе, где упражнялись в прыгании с высокого помоста или играли с дворовой собакой. У нас было много знакомых слободских ребят, с которыми мы играли на широкой, поросшей травой улице слободы. Это лето мы провели хорошо. Погода была большей частью хорошая, но бывали и грозы.
Я запомнила одну грозу, которая случилась ночью: бушевал ветер, лил дождь, я проснулась и видела, что в комнате было светло от непрерывно следовавших одна за другой молний, беспрерывно раздавались страшные удары грома. Наутро со всех сторон слышались рассказы о поваленных деревьях и сорванных крышах.
Мы с матерью часто делали недалекие прогулки, я раньше никогда не видела такого изобилия шиповника различных цветов – розового, малинового, желтого, белого; мы сушили эти цветы в толстом французском словаре, но, к сожалению, цвет лепестков нам не удалось сохранить. Украина славится своими вишневыми садами, но нам не повезло, в это лето был неурожай вишен. Вообще же зелени и всяких продуктов там было изобилие, и Явдоха нас очень вкусно кормила. Между прочим, в большом ходу были жареные голуби, их продавали на базаре наравне с курами. Мясо у них очень нежное, немного сладковатое. К концу лета я стала понимать украинский язык благодаря постоянному общению со слободскими ребятишками. Вечерами мы часто слушали, как «спивали» девчата в слободе. Я-то, конечно, не понимала, но отец говорил, что у них у всех от природы поставленные голоса, во всяком случае, пели они очень хорошо задушевные украинские песни. С длинными лентами в косах, в вышитых рубашках и пестрых плахтах, они были очень живописны. Мать купила там плахту. Она долго служила у нас вместо коврика. Плахты эти очень красивы и очень прочны. Мы накупили также глиняных игрушек местного изготовления для подарков «тищенятам», как Алексей Евграфович называл своих племянников, и детям Андреевых, так как мы опять собирались заехать ненадолго в Витебск. В Витебске на этот раз мы прожили недолго.
Алексей Евграфович вернулся в Санкт-Петербург один, с 1 сентября 1896 года он стал профессором Университета по кафедре аналитической и технической химии. Вскоре и мы с матерью вернулись домой. Когда мы возвращались с дачи, нас всегда встречал Петр Малафеев. Для нас бывала уже приготовлена карета (извозчика не брали из-за боязни, чтобы мать не простудилась в открытом экипаже), а для багажа, которого всегда бывало много, Петр нанимал ломового и сам с ним приезжал во двор. Карета въезжала с набережной во двор, в конце двора отец высовывался из окошка и командовал: «Налево, а потом направо», – и мы подъезжали к нашему подъезду, я сразу же бежала в детскую, к своим игрушкам, которые казались особенно милыми и интересными после трехмесячной разлуки. Радостно было встретиться с петербургскими друзьями – Андрюшей и Таней, снова стали мы заниматься французским языком, играть и бегать во дворе и в Ботаническом саду.
Мама занималась хозяйством, руководила приготовлением обеда и завтрака, сама она не могла стоять у плиты, но давала точные указания кухарке. Алексей Евграфович любил хорошо покушать и был очень требователен относительно стола, поэтому у нас в семье больше обращалось внимания на еду, чем на одежду. Отец шил себе костюмы редко, носил их аккуратно. Гардероб у него был небогатый: костюм зимний, костюм летний, сюртук и брюки к нему. Фрак он сшил себе в 1887 году к свадьбе и больше, мне кажется, фрака и не шил. Носил он крахмальные рубашки со стоячим воротничком и черным галстуком бабочкой, белый галстук надевал только с сюртуком или фраком на Новый год, на Пасху или торжественные заседания. Летом он носил русские рубашки из сурового полотна, вышитые по подолу, вдоль ворота руками матери. Мне мать шила все сама – и белье, и платье, сама же шила белье и себе с отцом. Первого числа каждого месяца Алексей Евграфович давал матери определенную сумму денег на расходы, сюда включались и еда, и одежда, плата домработнице и за мои уроки. Дополнительная выдача денег производилось очень редко, в случае необходимости какой-нибудь крупной покупки.
Когда Наталья Павловна хорошо себя чувствовала, мы с ней ходили гулять или за покупками. В то время не принято было ходить с сумками или сетками, все покупки заворачивались, завязывались или с петелькой, или с деревянной круглой палочкой, чтобы удобней было нести. С плетеными из травы сумками или корзинками ходили только домработницы за провизией. Магазины, в которые мы с матерью ходили, почти все были расположены на 1-й линии Васильевского острова. Там был мануфактурный магазин Матвеева, где мы покупали все нужные нам материи, магазин Герша с аптекарскими товарами, магазин Балясова с писчебумажными товарами, гастрономический магазин Баскова и тому подобное. Деньги мать берегла, где можно экономила. Помню, она часто покупала к чаю печеную смесь, но не в коробке, а лом: вкус был тот же, вид был не такой красивый, зато оно было дешевле.
Отец много курил, он покупал табак и гильзы в магазине Асмолова на Невском и сам набивал себе папиросы. Собираясь на охоту, он набивал себе патроны; в одном из ящиков письменного стола у него хранился охотничий порох, дробь разных калибров, патроны и пыжи, там же лежали патронтаж и сетка для дичи.
Из-за болезни матери родители редко ходили в гости, но у нас гости бывали довольно часто. Многие приходили навещать Наталью Павловну, милый и кроткий характер которой привлекал к ней сердца многих знавших ее. К Алексею Евграфовичу приходили его товарищи, друзья его старшего брата Андрея Евграфовича, часто приезжали в столицу по делам московские родственники. Чаще других бывали Орест Нилыч и Елизавета Ивановна Петропавловские. Орест Нилыч был товарищ Андрея Евграфовича, который вместе с ним устраивал в Павлове артель кустарей. Затем Валентин Львович и Клара Андреевна Бианки, жившие в здании Академии наук, где Валентин Львович был сотрудником зоологического музея. Сам он постоянно ворчал и брюзжал, а жена его, немка родом, была милое и тихое существо. У них было трое сыновей: Лев, Анатолий и Виталий; первый был немного старше меня, остальные были меня моложе, все они бывали у нас на елках и детских праздниках. Виталий Валентинович стал потом известным писателем.
Часто бывала у нас Лидия Алексеевна Вуколова, жена товарища Алексея Евграфовича, иногда она приходила с дочкой Ольгой, года на два меня старше, мы с матерью тоже иногда у них бывали, у них было еще двое младших детей: Елизавета и Владимир, последний был крестником моей матери. Часто навещал нас морской врач Федор Васильевич Смирнов. В бытность свою врачом на судне, стоявшем на Кронштадском рейде, он свел знакомство с местными химиками, заинтересовался этой наукой, стал читать химическую литературу. Работы отца привлекли его внимание, он попросил разрешения поработать в лаборатории. При этом так увлекся, что проводил в лаборатории все свободное от службы время. Результатом явились две статьи, напечатанные в «Журнале Русского химического общества» в 1905 и 1906 годах. Он стал бывать у нас дома, стал нашим домашним врачом. Он очень хорошо относился к Алексею Евграфовичу и Наталье Павловне и был у нас дома своим человеком. На мои именины и дни рождения он дарил мне хорошие детские книги. Со всеми своим бедами мы обращались к нему: заболею ли я, надо ли устроить в больницу домработницу, нужно ли порекомендовать врача-специалиста. Федор Васильевич много плавал на военных кораблях, совершал и кругосветные путешествия, лично наблюдал угнетение порабощенных колонизаторами народов. Он был во владениях многих европейских народов и говорил, что самыми жестокими колонизаторами являются англичане. Сам он был в высшей степени гуманным человеком, сцены жестокости, которые приходилось ему наблюдать во время путешествий на суше и на корабле, глубоко возмущали его. К. М. Станюкович, очень его любивший, описал его в своем произведении «Вокруг света на “Коршуне”» под видом доктора Федора Васильевича. Глубоко образованный, веселый, остроумный, он был интересным собеседником и обаятельным человеком.
Из Москвы часто приезжал по делам в Петербург Андрей Викентьевич Адольф, женатый на Надежде Владимировне, сестре моей крестной, О. В. Фаворской. Он всегда привозил мне подарки, большей частью коробки с набором для какого-нибудь ручного труда: для плетения корзиночек из стружек, металлические формочки из проволоки для обматывания их окрашенной в разные цвета длинной шелковистой травой и тому подобное. Не могу сказать, чтобы я особенно была рада таким подаркам, так как никогда не была рукодельницей; готовые, приложенные для образца корзиночки я использовала в своих играх, а материал для дальнейшей работы оставался лежать нетронутым в коробках. Один раз Андрей Викентьевич привез две книжки: «Дружба с природой» Кайгородоваи «В царстве черных» Стенли, одну для меня, другую для Андрюши Тищенко. Мы решили с ним разыграть эти книги, и мне досталась книга «В царстве черных». Я помню, сначала была недовольна: обложка, на которой был отпечатан африканский материк и рядом с ним фигура негра, ничего мне не говорила, так как я еще не имела понятия о географии и сочла изображение Африки просто за орнамент. Впоследствии, однако, эта книга была одной из самых моих любимых книг; я так часто ее перечитывала, что до сих пор помню многие картинки и подписи к ним и некоторые фразы из нее, так же как и имена всех действующих лиц. Я очень жалела, когда впоследствии эту книгу зачитал один знакомый мальчик.
Иногда Андрей Викентьевич привозил мне подарки, которые присылала мне Ольга Владимировна, крестная. Иногда он передавал их через Андрея Евграфовича, который время от времени тоже приезжал в Петербург. Сама она тоже изредка навещала нас. Ее подарки бывали совсем другого рода: обычно она посылала материи мне на платья. В то время шелковые платья надевали только в театр или на большие вечера; детям вообще таких платьев не шили. У моей матери я не помню ни одного шелкового платья, у нее бывали только шелковые блузы, которые она носила по праздникам. Москва славилась своими хлопчатобумажными материями, и Ольга Владимировна присылала мне обыкновенно какие-нибудь нарядные красивые ткани для летних платьев, иногда вместо московских изделий она посылала заграничные ткани, чаще всего английские.
Довольно часто заходил к нам живший в Петербурге брат Ольги Владимировны, Леонид Владимирович Шервуд, никому еще не известный в то время скульптор. Жил он в то время очень бедно, как обычно жили в те времена начинающие художники; обыкновенно он приходил к обеду. Думаю, что отец оказывал ему и более существенную помощь. Один раз во время его посещения произошел такой инцидент. Леонид, будучи еще молодым, любил возиться с детьми. Он поймал меня, взял за руки, и мы стали с ним кружиться по комнате все быстрее и быстрее. Не знаю, как это случилось: хотел он меня бросить с размаху на диван или просто мои руки выскользнули у него из рук, – только я с размаху упала на пол и стукнулась головой так сильно, что потеряла сознание. Очнулась я на диване, все хлопотали около меня, по лицу у меня текла холодная вода, на голове лежала мокрая холодная тряпка. Леонид Владимирович был страшно смущен и расстроен. К счастью, падение мое не имело никаких последствий, только потом я долго не соглашалась, когда мне предлагали кружиться.
Как я уже писала, я не была рукодельницей, не любила ни шить, ни вышивать, и так за всю жизнь этому не научилась. Зато очень охотно я помогала матери в предпраздничной уборке. Каждый год к Рождеству и Пасхе производилась уборка квартиры, ее убирали еще раз в августе перед нашим возвращением с дачи, но этой уборки я не видела. Зимой же и весной я наблюдала весь процесс уборки: для этой цели приглашали поденщицу, которой помогала наша домработница. Все столы и шкафы в комнатах покрывали простынями, на половую щетку навязывали тряпку и обметали все потолки, потом мыли окна, двери, печки, полы. Полы мыли только крашеные, для уборки паркетных полов ходили полотеры, которые раз в месяц натирали полы с мастикой, а каждую неделю – без мастики. Медные ручки у дверей и печек и листы перед печками натирали до блеска, натирали также медную плевательницу – медный тазик с песком, который стоял в углу кабинета отца, хотя я никогда не замечала, чтобы отец или кто-либо туда плевал, но очевидно, тогда полагалось иметь в квартире такой предмет.
Перед тем как натирать полы перед праздником, мы с матерью занимались тем, что мыли цветы: на пол в столовой расстилали газеты, на табуретки ставили тазы с теплой водой, мы вооружались маленькими губками и тщательно протирали каждый листок каждого цветка. Кроме мытья цветов мы еще чистили серебро: зубным порошком мы протирали серебряные ризы у икон и серебряные столовые и чайные ложки.
Отец иногда брал меня с собой в лабораторию: дверь нашей кухни выходила на внутреннюю теплую лестницу, по ней мы проходили в препаровочную, затем в полутемную большую аудиторию, освещенную через большие окна светом дугового фонаря, горевшего во дворе и, наконец, попадали в лабораторию. Как только открывалась туда дверь, мне бросался в нос запах различных органических веществ, казавшийся мне необыкновенно приятным. В 1896 году Алексей Евграфович стал профессором кафедры аналитической и технической химии и в 1896/97 учебном году читал уже соответствующий курс лекций.
Летом 1897 года по чьей-то рекомендации мы поехали в имение одной обедневшей помещицы в Орловскую губернию, которая брала нас на полный пансион. Жили мы на втором этаже большого помещичьего дома, питаться спускались на первый этаж, на большую террасу. Я провела это лето очень хорошо, у меня опять был очень хороший товарищ, внук нашей хозяйки Юшик (Юрий), очень милый пятилетний мальчик. С Юшиком мы жили душа в душу, он называл меня Танечкой и говорил мне «вы» и не соглашался говорить иначе. С утра мы убегали с ним в сад; кроме небольшого цветника перед домом, остальной сад был запущен, бродя с ним по тенистым аллеям, мы собирали с ним прямые палки, валявшиеся в траве. У меня был небольшой перочинный ножик, этим самым ножиком мы с Юшиком стругали наши палки, освобождая их от сучков. Это были наши лошадки, на которых мы потом целыми днями разъезжали. У каждой лошадки был свое имя, у каждого из нас была своя конюшня.
Хотя имение и было запущено, в нем все же велось хозяйство, был птичий и скотный двор и конюшня с рабочими и выездными лошадьми и каретный сарай с экипажами. Самая быстрая лошадь была рыжая с белой отметиной на лбу. В имении был и запущенный фруктовый сад, в котором росли старые вишневые деревья. Лето было очень жаркое и сухое, когда вишни поспели, их долго не собирали из-за недостатка рабочих рук, и они буквально пеклись на солнце. Нам с Юшиком было разрешено залезать на деревья и рвать вишни, что мы с увлечением делали.
По территории имения протекала река довольно широкая и глубокая, которую там все звали Неруч. Мы с Юшиком ходили купаться и весело плескались на мелководье у берега. Часто с нами ходил купаться отец, иногда он брал меня с собой: сажал меня к себе на спину и плавал по глубоким местам. Кроме купания, река доставляло другое удовольствие – ужение рыбы. Отец, как известно, был заядлый рыболов и с детства приохотил меня к этому виду спорта. Он сделал нам с Юшиком маленькие удочки, и мы вместе терпеливо следили за поплавком и таскали маленьких окуньков и плотвичек, отцу попадались и более крупные экземпляры.
Отец стремился сделать из меня товарища по своим прогулкам и всяким занятиям и с малых лет брал меня на купанье, на ловлю рыбы, а летом 1897 года мы с ним занялись энтомологией. Дело в том, что В. Л. Бианки занимался изучением лесных клопов и просил Алексея Евграфовича собрать ему коллекцию клопов, живущих в Орловской губернии, и вот мы с ним осматривали все деревья, кустарники и травы и собрали за лето богатый урожай этих насекомых. Приближался конец августа, надо было собираться домой. Юшик очень огорчился моим отъездом. Сквозь слезы он спрашивал меня: «Танечка, а вы лошадок своих с собой возьмете?» – и немного утешился, когда я сказала, что всех лошадок оставлю ему.