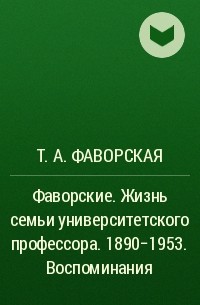Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 1. Территории детства: папиного и моего (1890–1908)
1.1. Род Фаворских. Отец, его детство, родители и семья. Учеба в Санкт-Петербургском университете
Отец мой, Алексей Евграфович Фаворский, родился 20 февраля (4 марта) 1860 года в селе Павлове Нижегородской губернии, ныне город Павлово. Отец его, Евграф Андреевич Фаворский, был благочинным села Павлова, настоятелем Троицкого собора, главной церкви этого села. Женат он был на Марии Григорьевне Добронравовой. Ни фотографии, ни портрета Марии Григорьевны не сохранилось, но, по словам Алексея Евграфовича, она была красива. Особой близости с матерью у него не было, характер у нее был довольно тяжелый, резкий и частенько сварливый, особой ласки и нежности к детям она не проявляла. Отца своего Алексей Евграфович горячо любил и уважал. Это был спокойный, выдержанный, справедливый человек, строго исполнявший свой долг. Он был любим и уважаем своими прихожанами. В любую погоду зимой и летом по первому зову ехал он иногда в довольно отдаленные деревни, входившие в состав его прихода. Общаясь с прихожанами, он не только проповедовал им слово Божье, но и беседовал с ними об их делах и нуждах, любил слушать народные песни и былины, записывал их. Некоторые из этих былин он послал в Академию наук, за что и получил от нее «признательность».
Евграф Андреевич оставил после себя небольшую памятную книжку, в которой были записаны краткие биографические сведения обо всех его родных, начиная с деда, Федота Михайловича Епифанова, жившего с 1748 по 1807 год. Отец Евграфа, Андрей Федотович, тоже носил фамилию Епифанова, а самому Евграфу и брату его, Максиму, при поступлении их в духовное училище была дана фамилия Фаворских, которая и перешла к потомкам.
Предки моего отца были священниками, обучались сначала в духовном училище, а затем в семинарии. Первым членом семьи, изменившим духовному поприщу, был дядя его – Максим Андреевич, профессор Медико-хирургической академии в Петербурге. Евграф Андреевич довольно подробно описывает в своей памятной книжке жизненный путь своего знаменитого брата. Максим Андреевич был старше его на пятнадцать лет, жил с 1806 по 1867 год, тоже обучался в духовном училище и в семинарии. Но в священники не пошел, а поступил в Московский университет на медицинский факультет, окончив который работал сначала в московском Лефортовском госпитале, а потом перешел в петербургский Артиллерийский госпиталь. У него с детства в результате сильной простуды болели ноги, а после сделанной ему операции он остался хромым на всю жизнь. В петербургском климате болезнь его – ревматизм – значительно ухудшилась, и Максим Андреевич отправился лечиться на минеральные воды в Аахен. Лечение ему помогло, но, боясь возобновления болезни, Максим Андреевич не торопился возвращаться на родину, а отправился в Париж, где провел несколько лет, в том числе и «исторический 48-й год», как пишет Евграф Андреевич. В Париже пополнял свое медицинское образование, слушал лекции лучших профессоров.
Вернувшись на родину, он решил держать экзамен на степень доктора медицины и хирургии. Чтобы иметь достаточно времени для подготовки к экзамену и написания диссертации, Максим Андреевич не поступил на государственную службу, а принял предложение нескольких донских помещиков, в том числе генерала Отечественной войны 1812 года Иловайского, об устройстве в их имениях больниц и обучении для них фельдшеров. Устроив больницы, обучив фельдшеров и написав диссертацию, Максим Андреевич вернулся в Петербург, сдал экзамен, защитил диссертацию и получил искомую степень. Став профессором оперативной хирургии Петербургской медико-хирургической академии, он продолжил углублять и совершенствовать свои знания и с этой целью ездил в каникулярное время в Берлин, Вену, Лондон. Скончался он от удара шестьдесят одного года от роду. Максим Андреевич не был женат и завещал свои сбережения брату, для того чтобы все дети могли получить образование. Похоронен он на Волковом кладбище. В одной ограде с Максимом Андреевичем похоронен и Евграф Андреевич. В 1876 году он приехал из Павлова в Петербург показаться врачам, но здесь и умер.
Фото 1. Андрей Евграфович Фаворский
У Евграфа Андреевича было десять человек детей, из них предпоследним был мой отец. Старший сын – Андрей Евграфович – был на семнадцать лет старше Алексея Евграфовича (фото 1). В памятной книжке есть запись: «1843 года Декабря 10 дня в день моего Ангела, в час по полуночи родился первенец мой, нареченный в память незабвенного моего родителя Андреем». Окончив духовное училище, Андрей Евграфович поступил в Нижегородскую семинарию, но был исключен из богословского класса и стал гимназистом. По окончании гимназии поступил на юридический факультет Казанского университета, а потом перевелся в Петербургский университет тоже на юридический. Во время учения в Университете Андрей Евграфович жил на средства, которые посылал ему дядя, Максим Андреевич.
Фото 2. Антонин Евграфович Фаворский
Фото 3. Александр Евграфович Фаворский
Родившаяся после Андрея дочь Евпраксия умерла в младенчестве, после нее родилась дочь Енафа, а затем два сына: Антонин (фото 2) и Александр (фото 3). Енафа Евграфовна впоследствии вышла замуж за священника Александра Михайловича Прилежаева. Антонин Евграфович тоже вышел из духовного звания и был учителем в уездном училище в городе Сергаче. Александр Евграфович по окончании семинарии поступил в Медико-хирургическую академию, во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов студентом пятого курса был послан на фронт и погиб там от тифа.
Родившегося после Александра сына родители назвали Аркадием, ребенок вскоре умер, а когда родился еще один сын, его опять назвали Аркадием. И этот Аркадий прожил немного более года. После этого родился еще один мальчик, опять был назван Аркадием и опять умер через полтора года. Когда после третьего Аркадия родился еще один сын, родители опять хотели назвать его Аркадием, но тут взмолился сын Александр: «Не называйте его Аркадием, а то он опять умрет!». Родители послушались и назвали мальчика Алексеем. Через три года после этого родилась последняя дочь – Елизавета.
Фото 4. Дом в Павлово
Несмотря на большую семью, Мария Григорьевна управлялась с хозяйством одна, только изредка на помощь приглашалась старуха-нянька Петровна. На более длительное время ее приглашали после рождения детей. Целый день топчется старушка по хозяйству, устанет, а вечером младшие ребята просят: «Няня, расскажи сказку». Рассказывает няня сказку, а у самой глаза слипаются, и вдруг вместо сказки раздается легкий храп. Только две сказки Петровны запомнил Алексей Евграфович – «Сказку про Фитюлюшку-батюшку» и про «Лукшу и Першу» – и потом изредка рассказывал их мне.
Дом, в котором родился и вырос мой отец (фото 4) – бревенчатый, темный, двухэтажный, самой простой постройки, стоял на высоком берегу Оки, на круче. От дома Евграфа Андреевича шла довольно крутая дорога вниз к мосту через речку Тарку. По этой дороге зимой ребятишки катались на санках и на самодельных лыжах, это называлось «кататься от попа Евграфа». Около дома был небольшой сад и огород с самыми простыми овощами. В саду рос огромный вяз, а под его тенью была устроена небольшая дерновая скамья.
Уклад домашней жизни в семье Евграфа Андреевича был установлен раз и навсегда: строгое соблюдение постов, строго определенное время для обеда и ужина, за которыми должна была собираться вся семья. Когда дети подрастали, они должны были посещать церковные службы, мальчики пели при этом на клиросе. Посты соблюдали не только взрослые, но и дети. Самый тяжелый был великий пост, продолжавшийся семь недель, он был и самый строгий: за все семь недель только дважды было «разрешение вина и елея» (то есть масла). Еду составляли хлеб, квас, капуста, огурцы – ни молочного, ни рыбного не давали. Еду наливали в большую чашку и все по очереди опускали в нее свои ложки. Первым начинал есть глава семьи, если кто-нибудь из детей нарушал порядок, отец ударял его ложкой по лбу. В скоромные дни варили щи или лапшу с мясом, перед началом обеда Евграф Андреевич вынимал мясо из чашки, крошил его и складывал обратно в чашку; во время еды он следил, чтобы всем доставалось поровну. Рыбу ели главным образом соленую, которую запасали осенью на всю зиму. В детстве все кажется вкусным неизбалованному ребенку. Алексей Евграфович любил вспоминать, как вкусно они ели, какая была в те времена жирная говядина, какие вкусные соленые судаки, какая рассыпчатая гречневая каша…
Так как три мальчика, три Аркадия, родившиеся перед Алексеем Евграфовичем, умерли один за другим, то у отца в своей семье не было сверстника. Дружнее всего он был с братом Александром, хотя тот был на семь лет старше. Каждый раз Алексей с нетерпением ждал приезда братьев из Нижнего Новгорода на каникулы. Однажды зимой, заслышав скрип подъезжающих саней, на которых приехали братья, он так крепко прижался лбом к оконному стеклу, желая поскорее увидеть приехавших, что раздавил стекло и глубоко порезал себе лоб над самым глазом. Чтобы остановить кровь и дезинфицировать рану, ему засыпали ее толченым углем, благодаря чему у него навсегда остался синеватый рубец, пересекавший бровь. Вообще, домашние лекарства, применявшиеся тогда, были довольно своеобразны. Ребятишки летом бегали босиком, и вот однажды Алексей бежал по мосту через Тарку и наткнулся большим пальцем на острый сук, торчавший из доски. Недолго думая, он приладил на место отворотившийся лоскут кожи, замотал тряпочкой и побежал бегать и играть. Дня через два он почувствовал, что что-то щекочет ему палец под тряпкой. Когда он развязал ее, то увидел, что в ране ползают червячки. Он страшно испугался и побежал домой. Там ему промыли рану керосином, завязали чистой тряпкой, и все быстро прошло.
Ближе всех по возрасту к Алексею Евграфовичу была его младшая сестра, Елизавета Евграфовна, разница между ними была три года, но дружбы между ними не было. Отец предпочитал играть с мальчишками и лишь изредка снисходил до игры с сестрой и ее подругами, эти попытки общения обычно заканчивались для него плачевно. Так, например, однажды, в начале лета, отец предложил сестре съездить на лодке за Оку за щавелем и диким луком, в изобилии росшими на заливном берегу реки. Ему в это время было лет семь, сестре и ее подружке – года по четыре. Отыскав чей-то ботник (плоскодонную лодку), он усадил гостей и довольно успешно переправил их на ту сторону. Наевшись вдоволь щавеля и луку и набрав их про запас, путешественники отправились в обратный путь. За время довольно длительной стоянки старый ботник дал течь; несмотря на это, Алексей усадил девочек на скамейку и принялся храбро грести. Вода постепенно прибывала, пассажирки подняли крик и плач; когда ботник наконец причалил к берегу, все были по пояс мокрыми. Все в слезах, девочки побежали к матерям жаловаться, после чего отца постигла заслуженная кара. Обычно столь же печально кончались и другие попытки игры с сестрой: начав играть, отец очень скоро начинал ее тормошить, дразнить, она бежала к матери жаловаться, а та спешила его наказать, во-первых, как старшего, а во-вторых, потому, что младшая дочка была ее любимицей. Последнее, впрочем, вполне понятно: старшая дочь Енафа была уже замужем и жила в соседнем селе Копосове, и с матерью оставалась лишь младшая девочка, а ведь младших обычно больше балуют; к тому же считалось, что Елизавета Евграфовна похожа на мать (фото 5).
В те времена основным населением села Павлово были кустари, изготовлявшие всевозможные ножи и ножницы. Сами они жили очень бедно, так как сдавали свою продукцию за бесценок скупщикам. Среди их многочисленных босоногих ребятишек и нашел мой отец друзей детства. С одним из них, Михаилом Ляпуновым, он переписывался в течение всей своей жизни. Под его влиянием «Мишак Ляпунов» стал учиться, кончил учительскую семинарию и был сельским учителем. Своим детям он тоже дал образование, дочери его были учительницами, а сын – доцентом Педагогического института в Горьком, приезжал позже в Ленинград с целью поступления в аспирантуру в Академию педагогических наук.
Фото 5. Алексей и Елизавета Фаворские в детстве
Босоногая команда была настолько многочисленна, что оказалось возможным разбить ее на две армии, во главе которых находились два «императора», одним из них был Алексей. Вооруженные деревянными копьями и мечами и луками со стрелами, они устраивали настоящие сражения, объявляли войны, заключали мирные договоры. Во время перемирий они устраивали совместные набеги на чужие сады. В Павлове почти при каждом доме был хотя бы небольшой сад, но в своем саду родители не позволяли зря рвать вишни и яблоки, да, кроме того, известно, что запретный плод сладок. Такие экспедиции не всегда кончались благополучно: в богатых садах часто бывали караульщики, да и сами хозяева берегли свои сады. Дождавшись, чтобы все воришки перелезли через забор, хозяин, запасшись большим пучком крапивы, принимался за охоту: поймав одного из них, он без церемоний спускал ему штаны, накладывал в них крапивы, застегивал их и отпускал, задав на прощание несколько увесистых шлепков. Однако такие неприятности не останавливали маленьких мародеров, их было много, всех не переловишь, а крупные черные горбатовские вишни сладкие, сочные яблоки так вкусны!
Но больше всего радости и развлечения доставляла летом река. Пока отец был маленький, ему разрешали купаться только в присутствии старших братьев. Но вот как-то за обедом родители узнали, что Алексей купался один. В ответ на грозные упреки, Алексей со слезами воскликнул: «Да ведь я умею плавать!» Все удивились, когда это он успел научиться, была составлена комиссия из старших братьев для проверки этого факта. Результаты проверки оказались благоприятными, на отца тогда махнули рукой, все равно его было не удержать, и он стал целыми днями пропадать на реке.
Весь берег Оки в Павлове был заставлен несколькими рядами плотов. Вот с этих-то плотов и происходило купанье, с них же удили рыбу. Сидит рыболов с удочкой, терпеливо следит за поплавком, а солнце печет, комары кусают голое тело. Нырнет тогда рыболов в реку, поплавает, сгонит всех комаров, выберется освеженный на плот – и опять за удочку. Впоследствии, когда отец вырос, укусы комаров на него совершенно не действовали, он объяснял это тем, что в детстве его так много кусали комары, что организм его выработал какое-то противоядие, и теперь ему никакой комар не страшен.
Как известно, рыба лучше всего клюет рано утром и на вечерней заре. Большой помехой вечернему уженью было обязательное посещение церковной службы, отец в этом отношении был неумолим – сыновья знали: как только раздадутся первые удары благовеста к вечерне, так сматывай удочки и беги в церковь. В один жаркий июльский вечер особенно хорошо клевали ерши. Но вот в тихом воздухе раздались первые удары колокола. Пора идти… «Подожду еще немножко, успею, уж очень хорошо клюет». В азарте удачной ловли Алексей не заметил, что колокол перестал звонить. Опоздал! Ну, теперь уж все равно наказания не избежать, торопиться некуда, можно еще поудить, и он удил до тех пор, пока совсем стемнело. Пробираясь в темноте по скользким бревнам плотов, он поскользнулся и упал в воду. Весь мокрый выбрался он на берег. Что теперь делать? Он не пришел в церковь, не пришел к ужину, весь вымок; в окнах темно, может быть уже легли спать и заперли дверь? Страшась наказания, голодный и мокрый, Алексей не решился идти домой, он прошел в сад, улегся на дерновую скамью, свернулся клубочком, чтобы немного согреться, и весь в слезах заснул.
Отец, конечно, заметил, что Алексея не было в церкви, сердитый пришел он домой, собирался как следует отчитать лентяя, но тот не явился и к ужину; стемнело, а его все нет и нет. Родители заволновались, послали к соседям узнать у ребят, где его последний раз видели. Узнав, что он удил на плотах, решили, что он упал в воду и утонул. Всю ночь не спали и плакали родные, а чуть свет решили собрать народ искать его тело, но вдруг смотрят – робко отворяется дверь и входит пропавший сын. «Алешенька!» – раздался общий радостный крик. Всеобщая радость была так велика, что Алексея так и не наказали.
Вообще же детей воспитывали строго, взыскивали за всякую вину. О больших провинностях докладывали отцу, и он чинил суд и расправу: или задавал виновному порку, или читал ему нравоучение. Алексей Евграфович всегда предпочитал первое. Когда же отец начинал его отчитывать, увещевать, простые прочувствованные слова хорошего, справедливого человека глубоко проникали в душу мальчика. Алексей очень любил отца, и сознание, что он огорчил его, было ему тяжело.
Но мальчишки есть мальчишки, что только не взбредет им в голову за длинный летний день, который они проводят без всякого надзора на улице или на реке. Одна из их проделок могла окончиться очень плохо, но, к счастью, не имела никаких последствий. Каждый год в конце августа в Павлово приходили баржи из Астрахани и других городов Нижнего Поволжья, наполненные арбузами и дынями. Хоть они и были очень дешевы, детям редко удавалось ими лакомиться: матери были бережливы, и если покупали арбузы, то главным образом для того, чтобы солить их на зиму, а дыни вялили на солнце. Настал холерный год, бороться с этой болезнью по-настоящему еще не умели, но знали, что она передается через фрукты и всякую зелень. Власти распорядились запретить торговать с баржей арбузами; а баржи уже были нагружены и буксиры тащили их вверх по Волге и по Оке. Тогда вышло новое распоряжение: бросать весь груз арбузов и дынь в реку. Арбузы и дыни поплыли по рекам, некоторые прибивало течением к берегу, и они становились добычей мальчишек, но большая часть плыла по течению, и тут начиналась за ними охота.
Ребята уходили подальше от села, раздевались, входили в воду, подплывали к облюбованному арбузу или дыне и подталкивали их постепенно к берегу. В прибрежных кустах начинался пир; досыта наелись этим летом ребята запретными плодами, к счастью, это им благополучно сошло с рук.
Но не вечно лето. Наступает осень, дождь, грязь, сырость, босиком холодно, а до валенок еще далеко, кожаная обувь бережется для церкви. Приходится больше сидеть дома, придумывать себе занятия. Большим развлечением служили тогда Алексею Евграфовичу различные певчие птички, жившие у него в комнате. Тут были синички, снегири, зяблики, скворцы. Попадали они к нему различными путями: тут были выпавшие из гнезда птенчики, выросшие в доме и ставшие ручными, синичек он подкармливал, бросая разную еду через форточку на подоконник, они становились совсем ручными и сами залетали в дом через дверь или форточку. Для скворцов он уже ранней весной приделывал скворечники к старому вязу.
После смерти матери Марии Григорьевны, отец ее, Григорий Еремеевич Добронравов, поселился у дочери и прожил с ней и с зятем до самой смерти. У него был большой, толстый старый кот. Он был так стар и ленив, что совершенно не обращал внимания на птиц, свободно летавших по комнатам. По утрам, в солнечную погоду, кот любил лежать на полу, на который из окна светило солнце. Остальное время он проводил на печке. В феврале – марте больше бывает солнечных дней, и солнышко уже начинает пригревать. Раскинется кот, закроет глаза и нежится на солнце, а синичка тут как тут – дернет его за хвост и отлетит в сторону, а потом, расхрабрившись, сядет коту на спину, упрется ножками и давай таскать клочки шерсти из его широкой спины. Шерсть она таскала недаром: на большом фикусе она решила устроить себе гнездо. Любовь к птицам отец сохранил на всю жизнь, он хорошо их различал по голосу и по оперению, когда я была маленькой, у меня на окнах всегда стояли клетки с птицами, подаренные мне отцом.
Но и зимой не обходилось без шалостей и приключений. Старшая сестра отца, Енафа Евграфовна, была его крестной матерью. Она жила с мужем А. М. Прилежаевым в селе Колосове, в нескольких верстах от Павлова (фото 6). Отца как-то раз возили туда в гости, крестная ласково его принимала. И вот как-то зимой ему опять захотелось в Копосово, и так как никто их взрослых туда не собирался, он решил отправиться туда сам. Никому не сказавшись, после обеда он двинулся в путь. Он шел довольно долго, устал, стало темнеть; он сел отдохнуть в надежде, что кто-нибудь проедет мимо и подвезет его. Действительно, вскоре показалась лошадка с розвальнями, она тихонечко трусила рысцой, хозяин ее сидел закутавшись и дремал. Когда отец с криком «Дяденька, подвези!» бросился к саням, возница спросонья испугался, схватил кнут и давай настегивать лошадь, которая пустилась вскачь и вскоре исчезла из виду. Неудача совсем обескуражила отца; он устал, замерз, заливаясь слезами, уныло побрел дальше. Совсем стемнело, вспомнились волки, и стало страшно. Неизвестно чем бы кончилось его путешествие, если бы, к счастью, его не догнал А. М. Прилежаев, ездивший в Павлово и возвращавшийся домой. Он очень удивился и испугался, увидав Алешу: «Ты как сюда попал? Что здесь делаешь?» Алексей очень обрадовался неожиданной встрече, сразу повеселел и важно заявил: «Я к вам в гости иду». Александр Михайлович усадил гостя в сани, привез в Копосово, отогрел, накормил и сейчас же повез его обратно, как ни хотелось отцу погостить подольше у крестной. Александр Михайлович легко себе представил тот переполох, который царил в доме у тестя, когда обнаружилась пропажа Алеши.
Фото 6. Енафа Евграфовна
Но вот незаметно промелькнуло счастливое детство, пора приниматься за учение. Самое начальное обучение происходило у Алексея своеобразно: его отдали учиться к «черничкам». Это были две сестры, пожилые девушки, ходившие всегда в черном, хорошо знавшие Священное Писание и церковнославянскую грамоту. За неимением в селе начальных школ родители, желавшие обучать своих детей грамоте, прибегали к помощи черничек. Каждое утро бежал Алеша на другой конец Павлова на уроки. Начали с букваря; каждая буква называлась по-славянски, а за ее названием следовало несколько слов, начинавшихся с этой же буквы. Все это нужно было учить наизусть. Вот начало этого букваря:
А – АЗ, ангел, ангельский, архангел, архангельский, апостол, апостольский;
Б – БУКИ, бог, божество, богородица;
В – ВЕДИ, Владыко, владычица.
И так далее все буквы алфавита. Каждое утро все ученики хором «повторяли зады», а потом учили кусочек нового. После букваря читали Псалтырь и другие священные книги.
Все старшие братья Алексея Евграфовича учились сначала в духовном училище, а потом в семинарии, условия жизни и обучения в этих учебных заведениях правдиво и красочно описал Н. Г. Помяловский в его «Очерках бурсы». Братья Алексея Евграфовича испытали все прелести жизни «бурсаков», только последние годы, в старших классах, они жили на вольной квартире.
В 1867 году, как было сказано выше, умер Максим Андреевич Фаворский, и оставшиеся после него деньги решено было употребить на обучение двух младших детей – Алексея и Елизаветы – в гимназии. С семи до восьми лет Алексей обучался у черничек, а после них у дьячка Троицкого собора, который обучал его русской грамоте. Десяти лет его отвезли в Нижний и определили в приготовительный класс Нижегородской гимназии. Жить он стал с братьями в маленькой комнатке, которую они снимали у хозяйки. Антон кончал в то время учительскую семинарию, а Александр учился в последнем классе духовной семинарии. Братья хозяйничали сами: рано утром до занятий ходили на базар, варили щи и кашу. Главным поваром был Александр, отец был у него подручным. Какой вкусной казалась приготовленная собственноручно еда! Алексей Евграфович любил вспоминать, какую хорошую жирную говядину они покупали, какие наваристые были щи.
Что же касается преподавания, то в младших классах Нижегородской гимназии оно было поставлено достаточно плохо. Так, например, на уроках естественной истории учитель диктовал новый материал, который потом заучивали ученики. На уроках чистописания гимназистам давали списывать прописи, среди которых была, между прочим, такая фраза: «Талант питается хвалою». Учитель не потрудился объяснить малышам, что такое талант и как он может питаться хвалою. Алексей решил, что тут что-то напутано и написал: «Талант питается травою». На преподавание языков и математики обращали мало внимания. По немецкому языку он запомнил одно лишь стихотворение, которое учил в первом классе. Впоследствии он мог читать только научную литературу, и ту недостаточно свободно. Большего всего времени отводилось на преподавание латинского и – в старших классах – греческого языка.
Преподавание истории, географии, по-видимому, было неплохим. Отец на всю жизнь сохранил любовь к этим наукам, полученные им в гимназии знания прочно засели в его памяти. Из различных эпох истории больше всего времени отводилось на изучение древней истории, главным образом Греции и Рима, и русской истории. Когда я приступила к изучению истории Греции, отец подошел однажды к стоявшей в моей классной комнате черной доске, взял мел и с одного приема вычертил очертания Греции. В гимназии умение чертить карты Греции в целом и отдельных греческих государств, так же как и карту Рима, было обязательным. Алексей любил читать исторические романы, особенно Вальтера Скотта, жизнеописания великих людей древности Плутарха. Любимые книги перечитывал по много раз и некоторые знал почти наизусть. В течение нескольких лет он выписывал журнал «Исторический вестник».
Географические названия сохранились у него в памяти до глубокой старости. Когда я начала изучать географию в гимназии, мы с ним часто проверяли друг друга: то начнем перечислять правые и левые притоки Волги, то острова в Средиземном море или в Тихом океане, вершины различных горных хребтов, и все он помнил и знал гораздо лучше меня. С древними языками был не в ладу; правда, ни разу не оставался из-за них на второй год, всегда подтягивался к экзаменам, не желая огорчать отца, но в памяти у него эти языки не оставляли следа, кроме некоторых общеизвестных латинских изречений. Евграф Андреевич умер, когда отцу было шестнадцать лет; на следующий год, в седьмом классе, он еще больше пренебрегал древними языками, учитель заявил, что он его обязательно оставит на второй год. Но тут, к счастью для Алексея, старший брат его Андрей был сослан в Вологду за участие в деятельности группы лиц, старавшихся улучшить жизнь павловских кустарей организацией артели. Это должно было освободить их от тяжелой зависимости от скупщиков. История этого начинания описана В. Г. Короленко в «Павловских очерках». Алексей перевелся в Вологодскую гимназию и на следующий год благополучно ее окончил.
Лет через двадцать после этого он приехал в Нижний Новгород и встретил там упомянутого учителя латинского языка. Тот его узнал и снисходительно поздоровался с ним. «А, Фаворский, помню, помню, ты был старательным учеником, но способностей у тебя не было. Чем ты сейчас занимаешься?» – «Я сейчас живу в Петербурге, состою профессором Университета». – «Да?!» – глаза у учителя стали круглыми от удивления, и он ничего не мог больше сказать. Зато потом, как узнал отец, он всем своим знакомым рассказывал, что вот, мол, какой я учитель, мой ученик – профессор Университета.
После привольной жизни дома трудно было привыкать к суровой гимназической дисциплине – понятно, с каким нетерпением ожидалось наступление рождественских и летних каникул. От Павлово до Нижнего всего сто верст, но, кроме как на лошадях, других способов передвижения не было. Родители договаривались с кем-нибудь из павловских крестьян: нагрузив на розвальни тулупы и валенки, запрягали в розвальни лошадку, и путешествие начиналось.
Надевши валенки и закутавшись в тулупы, отправлялись братья в родное Павлово. Выезжали утром, к вечеру проезжали полпути и останавливались на ночлег на постоялом дворе. Проехать пятьдесят верст без остановки не шутка, не спасали и тулупы – мороз пробирал путешественников до костей. Но возница их, человек бывалый, чуть заметит, что кто-нибудь начинает замерзать, живо столкнет его с саней и начнет погонять лошадь. Хочешь не хочешь – беги, догоняй. Бежит мальчик, тулуп тяжелый, бежать трудно, пока догонит, даже пот прошибет. На постоялом дворе напьются горячего чаю, закусят присланными из дома припасами и улягутся спать на печи или на полатях. Изба полна народа, по дороге из Нижнего в Павлово и обратно всю зиму идут обозы с разными товарами, и постоялый двор, где останавливались мальчики, служил ночлегом и для извозчиков. Прежде чем заснуть, отец любил наблюдать, лежа на печи, как закусывают извозчики. Один ведерный самовар выпьют, другой требуют, а напившись чаю, начинают ужинать. В избе жарко, лица у всех красные, так и лоснятся. Затем укладываются спать на полу и на лавках. Ночью в избе такой воздух, что «хоть топор вешай», говорил отец. Утром, чуть свет, отправляются в дальнейший путь, не терпится скорее попасть домой.
Две недели промелькнут незаметно, пора собираться тем же порядком в обратный путь. Летние каникулы продолжались около двух месяцев. Когда Алексей стал постарше, он не сидел все лето в Павлове, а побывал во многих окрестных селах, в которых жили многочисленные родственники, бродил там по лугам и лесам, ловил рыбу и охотился. Среди родных было много охотников, и еще мальчиком пристрастился он к охоте. Увлечение это сопровождало его до глубокой старости. Сначала он присутствовал на охоте старших в качестве зрителя или в лучшем случае заменял охотничью собаку, вытаскивая из камышей упавшую туда утку. Позднее он уже сам бродил с ружьем и собакой по просторам нижегородских лесов. Один из его родственников состоял лесничим в громадном казенном лесу, простиравшемся на многие десятки верст. Это лес Алексей посещал особенно охотно.
Дом, в котором жил лесничий, стоял в самой глубине леса, во все четыре стороны ближе сорока верст не было никакого жилья. Отец так часто рассказывал мне про него, что я до сих пор живо представляю себе этот небольшой домик, расположенный на зеленой полянке, со всех сторон окруженный лесными великанами. В домике так уютно, лесничий и его жена такие радушные, гостеприимные, так рады гостю. На столе сейчас же появляются соленые грибки, хлеб с маслом, молоко, душистый липовый мед в сотах, чудесная круглая лесная земляника, поет свою песню пузатый самовар. Как сладко спалось на сеновале, на свежем, душистом сене! А как много там было птиц! Певчие птички распевали с раннего утра до позднего вечера, когда со всех сторон слышалось пение соловьев; были там и совы, и филины, различные ястребы и коршуны парили над лесом, высматривая добычу. А сколько там было дичи перистой и четвероногой! На охоту обыкновенно уходили не на один день, ночевали у костра; эти ночевки в лесу доставляли отцу не меньше радости, чем сама охота. Многому научился он, бродя по лесам со старым охотником: голосам и повадкам лесных обитателей, умению разжигать костер и безошибочно находить дорогу. Леса здесь главным образом лиственные, ель и сосна встречаются редко. Но вскоре, навещая брата, Алексей хорошо познакомился и с вологодскими хвойными лесами. Здесь тоже сошелся со многими охотниками и вместе с ними не раз охотился.
Приехав на жилье в Вологду, брат Андрей поселился в доме Дубровиных, туда-то к нему и приехал отец вместе с младшей сестрой, Елизаветой, которая теперь перевелась в вологодскую гимназию.
Фото 7. Наталья Павловна Дубровина
Дом стоял на набережной реки, а напротив, на другом берегу, возвышался старинный Духов монастырь. Хотя Вологда и была губернским городом, но представляла собой небольшой, довольно захолустный городок. На письмах, которые писались обитателям дома Дубровиных, стоял такой адрес: «Вологда, дом Дубровиных, против Духова монастыря» – и все, этого было достаточно. В этом доме Алексей познакомился со своей будущей женой, моей матерью, Натальей Павловной Дубровиной (фото 7). Отец моей матери, Павел Константинович Дубровин, вырос в имении, расположенном недалеко от Вологды, под неусыпным надзором матери. Он очень рано лишился отца, кроме него, детей у его матери больше не было, она постоянно дрожала за его здоровье и вырастила его изнеженным, неприспособленным к жизни. Сама она была очень властная натура и, возможно, подавляла его индивидуальность. Она была неграмотна я, но обладала большим природным умом и большой житейской мудростью, впоследствии в семье сына она была главой дома и царила в нем как полновластная хозяйка. Кроме сына и невестки, все звали ее «бабинькой», я ее только под этим именем и знала, помню, что звали ее Елизаветой, а отчество ее забыла, я ее никогда не видала, но так много о ней слышала, что ясно себе ее представляю.
Павел Константинович женился на Олимпиаде Семеновне Паршаковой. «Бабинька» купила в Вологде дом напротив Духова монастыря и поселила в нем молодых. Павел Константинович стал работать в городской управе. У бабушки моей было восемь человек детей: старший сын, Константин Павлович, был талантливым художником, другом известного художника Константина Коровина. Он рано начал пить и умер довольно молодым. За ним следовала моя мать, потом дочь Ольга Павловна, которая потом вышла замуж за ветеринарного врача А. П. Крашенинникова. Следующей дочерью была Мария Павловна, она кончила бухгалтерские курсы. Замужем не была, и жила у нас с 1900 года до конца жизни. После нее родился сын Семен Павлович, врач, специалист по кожным болезням. Затем было две дочери – Елизавета Павловна и Александра Павловна, обе вышли замуж за ветеринарных врачей: А. А. Лебедева и В.П.Аляпринского. Самым последним был сын Николай, который умер еще маленьким.
Пожив некоторое время с сыном и невесткой, «бабинька» уехала обратно в имение. Когда дети немного подросли, мою мать и ее сестру Ольгу отправили жить в имение к «бабиньке», потом туда же отправили и Марию Павловну. Они прожили там несколько лет, пока не пришло время матери поступать в гимназию. Вместе с ними переехала в город и «бабинька». Скучая по любимому сыну и любимому внуку, «бабинька» решила постоянно жить в Вологде, поэтому она продала имение и переехала в город. Продав имение, она допустила большую ошибку. Для того чтобы быть гласным городской управы, нужно было иметь определенный имущественный ценз. Когда «бабинька» продала имение, дед лишился возможности работать в городской управе, где он общался с развитыми, культурными людьми, и принужден был перейти работать в уездную управу, где попал в плохую компанию малокультурных людей и вместе с ними начал пить.
Фото 8. Алексей Евграфович Фаворский
Дом бабинькин был бревенчатый, двухэтажный, простой постройки, около дома был двор и небольшой сад. Во дворе была баня. Второй этаж сдавали жильцам, в нижнем жили сами. Мать моя родилась 24 августа (6 сентября) 1863 года, была на три года моложе отца. Но в женских гимназиях было тогда семь классов, поэтому она окончила гимназию через два года после того, как окончил гимназию отец. Окончила она ее отлично, с золотой медалью, такая медаль присуждалась каждый год только одна. Несмотря на то что преподавание иностранных языков в казенных гимназиях обычно было плохо поставлено, Наталья Павловна хорошо знала французский язык, не только свободно читала, но и говорила по-французски.
Алексей Евграфович по окончании гимназии поступил на физико-математический факультет Петербургского университета (фото 8). Как уже говорилось, во время пребывания в гимназии отец жил и учился на средства, оставленные ему дядей. Когда он окончил гимназию, он отказался от своей доли оставшихся денег в пользу сестры, отдал их «на приданое Елизавете», как говорил он мне. Будучи студентом, он существовал на небольшие суммы денег, которые присылали ему Андрей Евграфович и Енафа Евграфовна, его крестная.
Судя по расписанию, занятий у Алексея Евграфовича было немного, посещение лекций было необязательно, лабораторных занятий было на первых курсах совсем немного. Немудрено, что живого, увлекающегося юношу после захолустной Вологды захватила, закружила свободная студенческая жизнь в столице. Скоро появились товарищи и, как тогда говорили, товарки: курсистки, слушательницы медицинских и бестужевских курсов. В гимназии у него близких друзей почти не было, ближе всего он был с Григорием Хрисанфовичем Херсонским, который впоследствии был в Москве директором гимназии (фото 9). С ним он всю жизнь поддерживал отношения, они и переписывались, и лично встречались в Москве или в Петербурге. В Университете у отца было больше товарищей: Вячеслав Евгеньевич Тищенко, Сергей Сильвестрович Колотов, преподававший потом химию в офицерских минных классах в Кронштадте, Владимир Робертович Тизенгольд, доцент Технологического института, Семен Петрович Вуколов, профессор этого же института, Федор Яковлевич Капустин, профессор физики на Высших женских курсах, Александр Маркелович Жданов, профессор астрономии в Университете.
В 1879 году отец увлекся бильярдом и на втором курсе проводил за игрой много времени. Позднее он к нему охладел и предпочел отдавать свободное время театру, русской и итальянской опере. Посещение театров было уже более дорогим удовольствием, но Алексею удалось достать абонемент в итальянскую оперу на галерку около самой сцены. С этого места ему ничего не было видно, иногда только какая-нибудь балерина, выскочившая к самой рампе, попадала в его поле зрения. Несмотря на это, отец не пропускал ни одного спектакля, сам он обладал очень хорошим баритоном и хорошим слухом и с увлечением повторял дома любимые арии. Из русских певцов он особенно любил Мельникова, когда он позднее слушал Шаляпина, то говорил, что Мельников все-таки был лучше. Любимыми его операми были «Руслан и Людмила», охотнее всего он сам исполнял арию Руслана «О поле, поле» и Фарлафа «Близок уж час торжества моего». Любил он также «Русалку», ария мельника тоже часто им исполнялась. Охотно пел он также арию деда Мороза из «Снегурочки» и арию Мефистофеля из «Фауста». Пел он и разные романсы, одним из любимых его романсов был «Хотел бы в единое слово».
Фото 9. Алексей Евграфович Фаворский, Григорий Хрисанфович Херсонский, Д. И. Жбанков
Ни самого Алексея Евграфовича, ни его друзей не удовлетворяла та жизнь, которую они вели. На большинство лекций можно было не ходить, лабораторных занятий было мало, а учить к экзаменам большое число различных предметов при краткости и сухости тогдашних учебников тоже было неинтересно. Алексей переходил с курса на курс, ни на одном не задерживался, но такое учение большого удовольствия не приносило, и на него временами находили скука и хандра.
Когда отец был на третьем курсе, в Петербург приехала Наталья Павловна Дубровина и поступила учиться на Женские врачебные курсы. С ней приехала и Елизавета Евграфовна, которая поступила на Высшие женские курсы. Последняя недолго на них проучилась, она вышла замуж за только что окончившего врача Пантелеева и поехала с ним к месту его работы в земскую больницу. Поехали они зимой, в сильный мороз. Дорогой, после длительной езды на лошадях, они легли спать в жарко натопленных комнатах и угорели. Елизавету удалось спасти, а ее муж умер. Через несколько лет она вышла замуж за товарища Алексея – Вячеслава Тищенко, который давно ее любил. Наталья Павловна окончила Женские курсы и получила диплом женщины-врача.
В 1881 году, будучи на четвертом курсе, Алексей попал в лабораторию А. М. Бутлерова (фото 10). Из всех наук, которые он изучал в Университете, органическая химия привлекала его больше всего. Но в то время лаборатории были маленькие, они все помещались в главном здании Университета, и из оканчивающих студентов Бутлеров мог взять к себе в этом году только пять человек. Так как желающих попасть в эту лабораторию было больше, чем имелось свободных мест, была организована запись. Алексей успел записаться только седьмым. Не имея уже надежды попасть к Бутлерову, он устроился в лабораторию профессора Овсянникова, который читал в Университете анатомию и гистологию. Отцу была поручена работа по отысканию нервных окончаний в легких лягушек. Но ему не суждено было стать гистологом. Один из попавших к Бутлерову студентов должен был уйти из лаборатории, так как оказался недостаточно подготовленным для работы в ней. Следующий за ним кандидат, не попав к Бутлерову, устроился к почвоведу Докучаеву, был доволен своей работой и отказался переходить. Таким образом, очередь дошла до Алексея, и он с радостью бросил своих лягушек и стал работать в области той науки, которая его интересовала. Забыты были скука и хандра, среди игроков на бильярде не было видно больше Алексея Евграфовича, всю свою энергию и настойчивость он отдавал работе. Велика должна была быть любовь к своей науке, терпение, настойчивость и вера в свои силы, чтобы не бросить, не отчаяться, терпя неудачи в работе в течение первых трех лет.
Фото 10. Алексей Михайлович Бутлеров
Бутлеров в то время, когда Алексей попал в его лабораторию, уже сравнительно мало там работал, а в 1886 году совсем ушел из Университета. Бывая в лаборатории, он сам работал за своим рабочим столом, стоявшим в той же комнате, где работали и студенты.
Наблюдение за работой такого искусного экспериментатора, каким был Бутлеров, было, конечно, чрезвычайно полезно для начинающих химиков. К сожалению, тема, предложенная Алексею Бутлеровым, хотя и была очень интересна по замыслу, оказалась невыполнимой в то время, в тех лабораторных условиях и при существовавшем тогда оборудовании. Три года бился Алексей, стараясь получить желаемые вещества, но в результате получал лишь какие-то крохи. Помощник Бутлерова, ассистент Михаил Дмитриевич Львов, предложил Алексею несколько изменить предмет его исследования, получить вместо одного ацетиленового углеводорода другой такого же типа. Тут все сразу изменилось, полученные результаты послужили основой для его магистерской диссертации. В 1884 году результаты эти доложены на заседании Физико-химического общества и принесли ему известность не только в России, но и за границей.
В 1882 году Алексей Евграфович окончил Университет и занял место лаборанта-химика в Первом реальном училище. В реальных училищах в то время древние языки не изучались, программы по математике и естественным наукам были значительно шире, чем в гимназиях, а преподавание химии не ограничивалось меловой химией, но сопровождалось практическими занятиями. Вот этими-то занятиями и должен был руководить Алексей. Молодые преподаватели, влюбленные в свою науку, обычно увлекают своих учеников. Так случилось и с Алексеем: по окончании обязательного практикума он прочел по просьбе своих учеников краткий курс органической химии, а один из них, Василий Яковлевич Бурдаков, занялся изготовлением органических препаратов и между прочим получил изопропилацетилен, нужный Алексею для его научной работы. Этот первый ученик Алексея Евграфовича был впоследствии профессором химии Днепропетровского горного института.
Все время, свободное от занятий в реальном училище, отец по-прежнему отдавал своей научной работе. В 1885 году он получил место лаборанта (по-нынешнему – ассистента) в Университете на кафедре аналитической и технической химии, которой в то время заведовал Дмитрий Петрович Коновалов. Вместе с местом он получил и казенную квартиру в Университете в небольшом трехэтажном доме, который стоит во дворе Университета и в настоящее время. До этого Алексей Евграфович снимал комнату у хозяек. Одно время он снимал комнату в немецкой семье. Он часто рассказывал потом про уклад жизни в этой семье, столь непохожей на жизнь русских семейств.
Став ассистентом и руководя занятиями студентов в лабораториях качественного и количественного анализа, отец по-прежнему все остальное время отдавал своей научной работе. Интересная область, в которой он работал, его экспериментальное мастерство, педагогический талант и творческий энтузиазм привлекали студентов, и у него сразу же появились ученики: Константин Ипполитович Дебу, Константин Адамович Красуский и многие другие. Глядя на то, с каким воодушевлением работали его ученики, старшие товарищи говорили ему: «У вас будет много учеников». Действительно, Алексей Евграфович явился создателем одной из крупнейшей школы химиков-органиков. За своей научной работой и будучи студентом, отец постоянно напевал свои любимые арии. Он не знал нот и не играл ни на одном инструменте, но благодаря прекрасному слуху пел всегда совершенно верно.
Голос его к этому времени значительно окреп и превратился в очень приятный баритон, пел отец всегда очень выразительно. Слышавший его пение немного подвыпивший антрепренер какого-то опереточного театра настолько пленился его голосом, что не на шутку стал уговаривать его бросить все и переходить в его театр, обещая большой гонорар. «Да чем же ты занимаешься?» – воскликнул он, когда отец отклонил его блестящее предложение. «Ацетиленовыми углеводородами», – отвечал Алексей. «Ну, и дурак же ты, братец!» – с огорчением воскликнул антрепренер и махнул рукой на молодого человека, не понимающего своей выгоды и отказавшегося от блистательной будущности.
В 1887 году, 28 августа (старого стиля), отец женился на Н. П. Дубровиной, которая к тому времени окончила Женские врачебные курсы. Знакомы они были уже давно, с 1877 года. О своем романе с матерью отец мне никогда ничего не рассказывал, но по некоторым письмам, адресованным ей, которые хранились у отца и которые, возможно, и не были вручены матери, можно думать, что роман этот был длительным и не таким простым. Обаятельные внешние и внутренние качества отца привлекали к нему сердца многих девушек. Но в конце концов Алексей Евграфович и Наталья Павловна «почувствовали, что они друг без друга жить не могут», как сказала мне однажды мать, и решили пожениться. Свадьба состоялась в Вологде, приехавший на свадьбу старший брат матери, художник Константин Павлович, нарисовал красивое меню свадебного пира, меню это сохранилось до сих пор.
Родители мои прожили вместе двадцать один год. 23 августа 1908 года мать моя умерла от туберкулеза легких, которым она болела более пятнадцати лет. Что послужило причиной ее болезни, трудно сказать: плохие условия жизни в родительском доме и во время учения на курсах или тяжелое горе, выпавшее не ее долю. В июне 1888 года у них родился сын Евграф. Отец и оба его брата так любили своего отца, Евграфа Андреевича, что все трое называли в его честь своих первенцев. Из этих троих выжил только Евграф Антонинович, он дожил до преклонного возраста, работал в Москве на заводе «Красный пролетарий» в должности инженера. У Андрея Евграфовича Евграф умер еще совсем маленьким.
Мой брат Гранюшка, как его звали родители, умер, когда ему был один год и десять месяцев. Это был необыкновенно развитый для своего возраста мальчик. В этом возрасте он уже говорил, знал даже небольшие стишки. Веселый и ласковый, он целый день бегал по комнатам. Утром, как только услышит, что родители проснулись, он хватал со стола утреннюю газету, а со стула – юбку матери, выставленную для чистки, и вбегал в спальню, говоря: «Маме – юбки, папе – газету!» Нечего и говорить, что родители в нем души не чаяли. 19 апреля 1890 года он гулял с матерью вечером перед сном. Мать много рассказывала мне, как они гуляли и как Граня поднял голову, посмотрел на небо и сказал: «А мамы там нет!» На следующий день он заболел молниеносной формой скарлатины, его тотчас же увезли в больницу, так как мать через две недели ожидала рождения второго ребенка.