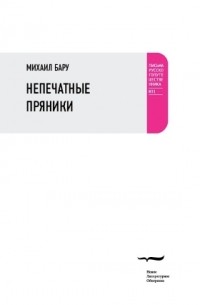Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
СОРОК СОРТОВ ЛОЖЕК. Семенов
Кабы не хохломская роспись да знаменитые на весь мир матрешки – быть бы Семенову обычным медвежьим углом, каких у нас такое множество, что, кажется, только из этих углов мы и состоим. Это теперь в Семенове на площади имени Бориса Корнилова стоит гостиница «Париж» и в городской бане, которая находится на той же площади, все шайки расписаны под хохлому, а лет четыреста назад здесь, кроме села Семенова, затерянного среди дремучих, глухих и немых керженских лесов, не было ничего. В первый раз Семенов упомянут в письменных источниках по довольно необычному и даже несколько обидному поводу – в самой середине XVII века в каком-то платежном документе кто-то написал, что житель села Семеновского Никифор Щетинин, бывший на оброке вместе со всем селом у боярина Бориса Ивановича Морозова, не уплатил за сенной покос. Ну не уплатил. Наверное, высекли Никифора или конфисковали в счет уплаты долга корову или то и другое вместе. Зато не было повода у летописца написать, что брали село штурмом татаро-монголы, что присягали семеновцы Лжедмитриям, что жгли посад интервенты, уводя в плен аборигенов. Может, еще долго в тех местах было бы малолюдно и тихо, если бы ровно через пять лет после первого упоминания села Семеновского патриарх Никон не начал свою церковную реформу. Стали в Заволжье от греха подальше стекаться те, которых от никонианской реформы, что называется, с души воротило в самом прямом смысле этого слова. Впрочем, не только староверы шли в заволжские леса – шли остатки разбитых разинских отрядов, беглые крестьяне, московские, смоленские, новгородские старообрядцы, соловецкие монахи-раскольники, монастырь которых после долгой осады взяли царские полки, иконописцы и просто лихие люди. В известном смысле Заволжье середины XVII века стало для русских тем, чем стала Америка для европейцев после открытия ее Колумбом.
Насчет того, кто придумал расписывать деревянную посуду хохломской росписью… Если даже исключить ее инопланетное происхождение, то и тогда останется множество или даже два множества версий. Самые правдоподобные и самые скучные из них принадлежат, понятное дело, историкам, археологам и искусствоведам. Пишут они, к примеру, что ложкари пришли в Заволжье из соседнего Приволжья, буквально с другого берега из староверческого села Пурех, близ Балахны, что техника хохломской «золотой» росписи была занесена на левый берег Волги беглыми иконописцами, что можно сравнить технику и приемы мастеров-иконописцев «строгановского письма», установить связь, найти истоки, что хохломской промысел и вовсе возник из нужд крестьянского быта… Нет, мы не будем устанавливать, анализировать и выводить из нужд, тем более бытовых. Лучше мы обратимся к легенде, по которой скрывался в дремучих керженских лесах беглый иконописец-раскольник, делавший деревянные чаши, братины и ендовы, удивительно похожие на золотые. Само собой, чаши эти поставлялись в Москву и пользовались там огромным успехом. Как только прознал царь, кто и где делает такую красоту, – тотчас же направил свои царские войска на поиски мастера. Каким образом проведал иконописец-раскольник про то, что идут за ним, – то не только нам, но даже и ученым-искусствоведам неведомо. Собрал он местных жителей, рассказал им в подробностях все свои производственные секреты, отдал краски, кисти и… исчез. Исчез, если верить одной из легенд, а если другой, то не исчез, а зашел в свой дом, затворился и сгорел заживо. Эта концовка, надо сказать, довольно правдоподобная. Не раз и не два раскольники затворялись в своих лесных скитах и сжигали себя заживо, чтобы не попасть в руки правительственных войск. До несгоревших скитов рано или поздно добирались войска, правительственные чиновники и раскатывали их по бревнышку, а насельников выгоняли на все четыре стороны. Кроме тех, конечно, которых сажали «за караул», как выражались во времена Петра Алексеевича, бывшего большим любителем поприжать староверов.
При Николае Первом за искоренение старообрядчества в Заволжье отвечал чиновник особых поручений Министерства внутренних дел Павел Иванович Мельников-Печерский, по совместительству известный писатель и большой знаток быта и обычаев староверов. Мельников все свое детство провел в Семенове и старообрядцев знал не понаслышке. Павел Иванович за свои заслуги в деле разорения скитов и обращения в единоверие получил от правительства орден Св. Анны (правда, в петлицу, а не на шею), а от староверов столько проклятий… «Мельниковым зорением» называли его деятельность староверы. Павел Иванович даже стал героем старообрядческого фольклора. Про него слагали песни и рассказывали, что сквозь стены он взором проницал и верхом на змии ехал, а все потому, что заключил союз с самим врагом рода человеческого. Дела эти прошлые – староверов теперь в Семенове раз-два и обчелся, а от Мельникова-Печерского остались нам два толстенных романа – «В лесах» и «На горах» – да улица его имени в Семенове. Не такая, конечно, широкая, как улица 50 лет Октября, в которую она впадает, но уютная и уставленная домиками с резными наличниками на окнах.
Вернемся, однако, к легендам, но прежде заметим, что село Хохлома, без упоминания которого не обходится ни один рассказ о хохломской росписи, к этой самой росписи имеет в некотором роде двоюродное отношение. В Хохломе преимущественно происходил оживленный торг так называемым «щепным» или «щепетильным» товаром, а расписывали все эти деревянные чашки и ложки в окрестных деревнях Семеновского уезда, которые назывались Большие и Малые Бездели, Мокушино, Шабаши, Глибино и Хрящи. Ну не Малые же Бездели с Хрящами и Шабашами брать в прилагательные и существительные такой красоте.
Так вот, по еще одной легенде, которой пользуются все семеновцы каждый день по многу раз, основал село Семеновское Семен-ложкарь. Он же первым стал бить баклуши – чурбачки-заготовки для изготовления ложек. В восьмидесятых годах XIX века в Семеновском уезде было зарегистрировано более трех тысяч дворов ложкарей с восемнадцатью тысячами работников, считая женщин и детей. Вся эта армия производила тридцать пять миллионов ложек в год. Это получается почти по две тысячи ложек на брата, на сестру, на бабку, на дедку, на Жучку и на кошку с мышкой. И ложки эти надо было не только вырезать из дерева, но еще и загрунтовать и расписать. К концу XIX века Семеновский уезд производил уже восемьдесят миллионов ложек. Если бы этими ложками одновременно зачерпнуть, то, наверное, Волгу можно было бы вычерпать. Уж если не Волгу, то Оку точно.
Сорок сортов ложек выделывали семеновские кустари – «рабочие», «бурлацкие», «детские», «монастырские», «уполовник» и множество других. На обычных ложках рисовали птичек, ягодки, домики, листочки, на «монастырках» – башенки и колокольни, на бурлацких могли бы рисовать канаты и кораблики, но не рисовали, а вместо этого просто делали их раза в два больше обычных. Большой популярностью пользовалась так называемая «отеческая» или «воспитательная» ложка, которой отец семейства бил по лбу детей, начавших есть раньше родителей или ведущих за столом неподобающие разговоры. На таких ложках не рисовали ни ягод, ни листьев, а писали различные нравоучительные пословицы и поговорки воспитательного характера, как правило, неприличного содержания.
В историко-художественном музее и музее при фабрике «Хохломская роспись» собрано несколько сотен ложек красивых, ложек красивых во всех отношениях и ложек, от которых глаз не оторвать, а к ложкам тарелки, к тарелкам бокалы и рюмки, к рюмкам чашки, к чашкам чайники, к чайникам самовары, к самоварам расписные столы, а к столам расписные же стулья и стульчики. Между прочим, сервизы есть не только деревянные, но и фарфоровые, расписанные хохломской росписью. Однажды приехала в Семенов Людмила Зыкина, которая, если разобраться, тоже была в своем роде Хохлома, только песенная, посмотрела на сокровища, выставленные в музее, и посетовала, что нет в хохломской росписи ее любимых ландышей. Подумали семеновские мастера, попробовали, и… получилась у них «зеленая» хохлома, которую теперь так и называют «зыкинской». Художник, бывший у нас экскурсоводом на фабрике, рассказал, что сервиз в зыкинском стиле заказал у них не кто-нибудь, а сам Иосиф Кобзон, который, если разобраться, тоже в своем роде та еще… только политическая.
Говоря о сокровищах фабричного музея, нельзя обойти матрешек. Самая маленькая матрешка, изготовленная на семеновской фабрике, была величиной с рисовое зернышко, и это рисовое зернышко мастера расписали по всем правилам: с пышным букетом цветов на фартуке, с круглым румянцем на щеках и платочком в горошек. Самая большая была метрового роста, и в ней, как в Матренином ковчеге, хранилось семьдесят две матрешки. Семеновцы начали заниматься матрешками еще в конце двадцатых годов и в советское время делали матрешек даже к царскому столу. Лучший друг писателей и физкультурников любил дарить матрешек соратникам по строительству коммунизма в одной отдельно взятой и запуганной до смерти репрессиями стране. Как-то раз, к Первому съезду писателей СССР, Иосиф Виссарионович заказал набор матрешек-писателей для Алексея Максимовича. Понятное дело, что все они помещались внутри огромной и усатой горьковской матрешки. Рассказывают, что когда Горький открыл крупных матрешек Толстого, Фадеева, Эренбурга, Бабеля, а вслед за ними еще десяток мелких леоновых, парфеновых, безыменских и совсем мелких вишневских, то увидел, взяв в руки толстое увеличительное стекло, крошечную пятимиллиметровую матрешку чекиста Ягоды, – его чуть кондрашка не хватила.
Экскурсантам на фабрике показывают весь производственный цикл изготовления матрешек – от деревянных липовых чурок до готовых расписанных красавиц. Показывают и токарей-женщин, вытачивающих и ошкуривающих заготовки, показывают, как грунтуют и как расписывают. Тем, кто захочет, дадут в руки острую беличью кисточку и усадят раскрашивать матрешек. Понятное дело, что не тех, которые на продажу, а тех, которые специально для туристов. Особенно любят раскрашивать матрешек дети, когда их приводят на экскурсии. Впрочем, в детей превращаются и взрослые, как только им выдают матрешек, кисточки и разноцветную гуашь в баночках. Надо сказать, что заказов у фабрики много, особенно на матрешек, и она если и не процветает, то уж за свое будущее может не опасаться, чего не скажешь о тех, кто на ней работает. Средняя зарплата на фабрике – десять тысяч рублей. У токарей доходит до пятнадцати, но пока дойдешь до средней… Работа сдельная, и для того, чтобы заработать эти самые десять тысяч, к примеру, художнику, который расписывает матрешек, надо работать не только восьмичасовую смену, но и брать с собой на дом полные сумки «белья», как называют нераскрашенные заготовки, чтобы и дома до ночи их раскрашивать. Не возьмешь домой, отработаешь только восьмичасовой рабочий день – получишь три, в лучшем случае пять тысяч. Замужним хорошо – им помогают зарабатывающие в Нижнем или Москве мужья, а незамужним, разведенным и вдовам плохо. Особенно тем, у кого есть дети. Им приходится корпеть над матрешками и ранним утром, и поздним вечером, и в выходные дни. Добро бы работа была нелюбимая и ради денег – плюнули и перешли бы на другую, а то и вовсе уехали на заработки в Нижний или в Москву. Так нет же – любимая работа. Случайных людей на фабрике нет – сюда не приходят в надежде хорошо заработать. Молодежь фабрику старается, увы, обходить. Все держится на тех немолодых уже женщинах, которые не уйдут с фабрики, даже если там начнут брать деньги за вход.
– Часто ли бывают на фабрике бунты из‐за низкой оплаты труда? – спросил я у художниц, помогавших мне расписывать матрешку. Опустили глаза художницы, вздохнули тяжело и отвечали:
– Не бывают.
«Любовь зла, и хозяева фабрики этим пользуются», – подумал я про себя, а после того, как посетил фирменный магазин при фабрике и вышел оттуда, больно искусанный ценами на хохломские сувениры, еще более утвердился в своем мнении.
Конечно, Семенов – это не только матрешки и золотая хохломская роспись. Кроме матрешек и росписи это на удивление ухоженный, уютный городок с чистыми улицами, площадями, мусорными урнами, расписанными хохломскими узорами, и такими красивыми, непохожими одна на другую, цветочными клумбами, какие и в столице редко встретишь. По количеству резных оконных наличников на душу населения Семенов далеко опережает не только Москву, Париж или Токио, но даже и Городец с Кимрами и Палехом. Наверное, все это потому, что по количеству людей с художественным вкусом на душу населения Семенов далеко опережает… да кого угодно и опережает.
Шамшурин В. А., Алексеев В. А. Под сенью керженских лесов. Нижний Новгород, 2009. 118 с.