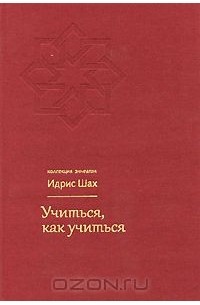Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
«Нельзя учить по переписке»
Передо мной пакет обезвоженного лука.
Предположим, сухие луковицы символизируют что-то написанное. Конечно, это не изначальное переживание (лук), однако назвать их чем-то совершенно бесполезным тоже нельзя. В них содержится виртуальная сущность.
Добавьте горячую воду, и сухой материал впитает ее. Через несколько минут мы получим то, что, как мы знаем, было сушеным луком, но сейчас уже им не является. Теперь у нас есть «восстановленный лук».
Да, конечно, это не целая и отнюдь не свежая луковица. Но у нас есть нечто, что даст нам возможность узнать свежий лук, когда мы увидим и попробуем его. Таким образом, мы продвигаемся вперед, оттолкнувшись от сушеного лука.
Свежий лук – исходный опыт. Вода – добавка, внесенная правильными условиями занятий. Результат (т. е. восстановленный лук) съедобен и может служить подходящей заменой свежего лука. Он также обладает питательными свойствами.
Те, кто говорит: «Ничего нельзя приготовить из сушеного лука», иными словами «Ничего нельзя получить из книг», заблуждаются. Те, кто говорит: «Я буду ждать (или искать), пока не найду свежий лук», – заблуждаются. Они заблуждаются, так как не понимают, что, даже увидев «свежий лук», не узнают его. Я говорю об этом с большой неохотой, поскольку такие утверждения обычно воспринимаются как вызов, тогда как прежде всего они просто описывают явления.
Поэтому давайте исходить из утверждения: «Можно получить что-то из книг. Это что-то может быть столь важным, что приведет к узнаванию реальной вещи. Соответственно, во многих случаях оно имеет первостепенное значение».
Почему же люди воображают, что в книгах нет ничего такого, что и в «свежем» опыте? Объяснение очень простое: им невдомек, что, прежде чем они смогут что-нибудь получить, необходимы особые обстоятельства (такие, как вода, добавленная к кусочкам лука). В этом и заключается цель суфиев – снабдить нас как сушеным луком, так и водой, чтобы в надлежащее время можно было представить свежий лук.
Почему в традиционных обучающих техниках человеку пробуют привить действительно «смиренное» отношение к жизни и учению? Потому, что таким образом ему дают возможность воспринять точку зрения, которая позволит «приблизиться к луку через любое его имеющееся в наличии состояние».
Конечно, такие учения в неумелых руках быстро превращаются в моралистические. Вместо того чтобы разъяснять людям названные выше соображения, моралисты начинают выискивать всевозможные логические основания для проповеди терпения и смирения. Вскоре они находят их: «Смирение – на благо общества. Оно делает людей добрыми, чистыми и т. д.» Это, однако, социальный уровень, а не метафизический. Практика смирения способствует успеху в обычной жизни. При ее отсутствии вы ничего не получите и в высших сферах.
Когда люди не способны занять «смиренной» позиции по отношению к тому, что их приглашают изучать, они вообще не в состоянии овладеть предлагаемым материалом. Поэтому, когда люди спрашивают: «Почему мне следует повиноваться чему-то, чего я не знаю?», они полагают, что этот вопрос подлежит обсуждению. На самом деле он необоснован: всякий, кто находится на подобной стадии понимания, вообще не способен повиноваться или не повиноваться: он может лишь оставаться вечно недовольным вопрошателем. Он не хозяин выбора, таким образом, вопрос не имеет смысла и нет никакой надобности в ответе, разве что вы можете описать вопрошателю его состояние. Возможно, ему удастся осознать благодаря этому описанию свою проблему и соответственно скорректировать позицию.
Люди тем не менее в большинстве случаев принимают вторичные указания за первичные, и суфийским учителям приходится учитывать эту склонность. Чтобы показать ограниченную природу мышления, помочь достичь более глубокого самопонимания и, следовательно, открыть более широкую перспективу, позволяющую учиться, мастер наносит потенциальному ученику заранее продуманный удар.
Такой удар описан в истории, рассказанной Баязидом Бистами.
Баязид рассказывал, что на дороге его повстречал человек и спросил, куда он идет. Баязид ответил, что отправляется в паломничество в Мекку, так как у него есть двести динариев.
Путник сказал: «Обойди меня семь раз, и пусть это будет твоим паломничеством, потому как мне надо кормить семью».
Баязид сделал то, что он его просил, и вернулся домой.
Индивид, как правило, не приемлет подобных корректирующих моментов, ибо они граничат с признанием того, что его предыдущие схемы мышления неадекватны. Он ищет чего-то, что подкрепит его желание чувствовать свою значимость.
И легко находит соответствующие мировоззрения, наставников или организации, потому что в настоящее время почти все они специализируются – знают они это или нет – в рассудительной лести. Даже если лесть чередуется с критикой, она остается лестью.
Это одна из причин, почему человеку так необходимо понять личные побуждения.
Обсуждаемая здесь тема о значении вспомогательных материалов, играющих роль катализаторов, содержит весьма важный момент, который читатель должен для себя отметить: изучение возможно через прямое спровоцированное восприятие. Такой вид изучения отличается от механических методов или занятий, выбранных по собственному желанию ученика, планируемых им самим или кем-то другим, не имеющим полного представления о том, в чем нуждается его подопечный.
Мы говорим здесь о функции, а не о внешнем виде. Есть интересная параллель с запомнившимся мне случаем, когда несколько формалистов расспрашивали Сиди Абу-Юсуфа о суфийских учителях. Его ответ раскрывает не только склад ума буквально мыслящих людей, но то, что подобное мышление мешает человеку войти в гармонию с реальностью.
Вопросы касались заявления того или иного суфийского представителя, озвученные им самим или кем-то от его лица, что именно он – верховный руководитель всех суфиев.
Абу-Юсуф сказал: «Это всего лишь метафора и не подразумевает никакого соперничества. Кроме того, подобные заявления не имеют отношения к иерархии в формальных организациях. Заявления такого рода не следует понимать в том смысле, что каждый из представителей притязает на положение главы всех суфиев. Они лишь означают, что суфийский учитель должен рассматриваться как глава и единственный источник мудрости для тех, кто следует его инструкциям. Данная роль не важнее роли любого учителя, призывающего учеников поддерживать состояние сосредоточенности и способности к учению, не отвлекая внимание на другие предметы, такие как, в данном случае, иерархия учителей. Реальные главы суфиев существуют и действуют в обычно невоспринимаемой сфере и в роли руководителей никогда не известны; хотя время от времени, чтобы выполнять свои миссии, могут представать в любом облике, в том числе и как суфийские мастера.