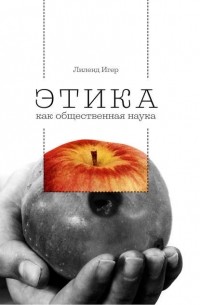Ненаучные подходы к этике
Идея этики как общественной науки становится ясной при сопоставлении ее с иными воззрениями. Согласно одному из них, этические предписания являются богооткровенными или представляют собой божественные заповеди. Но может ли само значение или содержание таких понятий, как «благо» и «зло», исходить от Бога? Чтобы называть Бога «благим», как это принято в иудео-христианской традиции, нужно иметь критерии блага и зла, не связанные с божественной волей.
Другой ненаучный подход был свойствен Иммануилу Канту, утверждавшему, что моральная философия пренебрегает всяким эмпирическим знанием о человеческой природе и человеческом обществе и коренится в чистом разуме (Copleston 1985, vol. VI, p. 312–313). Моральные законы безусловно обязательны для всех разумных существ и действительны совершенно независимо от случайных условий человеческого существования. Моральная благость состоит в самом понятии закона, который возможен лишь для разумного существа. Разум, собственно, служит цели гораздо более высокой, нежели счастье. Подлинную моральную ценность приобретает только поведение, сообразующееся с долгом (Kant 1785/1949, p. 143, 147–149, 156 <Кант 1965, с. 229, 233–235, 243>). (Удалось ли Канту отрешиться от всех эмпирических соображений – это другой вопрос. Джон Стюарт Милль считал, что не удалось, см. «Утилитаризм», гл. I и V.)
Более поздний пример антиэмпиризма демонстрирует Хадли Аркес (его позиция будет подробнее рассмотрена в главе 10). Провозглашая объективную, автономную, не подчиненную ничему иному и не требующую обоснования этику, Аркес весьма туманно говорит о том, какова же «логика самой морали» (Arkes 1986, p. 114, 166). Аксиомы морали обладают «всеобщей истинностью… гарантированной их необходимостью» (p. 424–425). Объективная сущность морали обусловливает ее следствия и применения. Когда доказывают благотворность морали для индивида или для общества, ее в некотором смысле принижают. Аркес считает более благородным – полагаю, это не слишком упрощенная интерпретация – апеллировать не столько к фактам и доводам разума, сколько к глубинным интуициям.
Текст в квадратных скобках принадлежит автору, в угловых скобках – переводчику.
Пожалуй, стоит сделать еще одно замечание о ненаучных подходах. Несмотря на то что этика пересекается с общественными науками, духовенство претендует на особый моральный авторитет и пользуется таким авторитетом чаще, чем представители общественных наук. (Примеры можно почерпнуть из материалов национальных конференций католических епископов: National Conference of Catholic Bishops on War and Peace 1983, reprint. in Castelli 1983; National Conference of Catholic Bishops 1986, reprint. in Gannon 1987; заявления других выдающихся деятелей церкви приводятся в Bauer 1981/1985, Bauer 1984/1985 и Gray 1989LS. Надо принять во внимание и частое присутствие духовенства в комитетах, связанных с проблемами медицинской этики или другими этическими вопросами, а также церковное происхождение принципов Салливана[109], которыми, как предполагается, руководствовались американские компании, занимавшиеся бизнесом в Южной Африке в эпоху апартеида.)
К духовенству принадлежат многие образованные и уважаемые люди. Но удивительно, что моральное лидерство стремятся возложить на тех, кто по роду занятий возводит в подлинную добродетель религиозную веру, принятие и проповедование положений, не подкрепленных фактами или даже противоречащих фактам. Как писал Генри Саймонз, хороший моральный порядок должен основываться «почти на таком же свободном критическом обсуждении, какое входит в научное исследование. Моральный порядок, установленный силой или ложью, по воле властей или под угрозой наказания в земном или в загробном мире, – это противоречие в понятиях» (Simons 1948, p. 7–8).
Сказанное выше вовсе не значит, что я осмеиваю моральные убеждения. Наоборот, для здорового общества они необходимы. Но потому-то и важно искать для них прочное основание.
Экономисты в общем и целом лучше подготовлены для рассмотрения вопросов морали, чем священнослужители. Думаю, маловероятно, чтобы первые удовольствовались громкими словами и не спросили, что означают отстаиваемые принципы на практике и какие институты требуются для их претворения в жизнь. Католические епископы невольно проиллюстрировали эту разницу в подходах, заявив, что «основной моральный критерий для всех [sic] экономических решений, мер социальной политики, институтов следующий: они должны служить всем людям, в особенности бедным» (1986 letter, reprint. 1987, para. 24, курсив в оригинале. На этот пассаж проницательно обратил внимание читателей Бенни [Benne 1987, p. 47]).