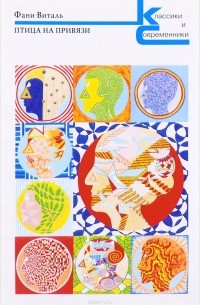Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
* * *
Этот Город не отпускал меня и не давал мне новых зацепок. Взяв меня в окружение, Город М. теперь решил взять меня еще и «на испуг». Больше всего на свете я боюсь быть неадекватной. А проще говоря, съехать с катушек.
Думаю, даже тут, сидя на своем окне и перебирая фотографии, я что-то могу сделать, чтобы собрать свой душевный раздрай в кучку. Только что? Дедушка бы сказал: «Надо сражаться!» И я уверена, не стал бы уточнять, с кем. С Воландом, с Воландемортом или с двойственностью, о которой меня сегодня известил эксперт. А вдруг он не сумасшедший? Я человек тёмный, до седьмого класса путала судопроизводство с кораблестроением. Поэтому могу ошибаться, но мне кажется, что сумасшедшие – самые цельные люди. Они не станут окружать себя и Буддой, и Христом одновременно, а выберут что-то одно, на чем они помешаны.
Двойственность… Всю жизнь меня преследовало это понятие. Если разобраться, то уж если у меня что-то есть, то этого всегда как минимум два! Друзья всегда шутят: «Ты б хоть поделилась с кем – два имени, две родины…».
Я решила опять пойти в свой внутренний кинотеатр и порыться в старых пыльных бобинах с отснятыми кусками моей жизни.
Стою перед зеркалом. Позади меня тоже зеркало. Вижу бесконечное множество взаимоотражений. Я, еще я, и еще я…
Вхожу в тёмную-тёмную комнату, где пахнет жестью коробок с пленкой. Слышу потрескивание старого кинопроектора.
На огромном экране появляется мой дневник, который я забываю вести. Я вижу свои руки, они пишут в дневнике.
Левая рука пишет почерком, напоминающим арабскую вязь: «Два имени, две родины, две пары родителей. Успела получить два образования и подпортить жизнь двум молодым людям. Вторые отношения я уже давно переросла, но никак не могу отпустить…».
На самом деле я бы не сказала «два», но и не одно – это точно. Неоднозначность. Ни левша и ни правша…
Правая рука пишет мелким, как сказал дедушка, «офицерским» почерком: «Неоднозначность». И выделяю зеленым маркером слово «Неоднозначность».
«Ambidexter». Как это по-русски? – «оберуч»… В этом, конечно, есть свои плюсы (устала левая – пишу правой). Но на экране моей жизни вдруг появляется наша новая училка-американка, которая пришла к нам в седьмом классе. Она забирает мою тетрадь и пытается выяснить, кто же написал за меня вторую часть сочинения (а писали мы его вообще-то в классе!). Она позорит меня перед всем классом, обвиняя в том, что вторую половину текста за меня писала Стейси. От такого поворота я слегка обалдеваю. Потом она наконец выясняет, что обе части писала я, но разными руками. Все смеются. Я вжимаюсь в парту.
Я сдавливаю свои виски – как оказалось, это самый удобный пульт на свете! – и перематываю запись далеко вперед, почти в сегодняшние дни, точнее, в прошлую весну. Я вижу себя в танцевальном зале, на занятии по джаз-модерну. Группа девушек и женщин, а также парочка парней делают разминку под музыку. Движения показывает Аня, наш преподаватель по джазу, белокурая стильная девушка в майке, с короткой стрижкой и татушками в виде витиеватого растительного узора на изящных плечах. Прической она напоминает мне Нильса с гусями из мультика по сказке Лагерлёф.
У «оберучия» есть свои минусы. Когда человеку всё равно, какой рукой писать, – ему также всё равно, какой ногой выполнять движение. По крайней мере, в моем случае это так.
– Левой, левой – надрывает слегка осипший голос Аня, – для тех, кто всё ещё путает, специально повторяю! Батман-тандю левой!
Полный провал! Я понимаю, что это она мне, – срочно меняю позицию. Путаница, которая возникает у меня в голове, заставляет пользоваться дурацкими средствами: у всех на ногах обычные носки, у меня – разные. Один желтый, другой – красный. Мне это помогает. Но, как видите, не всегда. Рядом Жанна в полосатых гетрах хихикает надо мной. Сама по технике – вообще ни о чём, а надо мной ржёт. Она, наверное, думает, я у них типа шута – посмешище. Я выругалась на нее про себя.
Частенько я думаю по-английски, то есть успела стать билингвалкой, но матерные слова у меня всплывают почему-то только по-русски.
Надавливаю себе на виски – перематываю пленку всего на пару дней назад. Еду по Кутузовскому на своей «божьей коровке». Меня подрезает джип «холодильник». За рулем, судя по всему, блондинка. Хотя нет, рыжая. «Ёж-через-ежиху!» – я дала себе волю и обматерила ее не хуже заправского бомбилы. «Ёкибастуз твою ГРЭС» и т. д., но только по-настоящему. Мда… Ругаться я предпочитаю по-русски.
Я возвращаюсь в комнату и всматриваюсь в фотомонтаж, где изображены трое – я, брат-близнец и сестра-близнец.
Кто я? И как мне найти ответ на этот вопрос? Что и кому я хотела доказать, создавая такую странную «семью» из множественных «я». Хотя, по-моему, семья вообще только для того и создается – чтобы размножить «себя» в удобоваримом количестве. Создать себе подобных. Мне кажется, большинство людей запихивают свое второе «я» куда подальше, чтобы создать реальную семью… Да что там второе – первое тоже запихивают! А между тем разве нормальные герои создают семьи?
На моем экране замелькали обложки моих любимых детских книжек и фильмов.
У Карлсона была семья? – Нет, он убежденный холостяк! А у Мэри Поппинс? – еще чего! Она даже не задавалась вопросом, есть ли жизнь после свадьбы. Питер Пэн вообще решил не взрослеть – только чтоб не жениться. Маленький принц, скорее всего, предпочел бы смерть семейным отношениям. А Шерлок Холмс мало того что сам не женился, так еще о женитьбе своего лучшего друга Ватсона отозвался презрительно. А мой любимый Мюнхгаузен? Это только в фильме у него была Марта, а в моей детской книжке, ею и не пахло. А я что – хуже? Лучше заведу себе Громита, как Уоллес, – ну, такую собаку-компаньона… Мда… А как же Феликс?.. А Феликс пусть кота себе заведет.
От осознания одной простой мысли мне реально поплохело: герои, на которых меня воспитывали, – сплошь эгоисты и одиночки!
Так, мне срочно нужен кофе! Мне было лениво сходить по ступенькам, и я, съехав вниз по перилам, отправилась на кухню. Достала из холодильника молоко, газету и сахарницу.
«Кстати, о семье, – думала я, заваривая такую гущу – просто нефть бакинскую! – Поскольку я росла в двух семьях, думаю, у меня есть все задатки к полигамии. А что – это мысль: создать парочку семей! Я вздохнула. Кажется, я действительно моральный урод… Или я брежу? Чего только не взбредет в голову, чтобы отвлечь себя от грустных мыслей…
После того, как сделала глотка три такого кофе, моё сердце решило выпрыгнуть из груди. Говорят, в жару надо есть арбузы, а не кофе пить. А еще лучше молоко, чтоб всю гадость, которой мы сейчас дышим, из организма выводить. Я добавила в свою адскую смесь пару капель молока…
Когда же все началось? Может быть, надо отмотать запись моей «так называемой жизни» к самому началу, где было единство хоть чего-нибудь?
Я возвращаюсь в свой личный кинотеатр, вхожу в тёмную комнату и подхожу к двери. Она сделана из прозрачного стекла, но в нее встроен глазок. Странно, зачем глазок, ведь дверь и так абсолютно прозрачна? Я заглядываю в него и вижу, что он состоит из множества цветных стеклышек, словно микро-витраж. Наверное, этот глазок нужен, чтобы было веселей смотреть на этот серый мир! Но через мгновение я обнаружила, что мир стал белым – в комнате падал снег…
Я увидела заснеженный сказочный лес. Он был сделан из моих детских рисунков. Да, да, я уже и забыла! Таким я рисовала его в детстве. Таким я воссоздаю его сейчас. И вот в этом лесу появляется нарисованная машина. В ней едут двое настоящих людей. Это мои родители. Совсем еще юные. К нарисованным телам я приклеила их почти настоящие фото-головы. История проста, мне не раз рассказывал ее папа.
Когда в детстве меня спрашивали, чем занимаются мои родители, я отвечала так, как подучил меня дедушка: «Папа режет, а мама зашивает». Короче, когда мои мама и папа еще не были моими родителями, они были просто аспирантами-медиками. И вот однажды…
Тут я, пожалуй, опять сделаю вам «имаджинейшн спойлер»: я скажу, что в ту пору мой папа внешне очень напоминал молодого Джона Малковича (если вы можете представить себе Джона Малковича с темной шевелюрой), а про маму все всегда говорили, что она похожа на Жульет Бинош. Что вы сидите! Если я позволяю вашему воображению лениться, это не значит, что вы должны просто читать этот дрим-каст – гуглите фото, лепите уже готовые образы.
И вот как-то ночью едут они на практику. Дорога их лежит через темный-темный лес. И вдруг – бах! – машина глохнет.
Чирк-чирк, чирк-чирк! Это папа чиркает зажиганием, но машина упрямо не заводится. Кругом ни души – лишь заснеженный лес. Мама ищет что-то в багажнике автомобиля, но не находит ничего полезного. Мама и папа трясутся от холода, как соседская такса Кэмэл во время грохота салюта. Мама открывает спичечный коробок – там пусто.
Ой, они же могут умереть от холода! Или от голода… Или от страха… Из-за дерева показывается нарисованный медведь. Я нарисовала его с такой хитрююющей мордой! Как у Луши.
Но папа не растерялся. Он шарит во врачебном чемоданчике и находит там маленький пузырек с медицинским спиртом. Мама и папа переглядываются. Ура!
Папа говорит: «Что ж! Для сугреву!»
И вот мама и папа, теперь веселые, пляшут вокруг торчащей из сугроба ёлочки. А под ёлкой, вместо снегурочки, красуется пустая спиртовая ёмкость. Я, чтобы было виднее, нарисовала ее большой – наверное, литров на пять… Поэтому они – ну очень веселые!
На самом же деле с пяти капель пьян не будешь. Для тепла им этого не хватило, а вот для храбрости – вполне! Папа стал весело буянить, будто он и вправду пьян, замерз, а «ботиночки на тонкой подошве» – следовательно, надо плясать и увлекать в пляс маму. Мама ему слегка подыграла.
И вот папа и мама опять сидят в машине и трясутся от холода.
– Фу! Да от тебя спиртом пахнет! – говорит мама папе.
– Это же чисто в медицинских целях, – отвечает папа и добавляет голосом пьяного Буркова, – а вообще… «я никогда не пьянею»…
Они смеются. Мама смотрит на папу нежно своими прекрасными синими глазами, и губы у нее сейчас тоже синие от холода… И вот папа совсем расхрабрился, снял свою кроличью шапку, бросил ее оземь и… решив согреть маму, наконец, спустя семь лет совместной учебы, поцеловал её…
Нарисованный медведь выглядывает из-за дерева и смотрит на них. У него расширяются глаза…
В медведя летит бутылка – чтоб не пялился куда не надо! – но не попадает, разбивается о дерево. А медведю в лоб отскакивает осколок – Ауч! Кровя-я-ка…
Короче. Дело к ночи. На свет я появилась, ох, в непростых условиях…
Нет. Стоп! До моего появления случилось еще кое-что серьезное…
За столом конференц-зала хирургической клиники сидят в белых халатах врачи. Мама и папа, аспиранты, сидят рядом друг с другом. Ага! Мама уже носит меня под сердцем! Хотя она еще об этом не догадывается…
На кафедре выступает энергичный пожилой профессор, главврач.
– Просто подрывается авторитет нашей клиники, товарищи! – его голос гневно звенит в тщательно дезинфицированных ушах собравшихся в зале медиков. – У хирургов, связанных какими-либо отношениями, кроме профессиональных и товарищеских, притупляется внимание. Они тратят больше внимание друг на друга, нежели на пациента. И я не позволю, чтобы семейные пары стояли за одним операционным столом!
Главврач складывает свои бумаги в аккуратную стопочку, выпивает стакан воды. Он внимательно смотрит на маму. Она смело, с вызовом, глядит ему в глаза.
– А если некоторые решат связать себя подобного рода «отношениями», то место им, – главврач делает многозначительную паузу, – в разных клиниках! Это я ответственно заявляю.
В ответ на эту гневную речь мама решительно берет под руку сидящего рядом папу.
Как рассказывала мне мама, у главврача с говорящей фамилией Нудов были свои веские основания нести бред по поводу брачных уз и разлучать моих будущих родителей. Он был по макушку своей накрахмаленной шапочки влюблен в мою маму…
Я слегка давлю себе на виски, перематывая кинопленку, и вижу – сказочный солнечный остров! Люди, попавшие на этот остров, гнались не за удачей, не за богатством, а за Большим Солнцем. А может быть, за любовью. Проще говоря, группа русских врачей во главе с папой и мамой, а под мышками – с теплыми куртками, приехали на Кубу.
И вот, очемоданенные, они направляются к зданию местного госпиталя. Их окружает толпа кубинских ребятишек. Одна кубинка что-то экспрессивно объясняет врачам по-испански.
Да, поскольку мои родители срочно хотели связать себя этими узами и только на законном основании делить ложе и стол – пусть и операционный, они использовали первую же возможность помочь дружественному кубинскому народу. Ведь они же не знали, какой я сюрприз им приготовила, задумав собственное появление…
Папа с любопытством осматривает здание. Чистое помещение с белыми простынями на незамысловатых столах, койки из дерева, темнокожие нянечки. Мама улыбается, обнимает папу. Начинается новая жизнь.
Я еще немного перематываю и вижу совсем иную картину: убогое крошечное помещение с щелями в стенах, через которые виден свет. Папа чинит провисшую дверь. Мама трет грязные полы тряпкой. По полу ползают огромные – десятисантиметровые! – кубинские тараканы. Мама в ужасе. Она сбрасывает с ноги босоножку и нещадно истребляет ею насекомых.
Расправившись с тараканами, мама устало прикрывает лицо руками и горько плачет.
Вообще-то я люблю насекомых, но когда мои родители узнали про меня, то почему-то решили, что мое появление на свет будет слишком… э… торжественным для столь прозаической обстановки.
И вот папа, уже в белом халате, стоит у хирургического стола в кубинском госпитале. На улице ночь. Через открытое окно доносятся стрекотание сверчков и цикад, шум океана. Папа целует маму в шею. В кабинете они одни. Затем папа тщательно, большим куском ароматного кубинского мыла, которое было на вес золота, моет руки над эмалированным тазом, мама поливает ему из кувшина.
Папа вопросительно смотрит на маму, словно хочет убедиться еще раз в твердости ее намеренья. Мама отвечает утвердительно, одними глазами. Папа надевает на лицо повязку.
Мама расстилает на столе свежую простыню и ложится на нее. Папа решительно выкладывает инструменты на столик, стоящий рядом с операционным столом.
Мама закрывает глаза и прикусывает губу. И вдруг – тарабам! Мама слышит грохот. Она открывает глаза: папа лежит на полу. Он упал в обморок. Мама облегченно выдыхает и опускается на стол.
Вы скажете: «Ну ты загнула! Хирурги не имеют обыкновения падать в обмороки!»
Папа поднимается с пола бледный. И говорит вам, именно вам.
– Может быть, это не те хирурги, которые делают такие вещи собственным женам?..
Папа медленно подходит к столу, изнеможенно садится на него рядом с лежащей мамой. Грустно смотрит на нее. Он очень бледен, она же – напротив, с горящими щеками и блестящими глазами. Она очень красива.
Папе идет белый халат – накрахмаленный, строгий. Папа закуривает, его рука трясется.
– Я не могу этого сделать, – произносит папа хрипло, глядя маме прямо в глаза.
Мама выглядит спокойной и тоже утомленной, словно обмякшей. Она пожимает его свободную руку.
– Кажется, Бог этого не хочет, – отвечает мама.
В ее глазах чуть поблескивают слезы. Но она собирается с силами и кротко улыбается.
Папа кивает и затягивается сигаретой.
– Значит, будем расширять нашу ячейку общества среди пауков и тараканов!
Так папа и мама всё-таки решили меня рожать…
О, май гад! Тут до меня вдруг доходит страшное: они тогда меня чуть не убили, а я их сейчас. Я объясню вам чуть позже.
Вы, конечно, подумали, что мои родители какие-то уроды. Или что я несу тут худжнджу полную. Нет, всё правда. Почему в моем мультоклипофильмотьюбе я не могу постебаться на тему тараканов? Так, для разнообразия. Ладно, можете отписаться от моего канала: моя версия с тараканами в качестве причины аборта не прокатит только потому, что она не особенно правдоподобна.
Я узнала частичную правду в тинейджерстве, когда они ссорились. Ненавидела их жутко. Я просто расщепилась на две половинки и стала жить двойной жизнью. Создала себе новых, воображаемых родителей, нормальных, тех, что рядом со мной.
Два года спустя, когда дедушка понял, что со мной происходит что-то не то, он насел на меня, «расколол» и рассказал мне уже полную правду – всё так, как оно было на самом деле и про настоящие причины. Маме никак нельзя было рожать, по медицинским причинам. И любые удачные роды могли приравниваться к настоящему чуду… Короче, жить из нас двоих мог только один – либо она, либо я.
Но они так меня хотели, что всё-таки решили рискнуть. Поэтому я их, конечно, поненавидела еще дня три, но потом простила. Однако история с моими «вторыми родителями», которых я придумала, разрослась среди моих новых друзей уже настолько, что я не могла от нее избавиться.
Я перематываю кинопленку еще немного и вижу восход на берегу океана. Вот уж что терпеть не могу, так это описывать пейзажи! Ладно, почувствуйте, что пахнет сигарами и кубинским ромом. Какие еще штампы я могла усвоить, плавая в утробе?
Толпа пестро одетых кубинцев на берегу грузит свои манатки-шмонатки на паром; босолапые мальчишки шныряют по берегу взад-вперед, выкрикивая что-то по-испански; малыши по-чаячьи мяукают; их дородные мамаши своими огромными руками собирают детей в кучу, на ходу кормя самых младших мячистой грудью. Тут же они расторопно отдают распоряжение паромщику, помогают мужьям грузить вещи, ругаются и плюют на песок. Какой-то парнишка, сидящий на берегу, смотрит вдаль на океан и поет заунывную песню по-испански. Рядом на песке лежит небольшой узелок. К ноге привязана веревка. На привязи, как щенок на поводке, сидит зеленый кубинский варанчик. (Блин, что за кино такое кровожадное – тут всё время мучают животных?) Варан тоже смотрит вдаль, словно готовится к долгой переправе…
Папа ошибся. Среди кубинской фауны мне родиться так и не довелось. Как раз в этом году кубинские власти, заключив с США соглашение, разрешили вторую волну эмиграции. За полгода тысячи и тысячи кубинцев переправились во Флориду.
И поэтому, кроме многодетных семей, на пароме оказались рядом добрые олигофрены, целующиеся гомики и загорелые зэки с художественными красотами, вытатуированными на их накачанных плечах.
Так, при помощи нескольких переправ, предприимчивая Куба избавилась от десятков тысяч преступников, ВИЧ-инфицированных, геев, а также пациентов психиатрических клиник.
Я вижу, как русские врачи заколачивают окна госпиталя. Мама – с большим уже животиком – и еще две женщины-врачи, без животиков, выходят из здания с чемоданами.
А мои родители избавились от необходимости рожать меня во влажном тропическом климате Кубы. Ведь городок, где они работали, совсем опустел, и им пришлось вернуться на Родину. Они и понятия не имели, куда возвращаются: зачали они меня в одной стране, а возвращались теперь в совершенно другую. Вот! Пожалуй, тут-то и начинается история моей двузначной неоднозначности…
Союз уже полгода как развалился, и в заметенном снегом Городе М. их ждала разруха, всплеск преступности и прочие прелести «лихих девяностых»… Сидели бы себе на своем безоблачном острове, раз уж поехали за Большим Солнцем.
С солнцем придется попрощаться. Папа берет у мамы чемоданы. Они едут в аэропорт.
Огромное океаническое пространство, над которым все еще восходит солнце. Земля остается где-то внизу. Затем совсем исчезает из виду – внизу простирается лишь водная гладь, на которой видны крохотные точки рыбацких лодок и тире кораблей и паромов.
Мама и папа и еще пять русских врачей летят в самолете. В иллюминаторе видна лишь водная гладь.
Папа рассказывал, что я родилась в полдень по… его часам. Хотелось сказать, «по местному времени», но, увы, никакой местности под нами не было – только Атлантический океан. Хотя, если быть точной, когда-то она всё же была, – ха! – ну, до того, как затонула…
Бортпроводницы суетятся, русские врачи открывают свои сумки, достают белые халаты, быстро надевают их. Кто-то несет воду в чайнике, кто-то подносы и чистые полотенца. Ёнгидрид-твою-перекись! Неужели мне сейчас это покажут – собственное рождение?! Вот это кинотеатр – супердупергиперсверх!
И вот маму усаживают на кресло, на котором постелен пледик и полотенца, ноги кладут на сиденье рядом. Спиной она опирается о борт с иллюминатором. Папа заботливо подкладывает маме свернутую куртку под спину, чтобы было помягче. Мама охает и стонет. Я сижу в темноте и жду своего выхода в свет. Жду папиного сигнала.
Папа любит шутить, что, поскольку часов у атлантов в силу затонувшести не наблюдалось, то, значит, я родилась не только вне пространства, но и вне времени…
Папа принимает роды. Две женщины-врачи помогают ему.
– Иди-ка сюда, – зовёт меня папа. – Вот так, так… – приговаривает он, принимая меня на руки. – Яви-и-лась!
Руки у папы сухие, теплые и чуть пахнут спиртом. Мне не просто холодно, я в шоке – словно вынули вас из индийского прогретого воздуха и окунули в прорубь в крещенские морозы. Вокруг всё почему-то гудит: люди, улюлюкающие и поздравляющие друг друга, мотор самолета… Или он ревет, а не гудит? Да, точно, это не я реву, это он плачет.
– Ничего страшного, – гудит басом какой-то мужчина в белом халате. – Восьмимесячные тоже выживают. Иногда.
Предполагалось, что я появлюсь в России, но – вы ж знаете – я совсем не умею ждать… Мамино лицо – по-детски удивленное – всё покрыто бисеринками пота. Она смотрит на меня, потом на папу, словно не верит, что смогла сделать это. Что я явилась.
Уже прямо в самолете папа придумал мне странное имя, которое по-гречески значит «явление Божье». Еще со школы он увлекался греческим и латынью. И хоть мой папа жуткий атеист, а мама из исконно православной семьи (да еще и со священнической фамилией Беневоленские), – они прекрасно нашли общий язык. Имя было длинным, но звучало вполне как православное, на том и сошлись.
Папа с мамой молча «переговариваются». Папа улыбается маме, потом лишь глазами говорит: «Ты смогла». Мама отвечает ему одним взглядом: «МЫ смогли…»