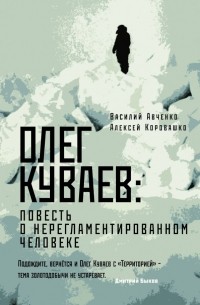Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Мнимая случайность: к истории печатного дебюта Олега Куваева
Любой писатель, отмеряя порцию автобиографических сведений, заботится не столько об анкетной правде, сколько о соответствии написанного и сказанного критериям иного рода. Сформулировать их чётко и однозначно нельзя (каждый раз художник слова приноравливается к новым обстоятельствам), но в качестве обобщённого ориентира, регулирующего направленность подачи информации, можно назвать соразмерность произносимого, неважно, в устной или письменной форме, сюжетному каркасу индивидуального авторского мифа. Не нужно истолковывать предлагаемый тезис как попытку снизить писательский облик, будто бы сводящийся к сознательно выбранной маске, в которой удобно и комфортно дефилировать перед читателем. Индивидуальный авторский миф – это не сумма ложных деклараций, осуществляющих подмену автора подлинного автором мнимым, вымышленным. Это, скорее, мечтания о самом себе, возведённые в ранг непосредственно переживаемой реальности.
О том, что реальность эта рано или поздно превращается из призрачно кажущегося в полноценно произошедшее, красноречиво свидетельствует авторизованная версия куваевского литературного дебюта. В упомянутом выше очерке «О себе» Куваев не отступает от внешней канвы собственной биографии, но, во-первых, проговаривает далеко не всё, а во-вторых, стремится подчеркнуть случайность своего попадания в литературу. Если первая стратегия не требует каких-либо разъяснений, являясь единственно возможным способом построения любого жизнеописания, то вторая, наоборот, вызывает ряд вопросов, связанных с её мотивацией.
Читая очерк, неизбежно приходишь к выводу, что решение стать писателем появилось у Куваева неожиданно, реализовав не логику тех задатков, которыми наделила его природа, а суммарный эффект от жизненных событий, произвольно наложившихся друг на друга. Своим самовозникновением его первая проба пера чем-то напоминает «автоматическое письмо» сюрреалистов, лишённое контроля со стороны бодрствующего сознания. Спонтанному творческому акту литературной «инициации» предшествовала поездка на Тянь-Шань. Зачарованность местами, по которым почти столетие назад путешествовал Пржевальский, подспудно бродила и настаивалась в Куваеве всю осень ровно до того момента, когда «зимой случилось „событие“»: Куваев, по его словам, «как-то незаметно написал рассказ „За козерогами“». Оценивая рассказ в автобиографическом очерке, Куваев не ищет снисходительных формулировок, оправдывающих молодость и неопытность. Вердикт его суров и, надо признать, точен: «За козерогами» – это «типичный охотничий и очень слабый рассказ». Тому факту, что он был опубликован, Куваев якобы «не придал… никакого значения».
Если бы очерк «О себе» был единственным источником, проливающим свет на первые шаги Куваева по территории литературы, всем этим суждениям и характеристикам вполне можно было бы верить. Однако, к счастью для тех, кто интересуется биографией писателя, сохранилась его записная книжка, относящаяся к периоду создания «За козерогами». Книжка эта представляет собой изготовленный на ленинградской фабрике «Светоч» блокнот чёрного цвета объёмом 96 листов в клетку (в дальнейшем и для удобства, и для указания на то, что среди своих многочисленных «собратьев» в куваевском архиве она является самой первой, будем называть её ЧЗК-1). На форзаце рукой Куваева сделано хронологическое указание: «Начато летом 1956 г. Р<удни>-к им. Кирова Амурской обл.» Первые двенадцать листов ЧЗК-1 занимает черновик того самого рассказа «За козерогами» (впрочем, непосредственно тексту отданы не все страницы рукописной «площади»: некоторые из них оставлены пустыми). Таким образом, рассказ этот, судя по всему, писался не в декабре 1955-го и не в январе-феврале 1956-го, а в летние каникулы, наступившие после завершения обучения на четвёртом курсе. Правда, нельзя исключать, что текст из ЧЗК-1 отражает один из этапов работы над рассказом. Тогда его «зазимление» в очерке «О себе» будет не ошибкой памяти, а отражением таких реалий, как возникновение общего замысла, появление на свет отдельных набросков и т. д. Не подлежит, однако, сомнению, что в более или менее полном виде «Козероги» были «рождены» именно летом 1956-го, причём изучение варианта в ЧЗК-1 опровергает слова Куваева о «незаметном», спонтанном написании рассказа, который в действительности прошёл через массу правок и изменений.
Подробный текстологический анализ рассказа «За козерогами» был бы уместен в составе «академического» собрания сочинений Куваева (хотя писатели последнего полувека чести быть научно изданными удостаиваются крайне редко), поэтому ограничимся лишь некоторыми замечаниями и наблюдениями.
Начнём с того, что в ЧЗК-1 текст носит название не «За козерогами», а «За теками». Сделанная Куваевым позднейшая надпись, диагонально пересекающая первую заполненную страницу ЧЗК-1, сообщает, что рассказ напечатан в журнале «Охота и охотничье хозяйство» (1957, № 3), но никаких уточнений, касающихся смены названия, не содержит. Любопытно, что Куваев колеблется между различными вариантами написания слова «тек». В черновике рассказа встречаем и форму «тэк», соответствующую принятой литературной норме, и несклоняемую «тэке», приближенную к особенностям произношения в киргизском языке. Вариант, вынесенный в заглавие, как бы отменяет обе эти версии, но лишь затем, чтобы потом самому благополучно «умереть» в журнальной публикации. Вместе с тем безымянный охотничье-хозяйственный редактор, «причёсывавший» рассказ Куваева перед отправкой в печать, не слишком усердствовал в деле приведения различных названий козерогов к общему знаменателю. Им оставлен и вариант «тэк», фигурирующий во всём блеске своих падежных окончаний, и киргизское слово «тэке», решительно сопротивляющееся любому склонению.
Прежде чем продолжить наблюдения над спецификой редакторской правки первого литературного опыта Куваева, проясним ещё один достаточно важный момент. Наличие чернового варианта «За козерогами» в ЧЗК-1 не означает, что Куваев просто перепечатал его на пишущей машинке и отправил получившийся беловик в редакцию «Охоты и охотничьего хозяйства». Походу на почту с вложенными в конверт страницами «незаметно написанного» рассказа могла предшествовать доработка исходного текста. Допускать такую возможность позволяют несовпадения, обнаруживающиеся при сопоставлении варианта в ЧЗК-1 и журнальной публикации. И всё же, с нашей точки зрения, текст записной книжки был перенесён Куваевым на страницы беловика без каких-либо существенных изменений, не считая, разумеется, более тщательного отношения к орфографии и пунктуации, которые в ЧЗК-1 изрядно хромают. А все отклонения, вероятно, следует приписать рвению редактора, руководствовавшегося собственными соображениями о природе художественно-документального повествования. К такому выводу подталкивает принципиальное расхождение между концовкой текста в ЧЗК-1 и тем «эндшпилем», который рассказ «За козерогами» имеет в журнальной публикации. Говоря конкретнее, сюжетная развязка в ЧЗК-1 описывает разочарование в результатах вроде бы удачной охоты, обусловленное сентиментальным «вчувствованием» в воображаемое психологическое состояние только что подстреленного зверя. «Я не спешил подбегать к добыче, – пишет Куваев. – Почему-то мне вспомнились большие и полные внимания и недоумения глаза вожака. И потому впервые в своей охотничьей практике я без радости подумал об удачном выстреле».
В журнальном варианте последний абзац выглядит совсем иначе. Складывается впечатление, что редактор «Охоты и охотничьего хозяйства» посчитал недопустимыми гуманистические эмоции начинающего автора и, пользуясь своими полномочиями, заменил неуместное полураскаяние мягкосердечного добытчика тэков сухим и деловитым объяснением его редкостного везения. Вот как выглядит этот чисто технический постскриптум: «Многим, наверное, будет непонятно, как мог человек вплотную подобраться к стаду таких зверей, как козероги, известных своей осторожностью и превосходно развитыми органами чувств. Причиной этому, вероятно, послужило то, что тэке в этом районе Киргизского хребта сравнительно мало преследуются человеком, а главный же враг их – барс – охотится преимущественно в скалах, где подстерегает свою добычу. Не ожидая нападения с этой стороны долины, сторожевой на несколько минут покинул свой пост, что и стоило ему жизни».
Кстати, автором иллюстраций к этой первой публикации Куваева в «Охоте» выступил художник-график Пётр Караченцов (1907–1998) – отец знаменитого актёра Николая Караченцова.
Другая линия редакторской правки, очевидно, была нацелена на комментирование разного рода экзотизмов. Слова, использованные Куваевым в качестве словесного орнамента и приобретающие лексическое значение лишь после чтения соответствующих пояснений в «Большой советской энциклопедии», в результате редакторского вмешательства превратились в связки «киргизский термин – русское примечание». Скажем, если в черновике написано: «…из соседнего сая доносится свист потревоженного сурка…», то в журнальном варианте эта фраза «сдабривается» фрагментами киргизско-русского словаря: «Из соседнего сая (сай – по-киргизски овраг, ущелье, небольшая горная долина) доносится свист потревоженного сурка…» Наверняка подобными же соображениями было продиктовано решение отказаться от авторского заглавия «За те(э)ками» в пользу общепонятного «За козерогами». Причём принципы редакторской правки реализовывались далеко не последовательно. Так, остались без каких-либо комментариев все топонимы («речка Аспара», «долинка Аштора», «острый конус… тёмной Кара-Кия») и даже фитоним «арча», хотя далеко не каждый потенциальный читатель знает, что это местное название горного можжевельника.
Редколлегия «Охоты и охотничьего хозяйства» не нашла ничего предосудительного и в обилии штампов и клише в «козерожьем» очерке. Похоже, что наличие таких выражений, как «красный диск солнца» и «певец бескрайних просторов Киргизии», было для неё своеобразным сигналом литературной лояльности, гарантирующей отсутствие в прозе начинающего писателя нежелательных художественных сюрпризов. Добавим, что расхожие речевые формулы, конечно же, простительны литературному дебютанту, который, чтобы быть допущенным к журнально-книжному производству, должен выполнить определённый норматив клиширования, указывающий на способность говорить принятым языком соцреалистического «мейнстрима». К тому же шаблоны, используемые Куваевым, свидетельствуют не только об усвоении уроков советской периодики, очага метастаз господствующего дискурса, но и о несомненном приобщении к опыту русской классической литературы. Читая фразу: «В лучах заходящего солнца снег на… вершине кажется розовым на освещённом склоне и синеет, как колотый сахар, на теневом…», мы невольно вспоминаем хрестоматийные некрасовские строчки из «Железной дороги»:
Как уже было сказано, судьба рассказа «За козерогами», сколь бы сомнительны ни были его художественные достоинства, сложилась благополучно: текст безвестного студента естественнонаучного вуза, не сопровождаемый чьей-либо протекцией, отправляется в редакцию пусть и узкопрофильного, но всё же всесоюзного журнала, где находит сочувственный отклик и спустя какое-то время подписывается в печать. Казалось бы, это свидетельствует о том, что в литературу Куваев удачно прорвался с первым же «штурмом», чем может похвастаться далеко не каждый писатель. Но внимательное изучение ЧЗК-1 заставляет прийти к выводу, что, пробуя себя на новом, не геологическом поприще, Куваев сделал не один «выстрел» в сторону безмятежно пасущихся козерогов, а, как минимум, два. Читаем запись от 12 марта 1957 года: «Мой рассказ первый, который так дёшев, напечатали, а таёжного сторожа, в котором талант видно, нет, чёрт его знает, кто ошибается?» Из неё неопровержимо следует, что почти одновременно с рассказом о козерогах Куваев написал ещё один текст, который ставил намного выше, чем опыт в жанре «Как я сходил на охоту». Текст этот, названный, судя по всему, «Таёжный сторож», был отправлен в какой-то солидный литературный журнал, наподобие «Нового мира», возглавляемого Твардовским (может быть, Куваев вдохновлялся примером Юрия Трифонова, опубликовавшего там за семь лет до этого свой «дипломный» роман «Студенты» и даже получившего за него Сталинскую премию). Но вместо ожидаемого триумфа Куваев нарвался на жёсткую отповедь, не оставившую от рассказа камня на камне, как это видно из его признания (оно примыкает к той записи, что процитирована ранее, имея, правда, все признаки позже добавленного «автокомментария»): «Крепко, однако, получил я по мордасам, хрен его знает, откуда берётся такая самоуверенность: чуть написал что-то и возомнил себя чуть ли не гением, а ведь на самом деле вшиварь, и всё же рад по малейшему поводу трубить об успехах». Куваев не поспешил сбросить «Таёжного сторожа» со счетов, надеясь, что его рано или поздно удастся куда-нибудь пристроить. Составляя список творческих планов на ближайшее будущее (планы эти, как он пишет, лежат у него «в голове пачками», что также доказывает неслучайный характер литературных занятий), Куваев перечисляет три «близлежащих» текста, не давая, правда, характеристик их жанровой принадлежности. Первый из них, «Снежный человек», предназначается для журнала «Техника – молодёжи» (можно предположить, что это должен был быть документальный очерк, основанный на личных впечатлениях автора от того извода мифа о йети, который бытовал в горах Киргизии, но, учитывая издательскую политику журнала, не менее обоснованным будет и отнести текст к рубрике «Клуб любителей фантастики»). Два других, «Таёжный сторож» и «Цыбиков», нацелены на публикацию в журнале «Вокруг света». Нетрудно догадаться, что «Таёжный сторож» – это тот самый уже кем-то отвергнутый рассказ, а «Цыбиков» – биография Гомбожаба Цыбикова (1873–1930), знаменитого путешественника и буддолога, прославившегося посещением под видом паломника в 1899–1902 годах Тибета (иностранцам посещение этой страны в тот период было запрещено и каралось смертью). Ни один из этих текстов не появился ни на страницах названных журналов, ни где-либо ещё. Но если о «Таёжном стороже» мы точно знаем, что он существовал (никаких следов этого рассказа в архиве Куваева обнаружить, увы, не удалось), то «Снежный человек» и «Цыбиков» так и остались лежать в «пачках» невоплощенных проектов. Было бы, однако, ошибкой считать, что в этих самых «пачках» они почили вечным безмятежным сном.
На самом деле оба они дали потомство, легко опознаваемое в различных «артефактах» дальнейших этапов куваевского творчества. Так, тематика очерка «Цыбиков», понимаемая в самом широком смысле (удивительные приключения отважного одиночки, прошедшего там, где до него не сумел побывать никто), была реализована в документальном этюде «Странная судьба Никиты Шалаурова», посвящённом отважному промышленнику-мореходу XVIII века. «Технико-молодёжный» этюд о снежном человеке, вероятно, пробудил интерес Куваева к криптозоологии. Интерес этот воплотился впоследствии в очерке «Самый большой медведь», напечатанном, подчеркнём, в журнале «Вокруг света», который превратился в итоге в пункт постоянного базирования Куваева-писателя и Куваева-журналиста.
Проблема поиска криптидов, созданий, чьё существование считается маловероятным или недоказанным, всегда была для Куваева чем-то бо́льшим, чем просто увлечение или праздное любопытство. Разумеется, мысль написать очерк о снежном человеке возникла у Куваева под влиянием конкретных событий, случившихся незадолго до того, как в ЧЗК-1 появилась та самая «йети»-запись. Это и состоявшееся 31 января 1957 года заседание президиума Академии наук СССР, инициированное прародителем отечественной гоминологии Борисом Поршневым и имевшее в повестке один-единственный пункт «О снежном человеке» (прямым результатом этого заседания стала знаменитая Памирская экспедиция 1958 года, целью которой был отлов реликтовых обезьянолюдей, имеющих наглость жить вне советской паспортной системы), и выход в том же 1957 году на русском языке книги Гюнтера Оскара Диренфурта «К третьему полюсу», насыщенной быличками о многочисленных встречах со снежным человеком в Гималаях. Но повторим: интерес к проблемам криптозоологии, с какими бы таинственными существами они ни были связаны, поддерживался у Куваева не веяниями преходящей моды, которой всё равно, чем «кормить» обывателя – лох-несским чудищем или латиноамериканской чупакаброй, а индивидуально выработанной философией, регулирующей большую часть его действий и поступков. Суть этой философии, нигде Куваевым чётко не изложенной, а лишь угадываемой за фактами его творческой и событийной биографии, заключается в нескольких взаимосвязанных посылках.
Одна из них сводится к тому, что любое путешествие – это не просто перемещение из пункта А в пункт B, имеющее итогом нечто исчислимое (количество пройденных километров, высоту покорённой вершины) или дарующее возможность занять определённую иерархическую позицию (и гордиться тем, что ты первым добрался до ранее недоступной территории). Движение к определённой точке в пространстве, особенно если она по-настоящему труднодостижима, приводит к усложнению взаимоотношений с категорией времени. С одной стороны, ценность путешествия, сопряжённого, как правило, с поиском чего-нибудь сверхзначимого, хоть розовой чайки, хоть чукотского золота, прямо пропорциональна величине затраченного времени: мечта, реализация которой растянулась на десятилетия, в аксиологическом аспекте заведомо превосходит всё то, что требует необременительной экскурсии длительностью в несколько дней. С другой стороны, прибытие в экзотический пункт назначения таит возможность самых разных открытий, в том числе и таких, которые предполагают извлечение на свет божий реликтовых диковин, продолжающих существовать вопреки негативному влиянию всемирного «часового механизма». К числу подобных законсервированных продуктов эволюции, демонстрирующих завидную способность долго сопротивляться неотвратимому, казалось бы, попаданию в «жерло вечности», относятся, понятное дело, и любые объекты криптозоологии. Становясь живыми резидентами прошлого в настоящем и будущем, они прекращают быть чисто развлекательными кунсткамерными курьёзами. А их поиск, в свою очередь, начинает отождествляться с добыванием недостающих звеньев великой цепи бытия.
Стремление разыскать эти звенья в равной мере объясняется и тяготением Куваева к таинственному, чудесному, далёкому от обыденности, и его желанием сослужить службу серьёзной академической науке. Благодаря сочетанию этих интенций в ЧЗК-1 появились выдержки из популярного журнала «Юный техник», в которых перечисляются необычные представители земной фауны: леопард-гиена, мадагаскарская вормопатра, черепаха с Галапагосских островов, дракон острова Комодо, гигантская лесная свинья из Кении, либерийский карликовый бегемот, абиссинская бурая гелада и китайский пресноводный дельфин. Раскрыв соответствующий номер журнала, мы увидим, что этот перечень заимствован из публикации с бунтарским названием «Вопреки Кювье – перепись продолжается», знакомящей читателя с книгой бельгийского зоолога Бернара Эйвельманса «По следам неизвестных животных». Так как формат «Юного техника» не позволял полноценно реферировать книгу, заметка исчерпывается воспроизведением её основного тезиса («Загадки нашей планеты ещё далеко не разгаданы. Небо и земля таят значительно больше чудес, чем это представляется поверхностному взгляду») и реестром животных, обнаруженных после известного высказывания Жоржа Кювье о том, что «надежда обнаружить новые виды больших четвероногих весьма невелика». Некоторых из этих опровергающих Кювье «обнаруженцев» Куваев и занёс в свою записную книжку. Не столько в качестве исторической справки, позволяющей узнать, что, допустим, комодский дракон стал известен науке лишь в 1912 году, но как постоянное утешительное напоминание о вечно возможном открытии нового, причём самого необычного, идущего вразрез с общепринятыми понятиями и представлениями. И гигантский медведь, будто бы обитающий в потаённых местах Чукотки, и воспетый писателем-палеонтологом Иваном Ефремовым олгой-хорхой, и прочие монстры и чудища – все они терпеливо дожидаются своего часа, гарантирующего перемещение из печального небытия в сферу зарегистрированного существования. Приближение этого торжественного момента было для Куваева не формой утоления охотничьего азарта, а чем-то вроде священного служения научной истине, отменяющего одновременно предсказуемость и запланированность повседневной жизни.
Приверженность Куваева классическому эволюционизму, парадоксально проявляющаяся через криптозоологические изыскания, нацеленные, если разобраться, на то, чтобы поставить на учёт все без исключения «ветви» филогенетических деревьев (снежный человек, например, должен найти свое место в семействе гоминид), опосредованно связана и с мистифицированием обстоятельств литературного дебюта писателя. Желание представить его в виде случайно возникшей мутации, непредсказуемого искривления праведного геологоразведочного пути было, вероятно, вызвано бессознательным тяготением к такой схеме собственного художественного развития, которая воплощала бы плавный переход от непритязательных документальных повествований к текстам, всё более и более насыщаемым «литературностью». Неудача «Таёжного сторожа», изначально прозаического, а не публицистически-очеркового, не могла лечь в основание мифа о рождении писателя. Этому мешали как подспудная склонность Куваева к эволюционным объяснительным моделям, эксплуатирующим веру в постепенное приращение требуемых качеств (в её рамках документальное неспешно трансформировалось в художественное), так и чрезвычайно удобная возможность оправдывать любой литературный промах издержками переходного периода, отпущенного для приспособления к требованиям «высокого» искусства. Иными словами, креационистская версия писательского генезиса, апеллирующая к моментальному сотворению «Таёжного сторожа» из недр собственного таланта, оказалась принесена в жертву эволюционистской истории о медленном вызревании прозаического мастерства из пристальных наблюдений за повадками центральноазиатских горных козлов. И пусть эта история не очень соответствовала фактам, зато легко вписывалась в линейно-прогрессистские каноны советского литературоведения. Бесконфликтное взаимодействие с ними обеспечивало автобиографическому мифотворчеству Куваева необходимый оттенок достоверности.