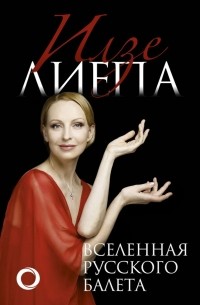Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Балерины
Вера Каралли. (1889–1972)
Она была женщиной невероятной красоты и одаренной личностью, но ее почти не помнят. Ее долгая-долгая жизнь похожа на приключенческий авантюрный роман.
Вера Каралли… Это имя звучит экзотично и терпко, как аромат необыкновенного цветка. И сама она была такой же экзотичной. За восемьдесят три года в ее жизни было все: балет, кинематограф, увлеченность Собиновым – незабвенным, блистательным тенором, была история, связанная с убийством Распутина, где ей тоже пришлось сыграть определенную роль, и это наложило отпечаток на всю ее последующую жизнь. Но самое главное – она была настоящей артисткой: ее любила публика, ею был увлечен главный хореограф ее жизни – Александр Горский. Московский балет может гордиться тем, что в его истории был период, когда на сцене царила Вера Каралли.
В ее происхождении много неясного, но, говорят, предки Каралли были греками. Даже на черно-белых фотографиях видно, что Вера – смуглая, черты лица удивительно правильные и тонкие, огромные, в пол-лица, глаза, темные волосы – роковая женщина. И тонкая, как стебелек, необыкновенно грациозная.
Вера Каралли родилась в артистической семье в 1889 году. Отец – режиссер ярославского театра, антрепренер, а мать – драматическая актриса. Есть версия, что Вера была незаконнорожденной дочерью греческого консула и ее воспитали приемные родители. Но эту версию ничто не подтверждает.
С самого рождения Верочка была ребенком необыкновенным и, конечно, ребенком кулис. Она росла в театре, и ей нравилось все. Часто наряжаясь в экзотические костюмы, она смотрела на себя в зеркало и пробовала позы. Быть может, уже тогда она изучала себя – изучала до мельчайших подробностей, потому что потом каждый поворот головы на сцене или в кино будет значительным.
В семье Вера была любимицей, ее баловали. Родители собрали для нее детскую иллюстрированную библиотеку из популярного тогда журнала «Нива». Когда девочке исполнилось десять лет, ее отвели на просмотр в театральное училище на Неглинную улицу в Москве (в этом возрасте и тогда, и в наши дни проходит набор детей в хореографическое училище). Несмотря на то что у Веры был серьезный изъян – искривление позвоночника, она прошла отбор. На вступительных экзаменах ее отметил директор Императорских театров Владимир Теляковский.
Позвоночный недуг мучил Веру Каралли всю жизнь, и она делала специальную гимнастику. Иногда ей приходилось прерывать учебный процесс, уезжать к отцу в Ярославль и там проходить курс лечения. Иногда ее туго перебинтовывали, и она лежала неподвижно несколько часов. Встал вопрос – не перевести ли девочку в драматический класс? Яркая внешность, прелестная фигура… Но Вера однозначно сказала: «Нет! Ни за что!» Балет захватил всю ее душу и стал самым главным в ее жизни.
Свидетельств об ученических годах Веры Каралли практически нет, но есть самое главное воспоминание – о том, что она была любимой ученицей Александра Горского. Это имя для московского балета – особенное (отмечу, что похоронен он на Ваганьковском кладбище рядом с моим отцом – Марисом Лиепой). Александр Горский был для московского балета тем же, чем для петербуржского был Мариус Петипа. Своим творчеством, своей самоотверженностью и любовью к балетному искусству Горский заложил основы, которые потом сформировали понятие «московская балетная школа». До сих пор возникает вопрос, чем отличается московская школа от петербуржской. По сути – они выходят из одного корня, но при этом у них есть большие различия, и именно Горский заложил традиции артистичной московской исполнительской манеры.
В Москву Горский приехал из Петербурга. Прекрасный балетмейстер поставил за время работы в Большом театре больше двадцати спектаклей. Самый известный из них – «Дон Кихот», в наше время он идет в разнообразных редакциях почти на всех балетных сценах. Наверное, это один из самых любимых, радостных, удивительно оптимистичных балетов. При всей своей занятости – руководство балетной труппой театра и активная постановочная деятельность – Горский находил возможность преподавать в хореографическом училище. Хорошо, что все было рядом и не требовалось тратить время на дорогу: Большой театр, и в двух шагах, на Неглинной, – хореографическое училище. Для учеников это тоже было очень важно: они могли наблюдать за работой настоящих артистов в театре. Но и артисты часто приходили в училище, чтобы репетировать в балетных залах. Такое единение школы и театра, безусловно, было важным и положительно сказывалось на воспитании подрастающего балетного поколения.
Горский, будучи человеком тонкого вкуса, всегда обращал внимание на красивых учеников и учениц. Для него сцена и красота были понятиями одного ряда. Конечно же, он не мог не заметить красивую ученицу Веру Каралли, и она стала его любимицей. Как только она научилась азам, он занимал ее во всех балетах, где участвовали маленькие балерины. Обыватели судачили о том, что это не просто интерес педагога к ученице, мол, есть еще и личная симпатия. Но почему нет? Почему увлеченность не может быть прекрасной, одухотворенной? Да, Горский увлекся сначала Каралли-ученицей, потом – юной балериной, и эту увлеченность пронес через всю жизнь. Точнее, они пронесли: обоюдный интерес стал для них большой творческой находкой.
После окончания училища Веру Каралли зачислили в Большой театр. Судьба была благосклонна к ней, и Вера «перепрыгнула» через кордебалет, что случалось крайне редко. Она сразу получила звание «корифейки» – балерины, которая имеет возможность исполнять небольшие афишные партии или участвовать в бесконечных балетных «двойках» и «тройках».
В первый же сезон, в 1907 году, Каралли станцевала главную партию в «Лебедином озере». Ей было 17 лет. Конечно, этого бы не случилось, если бы в нее не верил главный балетмейстер и художественный руководитель Александр Горский. Критика отмечала, что юной балерине не вполне удалось справиться со всеми сложностями этой партии. Тем не менее известный критик Андрей Левинсон на ее дебют написал: «Она танцевала свою красоту. Каждый танец ее был рассказом прекрасного тела о себе самой. Шедевром была она сама, и не важно, как она танцевала». Получить такой отзыв в самом начале пути от маститого критика – дорогого стоило. Любопытно, что Левинсон с первой рецензии угадал суть дарования Веры Каралли. Красота, граничащая с экзотичностью, была настолько совершенной, что становилась основой ее ролей. Но помимо красоты была и большая работа самой артистки. В ней была индивидуальность, изюминка – и именно эту изюминку ценил в ней Горский: ценил и доверял танцевать во многих своих спектаклях.
На фотографиях мы видим невероятной красоты балерину. Ее позы очень точны, а жесты и положение рук немного недосказаны, как будто фотографу удалось поймать неуловимое. В те годы, чтобы сделать фотографию, требовалось застыть в одной позе и простоять достаточно долго. Вера, однако, умела эффектно встать, знала, как повернуть голову, чтобы получилось выразительно. Она чувствовала позу и была неотразима в адажио. Ей повезло: уже в первый сезон сложился удачный дуэт с танцовщиком Большого театра Михаилом Мордкиным. Как партнер он был для нее незаменим – его надежные руки поправляли и недостаток техники, и некие несовершенства. Но Вера Каралли умела буквально петь телом: все отмечали, что у нее невероятно пластичный корпус и очень красивые руки. Наверное, в наше время она бы идеально подошла к хореографии такого мастера, как Фредерик Аштон, или была бы потрясающей в «Даме с камелиями» Джона Ноймайера, где не требуется особое техническое совершенство, но должна быть совершенная пластика и выразительность всего тела, есть драматургия, есть актерская игра.
В начале ее карьеры произошло еще одно интересное событие. Дело в том, что в то время каждая пачка состояла не менее чем из семи слоев накрахмаленной марли и сверху была покрыта тюником. Легкой и тоненькой Вере Каралли такой костюм был тяжеловат. Но изменить что-то в Императорском театре – немыслимая революция. Стоит вспомнить историю всемогущей Матильды Феликсовны Кшесинской, когда она рискнула внести изменения в костюм, и директор Императорских театров Всеволожский сделал ей выговор. Всесильная Кшесинская воспользовалась своими связями, выговор был снят, а Всеволожский подал в отставку. Спустя несколько лет подобная ситуация повторилась в Москве с Верой Каралли. Благодаря благосклонности Александра Горского, который вступился за балерину, Каралли получила возможность сделать сценические костюмы другими. Она отказалась от длинных юбок, и все было перешито по ее вкусу.
После первого успешного сезона в Большом театре молодая балерина одну за другой стала получать партии: она танцевала в балетах «Дон Кихот», «Дочь фараона», «Жизель», «Тщетная предосторожность» и, наконец, в «Спящей красавице» и «Раймонде». Балеты очень сложные, и ради обожаемой Веры хореограф упростил текст некоторых партий. Опять невероятное событие – в Петербурге это было бы невозможно. Но удаленность от двора и благосклонность главного балетмейстера давали Каралли возможность танцевать упрощенные партии. Горский поменял хореографию, но не только чтобы облегчить любимой танцовщице исполнение сложных партий, но и потому, что ценил в Каралли актерский драматический дар и понимал, что ее существование на сцене – важнее технических элементов. Однажды Каралли попросила научить ее делать фуэте, на что Горский сказал: «Я готовлю артистку, а не циркачку».
Творческое общение балерины и хореографа длилось многие годы. В школе, потом четырнадцать лет в театре, где Каралли ежедневно посещала класс Александра Горского, репетировала и танцевала в его балетах. Эта совместная работа позволила Каралли утверждать: «Никто не знал его так, как я. Кроме меня никто так точно не мог воплотить его замыслов».
Несмотря на то что балерину постоянно упрекали в слабой технике и недостаточной подготовке, критики всегда хвалили ее за актерское мастерство, за личный глубокий подход к каждой роли, за невероятную музыкальность и пластику. А сам Горский придавал особое значение актерскому рисунку. Возможно, из этого взгляда хореографа на балетное искусство и зародилось то, что потом стало московской исполнительской школой, в которой на первое место выходит драматургия роли. Блистательные звезды московской балетной сцены могли позволить себе смазанные, порой не очень точные остановки после вариаций, но в таких остановках был шарм и непередаваемая актерская сущность.
Можно сказать, что Вера Каралли была истинно московской балериной: в ее исполнении драматическая игра всегда теснила танец. Например, в «Жизели» во время сцены сумасшествия она громко, в голос хохотала. Балерина будто сделала скачок из начала XX века в век XXI, когда в балетном спектакле возможно все – голос, разговор, пение. Уже тогда она позволила себе нововведения, и это был ее личный прорыв, личное открытие, которое имело невероятное воздействие на публику. Зрителям становилось жутко от ее хохота. Директору Императорских театров Теляковскому тоже было жутко от натуралистической игры Каралли, и он попросил ее отменить этот пассаж. Но и без него Каралли была одной из лучших исполнительниц этой знаковой партии в Большом театре в начале XX века.
Карьера Каралли развивалась стремительно, несмотря на то что на сцене в те годы царила Екатерина Васильевна Гельцер – блистательная балерина, оснащенная техникой и шармом, одним словом – балерина ассолюта. Гельцер будто и не заметила прихода новых артисток, хотя вместе с Каралли на сцену вышли Софья Федорова, Вера Мосолова, Александра Балдина, яркие звездочки. Свой первый сезон в театре Вера Каралли закончила как солистка, и это был стремительный подъем по карьерной лестнице.
С самого начала службы в театре Каралли стала героиней светской хроники – такая красавица не могла остаться незамеченной. Как-то за кулисами на опере Делиба «Лакмэ», где она танцевала балетную партию, Каралли разговорилась с Леонидом Собиновым. Собинов – неординарный красавец с дивным голосом и невероятной популярностью, перед которым поклонницы выстилали красную ковровую дорожку от служебного входа в театр до его экипажа, певец, гастроли которого в Ла Скала или Парижской опере были расписаны на годы вперед. Им нельзя было не заинтересоваться, и Каралли осталась слушать оперу до конца. А вскоре получила приглашение на «Евгения Онегина», где Собинов исполнял Ленского и были стихи, которые звучали признанием:
Словом, Собинов потерял голову.
Это было началом их отношений, несмотря на то что Собинов был женат на актрисе Малого театра Елизавете Садовской, сестре знаменитого актера Прова Садовского, и это был не первый его брак. Он оставил семью и начал жить с Верой одним домом: домом, где постоянно велись разговоры о творчестве. Там бывали многие деятели искусства, бывал и Рахманинов.
Собинов брал Каралли в свои турне. Вместе они были в продолжительной поездке по северу Италии, включавшую стажировку в Ла Скала, потом поехали на морские купания в Биаррице. Когда выпадала возможность, Вера Каралли танцевала перед выступлениями Собинова. Удивительно, но почти всегда она исполняла миниатюру «Умирающий лебедь» на музыку Камилля Сен-Санса – ту самую, которую Михаил Фокин поставил для Анны Павловой и которая стала ее визитной карточкой. В то время не существовало закона об авторских правах, и зачастую каждый, кто увидел понравившийся номер или даже балет, мог перенести его по памяти на другую сцену. Так случилось и с «Лебедем». Никакого первенства или эксклюзива за Фокиным и Павловой закреплено не было, и очень многие после того, как Павлова станцевала своего «Лебедя», пытались его повторить. Но… не у всех это получалось.
Увидев «Лебедя», Каралли в буквальном смысле заболела этой миниатюрой и захотела ее станцевать в собственной интерпретации. И это был совершенно другой номер – далекий от замысла Фокина и от исполнения Павловой. Вот отзывы о том, как танцевала «Лебедя» Каралли: «Она вся – трепет, тревожный ветер. Воздушная фигура, чудесные руки, почти касающиеся земли, потухшие агатовые глаза… Чеканный танец глубоко волнует»; «В сравнении с исполнением госпожой Каралли, “Лебедь” госпожи Павловой выглядит грустной прекрасной чайкой». Не умаляя гения Анны Павловой, думаю, что именно Каралли открыла путь будущим балеринам к этой миниатюре, показав, что «Лебедя» можно танцевать по-своему: найти свой образ и создать свою хореографию.
Итак, сопровождая Собинова в его турне, Каралли танцевала «Умирающего лебедя». Самым продолжительным было путешествие по России: Ростов, Новороссийск, Харьков, Киев, затем Сибирь и Забайкалье, были даже в Хабаровске.
По завершении турне Собинова Каралли вернулась в театр и в 1909 году получила волнующее для нее предложение от Сергея Павловича Дягилева – участвовать в первых «Русских сезонах» в Париже. Вместе с партнером Михаилом Мордкиным они танцевали в концертных программах наравне с Анной Павловой, Тамарой Карсавиной, Вацлавом Нижинским. Там же Вера Каралли исполнила партию Мадлен и Армиды в балете «Павильон Армиды», в основе которого лежала новелла французского писателя Теофиля Готье «Омфала». Соперничество с петербуржскими звездами было очень серьезным, но она не потерялась.
Ко всем ее пробам и экспериментам Александр Горский относился очень ревностно. В наше время такая ревность привела бы скорее к тому, что художественный руководитель обделил бы балерину новыми работами, но в истории Каралли и Горского произошло совершенно обратное. Конечно, Горский ревновал Веру к Дягилеву и, пытаясь вернуть ее, предложил очень интересные партии в своих балетах в Москве. Она действительно вернулась и станцевала в постановках Горского «Саламбо», «Шубертиана», а потом и Пятую симфонию Глазунова. К тому времени московская примадонна Екатерина Васильевна Гельцер была уже в возрасте, и ее репертуар должен был перейти к молодым балеринам. А Каралли по-прежнему была любима публикой и любима критикой. Никто не мог остаться равнодушным, увидев этот бесподобный внешний облик, эту невероятную, выдающуюся (как говорили все) актерскую игру. Сама Каралли называла свои сценические работы «Танцами настроения»: «Не ждите от меня головокружительных пассажей и фуэте. Мое сильное место – драматургия и переживания».
Сезон 1910 года открылся в Большом театре балетом «Лебединое озеро». На сцене – Вера Каралли. Известный балетный критик Плещеев, приехавший из Петербурга на открытие сезона, писал: «Балерина набрала в техническом плане, ее грация, округлые руки выше всяких похвал. А в исполнении всегда – одухотворенность. Одним словом, красота поз, выразительность – вот что ценно, и поэтому мы любим госпожу Каралли». Возможно, это как раз то, что сегодня мы теряем в современном балете, с грустью теряем… Именно поэтому хочется иногда возвращаться к воспоминаниям о балеринах, которые танцевали на сцене до нас, чтобы напомнить о том, каким был балет в начале XX века, и не потерять достижения этого балета.
Тысяча девятьсот одиннадцатый год Каралли и Собинов встретили в Петербурге, где Всеволод Мейерхольд поставил на выдающегося певца оперу «Орфей». Это был настоящий триумф лирического тенора: говорили, что это – «оживший Орфей», Собинова так и называли – «Орфей русской сцены». Но отношения между тенором и балериной изменились – они все больше времени проводили отдельно друг от друга. На заре их отношений Каралли мечтала о семье, она готова была даже на время оставить сцену – ей хотелось настоящего семейного тепла, детей. На склоне лет она признается, что ждала ребенка от Собинова, но он решил иначе – отвез ее к врачу. Приговор был страшным: у Веры Каралли никогда не будет детей. Этого она не смогла ему простить. А вскоре узнала о том, что ее многолетний поклонник женился на сестре знаменитого скульптора Веры Мухиной. Каралли осталась одна…
Четырнадцатый год принес неожиданный поворот судьбы: красавица-балерина получила приглашение на съемочную площадку. Это был год всплеска интереса к кинематографу, и, конечно, все было интригующе и увлекательно. Скорее всего, предложение получил Горский как хореограф – поставить танец для очередного фильма, и в качестве исполнительницы он взял свою любимицу – Каралли. Требовалось исполнить испанский танец с перестукиванием каблучков и эффектными падениями на руки партнера. Но Вера Каралли, попав на съемочную площадку, да еще и увидев фильм с участием шведской актрисы Асты Нильсон, который произвел на нее огромное впечатление, так увлеклась этим видом искусства, что захотела попробовать себя в качестве актрисы кино. С этой идеей она обратилась к Александру Ханжонкову, который безостановочно снимал и крутил фильмы в принадлежавшем ему Московском синематографе. В то время с Ханжонковым работал художник Евгений Бауэр. Именно он сразу же оценил невероятные для синематографа возможности молодой балерины: ее отрешенный взгляд перед камерой, который буквально завораживал, изысканные черты лица, прекрасную фигуру, умение владеть телом, выразительные жесты. Она была создана для кино. Успех пришел сразу и был ошеломительным. Двери киностудии Ханжонкова распахнулись перед ней.
Дебют Каралли в кино состоялся в 1914 году в драме с интригующим названием «Ты помнишь ли?»; партнером был Иван Мозжухин. Фильмы следовали один за другим, и все это происходило несмотря на то, что в те годы дирекция Императорских театров по требованию Николая II запрещала артисткам участвовать в киносъемках, в показах одежды и работать в фотоателье. Но для Веры Каралли, так же как и на заре ее балетной карьеры (когда она облегчила балетный костюм), опять сделали исключение. С одной стороны, ей помогала удаленность от императорского Петербурга, а с другой – еще одно обстоятельство: она познакомилась с племянником императора, великим князем Дмитрием Павловичем. Словом, через год с участием уже киноактрисы Веры Каралли вышло целых восемь картин режиссера Петра Чардынина. Названия – невероятные: «Злая ночь», «Хризантемы»…
Часто на экране Вера Каралли танцевала. Как не использовать это блистательное качество артистки? Например, в фильме «Любовь статского советника» она играла танцовщицу Лолу. По сюжету фильма «Умирающий лебедь» героиня Веры Каралли – Гизелла – выступала на сцене с одноименным танцевальным номером, где ее увидел художник-маньяк Глинский, мечтавший написать портрет роковой красавицы. Влюбленный в Гизеллу художник, узнав, что она любит другого, убивает девушку.
В немом кино Каралли создала более тридцати ролей и стала одной из самых популярных и высокооплачиваемых исполнительниц. Она даже исполнила роль Наташи Ростовой в одноименной кинокартине. Тогда за ней охотились сразу несколько кинофирм, которые предлагали контракты один заманчивее другого. Но предприимчивый Ханжонков подписал с ней эксклюзивный контракт, и она работала только в его проектах.
Красавица-балерина, а теперь и киноактриса снова влюблена. Ее избранником стал великий князь Дмитрий Павлович. Он был хорош собой и ценил талантливых женщин из мира искусства, она же – немыслимая красавица из этого мира. Встретившись в Павловске на обеде у подруги Каралли, они поняли, что хотят быть вместе. Он говорил: «В свободное время я приезжал к ней в Москву, мы совершали конные прогулки, обедали в любимом ресторане». Она вспоминала: «Наша связь была удивительной гармонией душевного мира. С Дмитрием я была такой, какая я есть».
В 1916 году ей вдруг показалось, что он охладел к ней. Но вскоре выяснилось, что это совсем не так: просто он был погружен в подготовку очень важного и ответственного события, которым стало убийство Распутина. Дмитрий Павлович вместе с Феликсом Юсуповым обдумывал план этого события. И тогда случилось невероятное – Вера Каралли, балерина, стала участницей этой драмы: Дмитрий Павлович посвятил Веру в планы убийства и просил ее помочь. Она написала анонимное письмо Распутину с просьбой о тайной встрече. Ее письмо наряду с другими обстоятельствами стало одним из звеньев длинной цепочки причин, по которым Распутин в тот декабрьский вечер 1916 года пришел в Юсуповский дворец. А накануне балерина Вера Каралли давала сольный вечер в Петербурге, и это стало ее последним выступлением в России. В ту роковую ночь в Юсуповском дворце была Вера и еще одна женщина, о которой никто из мужчин, участников этой трагедии, не обмолвился. Как бы там ни было, над Каралли стали сгущаться тучи. Ее больше не снимали, она почти не танцевала. Что делать? С сольными программами она поехала в провинцию и там узнала о революции. Из Одессы на пароходе Вера перебралась в Стамбул, оттуда – в Европу. В России ее следы практически затерялись. Так одна роковая ночь абсолютно изменила жизнь балерины.
После 1918 года в России распространился слух о смерти Каралли. Критик Андрей Левинсон даже написал некролог, в котором воспевал ее. Это было подведение итогов ее творчества, ее жизни, ее работы в России. Он снова писал о том, что какую бы роль она ни исполняла, она танцевала свою красоту.
Но Вера Каралли не умерла – она пыталась найти себя в новой жизни. Танцевала в разных труппах, возвратилась к Дягилеву и исполнила у него Половчанку в «Половецких плясках», станцевала главную партию в балете «Тамар». Но… у Сергея Павловича уже была примадонна – Тамара Карсавина, и соперничать с ней Вере Каралли было невозможно.
В Париже она встретилась со своим возлюбленным – великим князем Дмитрием Павловичем, но нашла его в ужасно подавленном состоянии. Он постоянно чувствовал свою вину: связал убийство Распутина и революцию одной нитью и упрекал себя в том, что был участником расправы. Появление Каралли напомнило ему о той роковой ночи. Их пути разошлись, но Вера всегда следила за его судьбой. Она дружила с Коко Шанель и именно от нее узнала, что Дмитрий Павлович женился на богатой американке.
В начале 1930-х годов Вера Каралли переехала в Бухарест руководить балетной труппой Румынской оперы, потом – в Литву, где создала первую литовскую балетную студию (именно из нее родится будущий литовский балет). В 1940-х годах она обосновалась в Вене. Просто давала уроки и жила недалеко от Штатс Опер (ныне – Венская государственная опера).
Одно из самых главных и известных нам событий на закате ее жизни случилось в 1965 году, когда в Вену на гастроли приехал Большой театр. На сцене шла «Жизель», где главные роли танцевали мой отец, Марис Лиепа, и прекрасная балерина Большого театра Марина Кондратьева. Среди публики была Вера Каралли. Отец вспоминал: «Мы все ждали – солисты, кордебалет, гримеры и костюмеры. Ждали появления этой балерины, которую знали по истории балета. Многих удивило и взволновало, что она присутствует в зале, потому что думали, что ее нет в живых. И вот пришла женщина: худенькая, седая, в меховой накидке, которая все соскальзывала с ее плеча. Она тепло, со слезами на глазах поздравляла всех, что-то ласковое говорила каждому, пожимала всем руки и пригласила нас в гости. Потом подошла к Марине Кондратьевой, взяла ее руки, прижалась к ним, склонилась в долгом поклоне».
Марина Викторовна Кондратьева пишет: «Это было какое-то очень глубокое для всех нас мгновение. Мы только потом поняли, что за этим стояло. Марис взял ее на руки, приподнял, и все с интересом обступили нас. Никто не расходился».
Из воспоминаний моего отца: «Мы действительно вскоре пришли к ней. Григорович, Плисецкая, Бессмертнова, педагог Большого театра Тамара Петровна Никитина и многие ведущие актеры. Вера Каралли много и интересно рассказывала обо всем – о своих ролях, о том, как попала в труппу Дягилева, как оказалась за границей. Она сказала, что с русскими не встречается – слишком тяжело, что много перенесла во время революции. Вспоминала, как выезжали – бегом, в чем были, как погрузились на пароход и отправились. Потом стала рассказывать свою историю о Распутине. Говорила она старорусской литературной обходительной речью.
Спектакль наш ей очень понравился. Она сказала:
– С моих времен я такого спектакля не видела. Это то, о чем я всю жизнь вспоминаю. Я никогда не думала, что посмотрю спектакль Большого театра. И вот, несмотря на свою хворь, я все-таки пришла.
Она показала нам, как делала диагональ в первом акте, и мы увидели, что у нее очень хороший подъем, очень красивая ступня. Мы долго сидели, за полночь, но она нас не отпускала. Говорила, что мечтает приехать, но никак не решится. Что живет одна и все вспоминает какого-то близкого ей человека, мужчину, которого уже нет. Мы договорились, что она еще к нам придет, но больше она не пришла».
В последние годы жизни Вера Каралли все-таки решилась и написала несколько прошений в Советский Союз: «Я, Каралли Вера Алексеевна, прошу разрешения вернуться на Родину. Здесь я все время чувствую себя чужой…» Мой отец, Марис Лиепа, много усилий приложил для того, чтобы это стало возможным. Через Всесоюзный дом актера для нее приготовили место в Доме ветеранов сцены. В начале ноября 1972 года она, наконец, получила советский паспорт, а в середине ноября ее не стало…
Трудно сказать, как сложилась бы жизнь Веры Каралли в Советском Союзе, но Провидением ей не суждено было вернуться на родину. Память о ней, о ее творчестве и неземной красоте осталась. В середине 1950-х годов ей передали книгу о московском училище, которое она окончила. Она не нашла в ней ни одного упоминания о себе и очень расстроилась: «Я ведь с Гельцер вела вместе репертуар. За что? Почему?!» Что за вопрос, ведь это было совсем другое время. Она была эмигранткой, нездешней, и поэтому сегодня мы так мало знаем о Вере Каралли: многие годы ее имя вычеркивалось из истории нашего балета. Так что рассказ о Вере Каралли особенно важен. Вспоминая эту замечательную балерину и удивительную женщину, мы должны признать: она по праву занимает достойное место в истории русского московского балета.