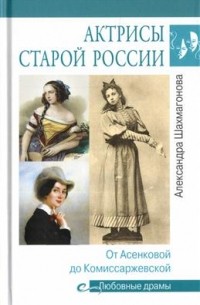Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
От «Собора Парижской богоматери» осталось только название
Пробить пьесу на сцену Александринки в точном соответствии сюжету романа Виктора Гюго оказалось невозможно, ведь фоном главного сюжетного построения служат революционные потрясения во Франции в конце XVIII века.
Император запретил пьесу.
Министр императорского двора генерал-адъютант светлейший князь Волконский Петр Михайлович (1776–1852) ответил инициаторам постановки пьесы:
«23 мая 1837 года.
Государь император, усмотрев из репертуара, что в бенефис актрисы Каратыгиной назначена пьеса “Эсмеральда”, высочайше повелеть соизволил оную не давать, а вместе с тем подтвердить, чтобы все переводимые с французского языка пьесы сего рода, прежде постановки оных на сцену, представлены были через меня его величеству.
Но в театре нашли выход. Государю представили пьесу, которую написала по знаменитой книге Виктора Гюго немецкая актриса и драматическая писательница Шарлотта Бирх-Пфейфер (1800–1868). Написала, что называется, на потребу публике. Такова уж была эта актриса-сочинительница. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона о ней сказано:
«В своих драматических произведениях, большей частью сентиментального характера, она с большим умением приноровлялась ко вкусам публики и обнаружила хорошее знакомство со сценическими эффектами…»
Перевела пьесу на русский язык ведущая русская драматическая актриса пушкинской эпохи Александра Михайловна Каратыгина (1802–1880), дочь знаменитой танцовщицы Евгении Ивановны Колосовой (1780–1869) и жена актёра-трагика Василия Андреевича Каратыгина (1802–1853).
Перевод делался так, чтобы пьесу всё-таки разрешили. Государь пролистал то, что осталось от того, что было у Виктора Гюго, и, учитывая настоятельные просьбы театралов, решил дозволить постановку, однако после редактирования текста. Редактуру он поручил драматургу и искусствоведу Степану Александровичу Гедеонову (1816–1878), выпускнику Петербургского университета, назначенному в 1835 году секретарём к президенту Императорской академии наук С.С. Уварову, а впоследствии известному как первый директор Императорского Эрмитажа, вступивший на эту должность в 1863 году, и особенно как директор Императорских театров с 1867 по 1875 год.
Завершив порученную работу, написал отчёт государю, который и подал через министра двора. В отчёте указал, почему пьеса может быть допущена к постановке. В новом варианте было так:
«1) Действие происходит не в Париже, а в Антверпене, не при Лудовике XI, а при Герцоге, которого имя не упоминается.
2) Вместо собора Notre Dame de Pari декорация представляет Антверпенский магистрат, куда скрывается Эсмеральда.
3) Вместо духовного лица сделано светское – синдик.
4) Фебус, по роману развратный молодой человек, заменен нравственным и платонически влюбленным женихом.
5) Возмущений на сцене никаких не представляется. В 4-м действии говорят о намерении цыган освободить Эсмеральду из магистрата, в котором она находится не по распоряжениям правительства, но вследствие похищения ее Квазимодо.
6) Окончание пиэсы благополучное, Эсмеральда прощена, и порок в лице синдика Клода Фролло наказан.
Вообще в пиэсе и в разговоре действующих лиц соблюдено должное приличие, сообразное с духом русского театра».
Император познакомился с отчётом и написал резолюцию:
«Ежели так, то препятствий нет, ибо не та пьеса, а только имя то же».
Ну что ж, не мытьём, так катаньем… Пьесу стали готовить к постановке и главную роль цыганки Эсмеральды поручили Варваре Асенковой.
Конечно, это было произведение, ничем уже не похожее на то, что создал Виктор Гюго. Возмущённый такими переделками, критик Аполлон Григорьев писал: «Но боже мой, боже мой! Что же такое сделали из дивной поэмы Гюго? Зачем изменили ничтожного Фебюса в героя добродетели? Зачем испортили сентиментальностью ветреную, беззаботную Эсмеральду, девственную Эсмеральду, маленькую Эсмеральду».