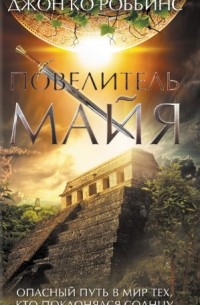Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава 7
Следующие полтора года Гонсало продолжал много работать и мало говорить. Он почти не разговаривал даже с Эронимо. Гонсало был солдатом, и жизнь у него всегда была нелегкой; он привык делать то, что надлежало, в ожидании дней или хотя бы часов, когда можно будет отдохнуть и поразвлечься. Индейцы использовали его главным образом для работы на полях: он вырубал и выжигал растения, после чего убирал с полей стволы и ветви деревьев.
В тот период, когда нужно было вырывать сорняки, Гонсало приходилось часами находиться под палящими лучами солнца. Его тело по-прежнему было крепким и мускулистым, и, хотя сознание солдата иногда начинало блуждать, отвлекаясь от нудной, изнурительной работы, он не задавал себе лишних вопросов, а просто старался побольше наблюдать. Гонсало полагался на свою физическую силу, здоровье, инстинкты и умение делать вид, будто ему все равно, убеждая в этом и других людей, и самого себя.
Эронимо, чьи неподдельное дружелюбие и кротость способствовали тому, что отношение к нему со стороны индейцев улучшилось, стали привлекать к работе в домах вождя Акин-Куца и прочей местной знати. Священник поддерживал огонь в очаге внутри жилища и в костре возле него, приносил дрова, чистил домашнюю утварь и мыл посуду после еды. Он также вырывал сорняки на маленьких огородах возле домов.
В хижину к испанцам подселили Ах-Кун-Тцеля – раба, социальный статус которого в этом селении был таким же низким, как и у них. Он был из Шоктума – селения, вождем в котором был Набатун-Сеель, – и оказался здесь, попав в плен. Отправившись однажды на охоту, Ах-Кун-Тцель отошел от своего селения слишком уж далеко. Это было ошибкой.
Ах-Кун-Тцель научил испанцев майяскому языку и как-то рассказал о снах, которые видел накануне того дня, когда его схватили и увели в рабство. В этих снах за ним гнался гигантский тапир, и потому Ах-Кун-Тцелю явно не следовало отправляться наутро на охоту. Однако он решил рискнуть и ограничился лишь тем, что с особой тщательностью помолился на рассвете богу охоты. Он также помолился духу убитого им оленя, прося прощения и объясняя, что сделал это только ради мяса. Ах-Кун-Тцель думал, что благодаря этим молитвам на него обратят внимание доброжелательные боги леса, но, по всей видимости, ему не удалось задобрить всех, кого было необходимо. Он считал наказание справедливым. Индеец решил, что будет трудиться, и работал так старательно, насколько это было необходимо для того, чтобы его не постигла еще более горькая участь.
Как и у всех рабов, которых Гонсало и Эронимо видели раньше, голова Ах-Кун-Тцеля была обрита. У него отняли украшения, и без них его изрезанные уши напоминали лоскуты. Перьев в одежде индейца не было, однако по его татуировкам было видно, что и в своем родном селении он был человеком с невысоким социальным статусом. Его щеки и лоб были покрыты неровными геометрическими узорами; на одной руке индейца был изображен стебель кукурузы, на другой – игуаны. Грудь Ах-Кун-Тцеля украшал ягуар с открытой пастью. Раб-индеец был худым и подвижным, с проницательным взглядом, от которого, казалось, ничего не ускользало.
По вечерам испанцы с помощью Ах-Куна практиковались в майяском. Гонсало и Эронимо уже освоили некоторые фразы, необходимые для того, чтобы как-то реагировать на приказы, которые им отдавали. Слушая рассказы своего нового товарища, испанцы постепенно начинали понимать его все лучше и лучше и сами учились разговаривать на майяском. Общение с Ах-Куном и другими индейцами со временем позволило Гонсало и Эронимо довольно хорошо освоить их язык. Они уже редко говорили на испанском – даже тогда, когда оставались наедине.
Оказавшийся, как и испанцы, вдали от дома, без каких-либо реальных шансов когда-нибудь вернуться в родное селение, Ах-Кун стал воспринимать Гонсало и Эронимо как друзей и начал учить их некоторым полезным навыкам. Он показал им, как изготавливать крепкие сандалии, и объяснил, какие растения можно употреблять в пищу и чего следует опасаться и избегать. Испанцы узнали, как собирать соль в черепаший панцирь, давая возможность воде из лагуны испариться; как охотиться на индюков и куропаток в редкие часы досуга; как изготовить духовую трубку толщиной в три пальца и длиной в шесть ладоней.
Хотя бóльшая часть их разговоров касалась обсуждения этих незатейливых навыков, иногда они беседовали и на отвлеченные темы. Однажды вечером после ужина испанцы и индеец уселись втроем на поленьях возле костра, горевшего перед их хижиной. Смеркалось; после того как солнце исчезло за плотной стеной окружавших их джунглей, сумерки очень быстро сгустились. Как часто бывало в это время суток, воздух был совершенно неподвижным, и потому дым от их костра поднимался к небу почти вертикально. Когда Ах-Кун начал рассказывать историю происхождения своих соплеменников, на его лице – обычно бесстрастном – промелькнул энтузиазм и даже появилась едва заметная улыбка.
– Ашка йет хунцан куалилти а эб майя лахбиль каль ок йу-йэб (В нынешние времена майя все время сражаются), – сказал он. – Акин-Куц, вождь этого селения, то и дело воюет с моим господином Набатун-Сеелем, пусть даже они оба должны подчиняться халач-винику, правителю Четумаля – города, о котором я вам рассказывал. Он стоит у большой бухты к югу от того места, где вы ловите рыбу. А еще Шоктуму приходится отражать набеги, которые враги совершают по морю с севера – из города-крепости Тулум. Однако у майя так было не всегда.
– А как же было раньше? – спросил Гонсало с интересом, наклоняясь вперед.
– Задолго до того, как родился мой отец – и его отец, – все майя подчинялись и платили подати только одному господину. И везде был мир – от Четумаля до моря на западе.
– Именно тогда и построили эти храмы?
– Их построили во времена великих правителей. Иногда, видите ли, бывало больше одного правителя, но затем, когда появился Кулькулькан, владыка снова стал один.
– А что произошло потом? – спросил Гонсало. – Эти храмы ведь пришли в упадок.
– Было очень много бед. Были войны. Я слышал, что разразилась ужасная буря, пришла страшная болезнь, начались неурожаи. Не думаю, что все это случилось сразу. Я знаю лишь то немногое, что мне рассказали. Жрецы… у них обо всем этом записано в книгах – священных книгах, в которых фиксируется все, – но читать их умеют лишь они сами. Только им одним известно, почему нарастает и уменьшается луна, появляются и исчезают звезды, сменяют друг друга времена года. Только им известно, когда нужно сажать посевы, а когда собирать урожай. Обо всем этом жрецам сообщили боги в древние времена.
– А ты не читаешь этих священных книг? – спросил Эронимо. – Может быть, тебе читал их кто-нибудь?
– Нет. Они предназначены лишь для главного жреца и предсказателей. Только им надлежит знать о том, как течет время, о богах и о том, как живет человек…
– Обладая этими секретными знаниями, они получают власть над вами, – взволнованно перебил индейца Эронимо. – Разве ты этого не понимаешь?
– Власть жрецам дают боги – Чаки… Они изображены на здешнем храме. Чаки приносят нам дождь. Четыре Бакаба поддерживают весь мир. Великий Ицамна защищает нас от ягуара и злых ночных ветров. А солнце в небесах – то есть Кинич-Ахау, который был на земле охотником, женился на луне и вырвал один глаз, когда люди сказали, что не могут спать при таком ярком свете, – делает так, чтобы наши посевы хорошо росли.
– А еще иссушает и сжигает их, да? – усмехнулся Гонсало.
Он провел на кукурузных полях достаточно времени и знал: этого бога солнца скорее боятся, чем любят.
– Да, именно так, – энергично закивал Ах-Кун. – Именно поэтому нам и нужны жрецы. Боги ведь научили их, как правильно проводить ритуалы и сделать так, чтобы наша кукуруза росла быстрее. Благодаря этому у нас начинается процветание.
– А-а, ну да, конечно, – сказал Эронимо, качая головой. – Это происходит благодаря жертвоприношениям.
– Думаю, мы уже достаточно на них насмотрелись, – добавил Гонсало.
– Бывают времена, – стал пояснять Ах-Кун, – когда у богов – особенно у бога солнца – появляется потребность в крови. Кинич-Ахау должен путешествовать по небу к регионам, расположенным в низине. Когда его тело на небе, у него такая форма, как вы видели на храме в моем селении. Однако когда Кинич-Ахау оказывается внизу, в ночи, он представляет собой лишь скелет и иногда ему нужна кровь, чтобы восполнить самого себя.
Эронимо и Гонсало недоверчиво молчали, и Ах-Кун добавил:
– Жрецы позаботились о нас. У нас хорошие посевы. Жрецы знают, что нужно богам.
Эронимо не мог больше сдерживаться:
– Это – сам дьявол. Неужели ты этого не понимаешь? В джунглях нет никаких богов, жаждущих крови! Есть только один Бог, и это Бог любви и доброты. Он Бог и для испанцев, и для майя.
– А этот бог могущественный? – спросил Ах-Кун.
– Да, конечно, – ответил Эронимо. – Он – всемогущий.
Ах-Кун посмотрел на земляной пол хижины, на изношенные набедренные повязки своих собеседников и на их обритые головы. Встретившись взглядом со священником, он спросил:
– Тогда почему он сделал тебя рабом вождя Шаманканна?
Гонсало повернулся к Эронимо и стал молча ждать ответа. Священник посмотрел вниз, на потрепанный молитвенник, как всегда, засунутый за край его набедренной повязки, и прикоснулся мозолистыми ладонями к обложке.
Воцарившееся молчание напоминало рябь на поверхности темного водоема. Казалось, оно расходилось увеличивавшимися в диаметре кругами, выйдя сначала за пределы хижины, а затем и за пределы селения и распространяясь все дальше в лес, пока его наконец не нарушил Эронимо.
– Я не знаю, почему Он оставил нас здесь, – медленно и тихо произнес священник. – Но уверен, что такова Его воля.
Он посмотрел сначала на Ах-Куна, а затем на Гонсало. Тот отвел глаза и стал глядеть куда-то в лес.
– Возможно, Он нас испытывает. Вера слишком уж легка, если никогда не подвергается испытаниям.
– Это серьезное испытание, – произнес Ах-Кун.
С этого дня Эронимо избегал дискуссий на религиозные темы, которые иногда возникали по вечерам между Гонсало и Ах-Куном, после того как индеец рассказывал что-нибудь еще о своих богах и о том, как им можно угодить.
По утрам Гонсало видел, как Ах-Кун встает со своей циновки и идет поприветствовать восходящее солнце. Каждый день он клал маленький кусочек копала в каменную горелку и поджигал ее при помощи тлеющего уголька, взятого из вчерашнего костра. Затем, поджав под себя ноги, индеец тихонько сидел, наблюдая за тем, как дым янтарного цвета устремляется в небо, словно бы приветствуя рассвет. Ах-Кун объяснил Гонсало, что при этом молится и просит своих предков спасти его. Он молился также и Ицамне, повелителю всех богов, прося дать ему силы, которые позволят выдерживать жизнь раба.
Ах-Кун рассказал Гонсало, что четыре тропинки в четырех углах селения соответствуют четырем Бакабам, которые, действуя согласованно, поддерживают четыре угла земли и неба. Он также сообщил, что каждое направление и каждый Бакаб имеет собственный цвет.
– Восток – красный, как восходящее солнце, – сказал индеец, показывая в сторону моря. – Запад – черный, потому что туда уходит ночь. У севера цвет белый, а у юга – желтый, но я не знаю почему.
Ах-Кун рассказал испанцам, что во время жертвоприношений четыре жреца, удерживающие жертву, могут окрашивать свои тела в эти четыре цвета. А еще он объяснил, что четыре Чака – боги дождя – поднимаются каждый год на небо и льют воду из своих гигантских сосудов, а их помощники – лягушки – объявляют о начале сезона дождей.
Гонсало внимательно слушал Ах-Куна. Испанцу интересно было выстроить для себя из фрагментов его рассказов более-менее целостную картину странных верований туземцев. Это давало пытливому уму солдата новую пищу для размышлений в те долгие часы, когда он занимался монотонной работой под палящими лучами солнца. Слушая вечером у костра рассказы Ах-Куна и наблюдая за тем, как темнеет лес, Гонсало с усмешкой думал о том, как сильно отличаются представления местных жителей об окружающем мире от того, что он узнал в юности в Испании. Он, конечно же, всегда воспринимал все это как нечто само собой разумеющееся и относился к нему даже с каким-то равнодушием – как к чему-то обыденному.
Эронимо полагал, что слушать индейца не стоит. От знакомства с верованиями майя нет никакой пользы. Вообще никакой. Когда Ах-Кун начинал свой рассказ, Эронимо устраивался в дальнем углу хижины и принимался за чтение молитвенника.
Иногда по вечерам Ах-Кун расспрашивал испанцев об их жизни – о том, какой она была в прошлом. Эронимо в подобных случаях присоединялся к разговору и рассказывал о черепичных крышах своей родной Эсихи и о церкви, в которой он молился еще юнцом. Он опускал в своих рассказах то, что вызывало у него неприятные воспоминания – например, насмешки со стороны подростков постарше, которым было непонятно его религиозное рвение. Вместо этого Эронимо говорил о том, как интересно ему было узнавать что-то новое, читать священные книги и черпать силу в лоне Церкви. А еще он рассказывал о том, как благодаря религии смог лучше понять мир.
Иногда Эронимо говорил о своей матери. Он все еще хорошо помнил ее красивое лицо с резко очерченными чертами и черную шаль, которую она постоянно носила. Мать часто улыбалась ему, и ее благочестивое – а порой даже суровое – лицо смягчалось при виде младшего сына. Своего отца Эронимо помнил лишь смутно. Тот был рыбаком, а рыбаков частенько подолгу не бывает дома. Тем не менее воспоминания о тех днях, когда их семья собиралась вместе, были счастливыми.
Гонсало рассказывал о своей юности, проведенной в Палосе – городе моряков и картографов. Лучше всего ему запомнилось то, как он, будучи еще маленьким мальчиком, пошел с отцом на пристань и увидел там три небольших судна, отправлявшихся – как выразился его отец – в безнадежное и абсолютно бессмысленное плавание с целью найти морской путь на Восток, направляясь при этом в противоположную сторону, то есть на запад. Эта картина всплыла в памяти Гонсало, когда впоследствии он с удивлением узнал, что те три судна открыли Новый Свет, о котором раньше никому ничего не было известно. На его отца – простодушного, но энергичного колесника – это открытие произвело очень сильное впечатление.
Гонсало говорил и о том, как стал солдатом и отправился в Новую Испанию, и о своей службе под командованием Бальбоа. Однако он никогда не делился болезненными для него воспоминаниями о набегах на индейские селения, совершавшихся на открытых испанцами новых землях. Опустошение и смерть, которую несли с собой испанские солдаты, уже начинали стираться из его памяти.
В начале сезона посевов вождь Акин-Куц умер. Его родственники и прочие обитатели селения несколько дней постились, скорбели и причитали, а затем тело усопшего старика кремировали. Пепел засыпали в большую полую глиняную статую. В доме сына почившего вождя, Ах-Май-Куца, соорудили раку. Отныне новый вождь будет ежедневно молиться духу своего родителя.
Ах-Май успел проникнуться благосклонностью к Эронимо и разрешил ему выполнять работу исключительно в его, Ах-Мая, доме и саду – в частности, приносить дрова и воду. Молодой вождь также заметил, что Эронимо никогда не проявляет интереса к местным женщинам. Испанский священник и в самом деле, как правило, смотрел в землю, оказываясь рядом с туземками, – точно так же, как они сами поступали в присутствии мужчин. Однако даже при этом Эронимо иногда чувствовал, что младший брат вождя и еще один домочадец мужского пола находятся неподалеку и внимательно за ним наблюдают.