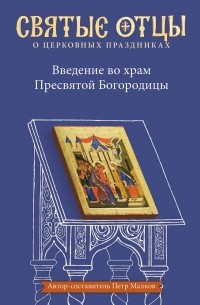Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Введение во храм Пресвятой Богородицы: спасительное и духовное значение события
В день Введения во храм в пространство великой ветхозаветной святыни вступила маленькая трехлетняя Девочка. Однако, по мысли святителя Германа, патриарха Константинопольского («Слово на Вход в Храм Пресвятой Богородицы»), Она была лишь «по виду младенец, но на самом деле – Божие Орудие» в деле нашего спасения. Роль Пречистой Девы в нашем спасении, в исцелении всего мироздания от последствий греха первых людей – поистине огромна. Как восклицает в «Слове на Введение Приснодевы во храм» святитель Тарасий, патриарх Константинопольский, с любовью и благодарностью обращаясь к Богородице: «Господь с Тобою, Сущий прежде Тебя, из Тебя, и с нами!» А святитель Григорий Палама в «Слове на Введение во Святая святых Пречистой Владычицы нашей Богородицы» говорит: «Кто возвестит величия Твоя, Дево? Во всеуслышание возвестит все хвалы Твоя (Пс. 105:2 по LXX), Богоотроковице? Ты явилась Божией Матерью; соединила ум с Богом, соединила Бога с плотью; Бога соделала Сыном Человеческим, а человека – сыном Божиим… На Ее основании и благодаря Ей явилось обновление мира, и благодаря Ей Небо открыло нам врата, проливая не стремительный и страшный и несущий гибель всякому дыханию дождь, но – росу словес учения Духа, общее наслаждение наших душ, превышающий ум и великий и неприступный Свет (ср. 1 Тим. 6:16), просвещающий всякого человека, приходящего в мир (ср. Ин. 1:9)». Святитель Феофан Затворник в «Слове втором на Введение во храм Пресвятой Богородицы», так же возвышенно прославляя этот праздник, говорит: «Как зарница, предшествующая солнцу, явлением своим указывает на скорое явление солнца, так Пресвятая Дева – Богоизбранная Отроковица, Своим вхождением во храм предвозвещает всем Христа, сим действием всем велегласно вопия: „се грядет, се грядет обетованный и чаемый Избавитель всех – Солнце Правды, Христос, Бог наш!“».
Именно Она – Пречистая Дева – была от века предузнана Самим Богом Словом как Его будущая Матерь. Сын Божий еще прежде создания мира уже знал – по Своему совершенному всеведению – и то, что Адам и Ева падут грехом, и то, что ради спасения и их самих, и их потомков от власти сатаны, греха и смерти Ему предстоит воплотиться, стать истинным Человеком, родившись от Этой Пречистой Девы. Именно Марии, стяжавшей всю возможную полноту добродетелей, жившую святой и чистой жизнью, и было определено – еще прежде сложения мира – стать Матерью Самого Бога по Его человечеству. Это определение было, по мысли святителя Григория Паламы, подлинным предвечным «таинством» Богородицы, сокрытым в благом Божественном замысле о грядущем Домостроительстве спасения. Как говорит об этом в «Беседе на праздник Введения» Палама, «Бог предназначил Ее прежде веков ко спасению и воззванию рода нашего: Она избирается из числа от века сущих, из всех славных, как Своим благочестием и благоразумием, так и полезнейшими богоугодными нравами, словами и делами» – именно Та, «Которую мы [сегодня] прославляем и чудесное Введение Которой во храм, во Святое святых, ныне празднуем». Подобным же образом рассуждает и святитель Тарасий, патриарх Константинопольский, восклицающий: «Ныне предуготовляется Жилище прежде всех веков предопределенного и имеющего открыться в последние времена Таинства [Воплощения]. Ныне Рожденная от Иоакима и Анны приносится ими по обетованию в честный дар Тому, Кто затем благоволил от Нее родиться».
Вхождение Пречистой Девы в храм оказалось важнейшим шагом навстречу спасительному Вочеловечению Сына Божия, как бы приближая собой это событие: потому-то, по мысли святителя Григория Паламы, празднуя Введение во храм Пресвятой Богородицы, мы тем самым прославляем и «память того, что некогда содействовало этому Воплощению». Ведь Пречистая Дева входила в тот день в храм именно ради того, чтобы, пребывая здесь в последующие годы, достичь высоты предельной личной святости, обрести опыт Богообщения, стяжать дар молитвы и богомыслия: по слову кондака праздника, «воспитаться Господу».
Нравственная чистота Богоматери, святость Ее жизни были обязательным условием того, чтобы от Нее смог родиться Сын Божий – ведь Бог не соединяется ни с чем нечистым. По слову святителя Григория Паламы, «для зачатия и Рождения Подателя чистоты была нужна совершенно непорочная и пречистая Дева». Именно Ей и предстояло, по выражению святителя Германа, подобно «ничем не запятнанному Свитку», оказаться «исписанной не рукой человеческой, но украситься златыми письменами Духа», Который сойдет на Нее в день Благовещения и положит начало пребыванию в Ее чреве грядущего к нам Богомладенца Христа.
Начало этого спасительного служения Богоматери Господу коренится в Ее Собственном Рождестве; потому-то святитель Герман в «Слове на праздник Введения» и восклицает, обращаясь к Ней: «Благословенно время, в которое Ты явилась». Ведь до Ее Рождения ни одна из принадлежавших богоизбранному народу дев не смогла достичь той высоты духовной жизни и нравственной чистоты, чтобы оказаться достойной и способной стать Матерью Бога. Лишь Она, Мария, явившаяся на свет спустя много тысячелетий после грехопадения Адама и Евы, единственная из всех дев, благодаря Своей личной святости, оказалась готова родить в мир Сына Божия. Как говорит об этом в «Слове на Введение во Святая святых Пречистой Владычицы нашей Богородицы» святитель Григорий
Палама, Бог соделал Своей Матерью «по Своему благоволению» именно Ее – «Приснодеву, явившуюся, так сказать, Дворцом Его Самого, возмогшую, по причине совершеннейшей чистоты, вместить телесно полноту Божества, и не только вместить, – о, величайшее чудо! – но и родить Его и сроднить с Божеством всех людей, бывших как прежде Нее, так и после Нее».
Однако Пречистая Дева, будучи лично свята и достигнув предельного нравственного совершенства, в то же время, конечно же, не была свободна и от всех тех последствий первородного греха, под властью которых пребывал со дня грехопадения Адама человеческий род. И над Ее природой тяготел прародительский грех, и Она пребывала под властью истления. Свидетельствуя об этом, святитель Григорий Палама в «Слове на Введение во Святая святых» подчеркивает, что, несмотря на всю Ее личную святость и чистоту и на то, что Ей предстояло стать Матерью Божией, Она по Своей людской природе не получила никаких особых дарований и совершенств, которые отличали бы Ее от прочих женщин, возвышали бы Ее над ними, выводили бы Марию из-под власти первородного греха. Как говорит Палама, «не значит, что на том основании, что Она имела стать Матерью Божией, Она получила какие-нибудь особые дарования Ее природе, которые не были свойственны природе всех женщин». Приобретенное Богоматерью нравственное совершенство оказалось именно плодом Ее личного духовного и молитвенного подвига, а не некоего сверхъестественного Божественного дара. Все, что было в Ней благого и святого, Она «приобрела», потому что «явила Свой ум покорным Богу», потому что Она с самых ранних детских лет «восприняла в Себя изобильную горнюю премудрость». В этом смысле пребывание в храме отроковицы Марии должно было одновременно и помочь Ей достичь высоты духовной жизни, и оградить Ее от многочисленных искушений и от пагубного воздействия внешнего мира, от греха. Как говорит в «Слове на Введение во храм Пресвятой Богородицы» святитель Георгий Никомидийский, «и не пристало Чистейшей, чем сама эта скиния, пребывать среди скверн мира, но надлежало перенести Ее в место недоступное его соблазнам, для того чтобы Она получила там залог благословений и была там воспитана таинственной манной от руки ангела. Подобало, говорю, чтобы Чистейшее Сокровище было охранено от прикосновения злых человеческих обычаев, чтобы Светлое Святилище было удалено от всякого общения греха, чтобы сей слух, который некогда будет внимать словам архангела, был недоступен праздным и обольстительным речам».