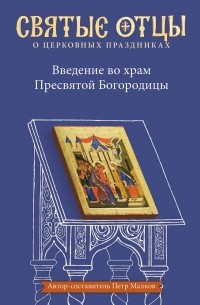Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Церковный праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября ст. ст. / 4 декабря н. ст.) – одно из важнейших двунадесятых годичных торжеств, посвященных церковному прославлению Богоматери.
Этот праздник находится в таком же отношении к Рождеству Богоматери, как Сретение Господне к Рождеству Христову. Вероятно, изначально он был посвящен подобному же принесению – по требованию Моисеева закона – с совершением жертвы во храм маленькой Марии, как позднее был принесен сюда ради совершения такой же жертвы и Христос. Но затем с древнейшим смыслом праздника соединили воспоминание и о том событии из детства Богоматери, память о котором донесли древние апокрифы, – о Ее Введении во храм.
Возможно, что праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы возник даже еще позднее, чем праздник Ее Рождества. Хотя существует предположение и о том, что появление праздника Введения связано с деятельностью святого императора Юстиниана I, который построил в 543 году в Святой Земле на развалинах иудейского Иерусалимского храма – того самого, в котором некогда произошло событие Введения, – огромную церковь, посвященную Пресвятой Богородице. Однако впервые этот праздник прямо упоминается в источниках на православном Востоке лишь в VIII веке. Особую заботу о том, чтобы он максимально торжественно отмечался в Церкви, проявил в первой половине VIII столетия святитель Герман, патриарх Константинопольский. В IX веке на Востоке праздник Введения во храм получил уже повсеместное распространение, хотя и не находился еще в числе важнейших годичных церковных торжеств. Постепенно он приобретал в церковном сознании все большее и большее значение. К XII веку образ его богослужебного прославления оказался уже близок к современному нам. Вместе с тем праздник вошел в число двунадесятых лишь после XIV столетия.
На христианском Западе праздник Введения во храм Богоматери получил распространение лишь во второй половине XIV – в XV веке; до этой поры он практически не был известен, его отмечали в качестве местного лишь в Южной Италии (с IX века – под греческим влиянием) и, затем, в Англии (с XI века). И сегодня Католическая Церковь отмечает его без особой торжественности, как малый в принятой на Западе градации церковных праздников.
Тропарь праздника: «Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения проповедание, в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся, смотрения Зиждителева Исполнение». На русский язык тропарь праздника можно перевести так: «Сегодня предзнаменование Божьего благоволения и предварительная проповедь о спасении людей: в храме Божием открыто является Дева и предвозвещает всем Христа. Ей и мы велегласно (громкими голосами) воскликнем: радуйся, Исполнение (Осуществление) Творческого предначертания». Если при Рождестве Богоматери можно было лишь смутно предугадывать Ее высокое предназначение, то Введение во храм стало Ее зримым явлением миру. Оно зачастую уподобляется явлению народу Христа при Его Крещении. Итак, Введение во храм стало «безмолвной» проповедью о близком пришествии в мир Спасителя, как бы предисловием к Рождеству Христову. Именно поэтому тропарь праздника оказался посвящен празднику Рождества Спасителя не меньше, чем самому Введению.
Кондак праздника: «Пречистый Храм Спасов, многоценный Чертог и Дева, Священное Сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, яже в Дусе Божественном, Юже воспевают ангели Божии: Сия есть Селение Небесное». По-русски кондак может звучать так: «Пречистый Храм Спасителя, многоценный Чертог и Дева, Священное Сокровище славы Божией сегодня вводится в дом Божий, вводя с Собой благодать, которая – в Божественном Духе. Ее воспевают ангелы Божии. Это Скиния Небесная». Богоматерь называется здесь одновременно и Храмом – ведь в Ней вселился Бог, и Чертогом, Палатой, Жилищем – ибо Бог, вселившийся в Ней, был одновременно и Сыном Божиим и Человеком. Кондак еще глубже и полнее, чем тропарь, раскрывает духовный смысл праздника. Вместе с Введением во храм Девы Церковь видит со-введение с Ней и благодати Святого Духа, благодаря чему эта благодать скоро изольется и на всех верующих. Отсюда происходит и радость ангелов по поводу совершившегося.
Важнейшие тексты праздничного богослужения принадлежат перу Георгия, митрополита Никомидийского (IX в.), – стихиры на литии, первый канон; Василия Пагариота, архиепископа Кесарийского (IX–X вв.), – второй канон.
В песнопениях праздника Богоматерь прославляется как «Дева Пречистая» (канон на утрене, 5-я песнь, 1-й тропарь), «Честнейшая и Славнейшая горних воинств (то есть небесных ангельских сил. – П. М.)» (припев 9-й песни канона на утрене), «пророков Проповедание, ангелов Слава, и мучеников Похвала, и всех земнородных Обновление» (великая вечерня, 3-я стихира на «Господи, воззвах»), как «Чертог Божия Слова [Христа]» (малая вечерня, 3-я стихира на стиховне), «Обителище Всецаря» (великая вечерня, слава, и ныне: на литии), «наша Слава (причина нашего благодатного прославления. – П. М.) и Спасение» (утреня, 3-я песнь канона, слава, и ныне:).
Во время службы читаются некоторые тексты Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Так на вечерне прочитываются три паремии, то есть ветхозаветные тексты, являющие нам древние библейские прообразы воспоминаемого ныне в церкви события: фрагменты из книги Исход (40:1–5, 9-10, 16, 34–35), Третьей книги Царств (7:51; 8:1, 3–7, 9-11) и Книги пророка Иезекииля (43:27; 44:1–4). Первые две паремии посвящены описанию древнейших ветхозаветных святилищ (скинии Моисеевой и собственно храма), а третья – последнего, будущего и таинственного Храма, Которым надлежит стать Самой Деве. Фрагмент из книги Исход повествует о тех указаниях, которые дал Бог Моисею перед устроением им так называемой «скинии свидения» – предшественницы ветхозаветного храма. Вторая паремия говорит об освящении храма, выстроенного царем Соломоном, и о чудесных явлениях, сопутствовавших ему. Таким образом, и скиния, и храм рассматриваются как символические ветхозаветные прообразы Богоматери, ставшей подлинным Храмом и Домом Божиим. Третья паремия содержит фрагмент из большого и таинственного видения, открывшегося пророку Иезекиилю. Речь здесь, в частности, идет о неких таинственных закрытых Вратах храмового святилища, через Которые должен войти Господь и Которые при этом по-прежнему остаются закрытыми. Здесь, по мысли церковных толкователей, содержится пророчество о Богоматери, Которая, будучи девственна до Рождества Христова, остается Девой и по Рождестве Спасителя. Как пишет в «Толковании на Книгу пророка Иезекииля» блаженный Феодорит Кирский (V в.), «в сем образе пророк дает нам проразуметь девственную утробу, в которую никто не входит и не исходит, кроме Самого только Владыки [Бога]».
На утрене читается обычный для Богородичных церковных праздников отрывок из Евангелия от Луки (1:39–49, 56). Здесь рассказывается о посещении Богоматерью Ее родственницы Елисаветы – будущей матери святого Иоанна Предтечи. Богоматерь преисполнена подлинного величия и возносит возвышенную хвалу Богу. И вместе с тем она исполнена и чувства глубокого смирения и благодарности Своему Творцу.
Что касается определяемого уставом апостольского чтения на литургии, то в праздник Введения во храм звучит отрывок из Послания апостола Павла к Евреям (9:1–7). В этом фрагменте апостол описывает все ту же ветхозаветную скинию и особо – то Святая святых, куда не мог входить никто, кроме первосвященника, и куда была допущена Богоматерь. При этом и здесь – в своем истолковании этого отрывка – Церковь настаивает на понимании скинии, и прежде всего ее Святая святых, как ветхозаветного прообраза Богородицы. Как провозглашает в «Слове на Рождество Пресвятой Богородицы» преподобный Иоанн Дамаскин, «пусть склонится знаменитая скиния, построенная Моисеем в пустыне из драгоценных и многоразличных материалов, и бывшая до нее скиния праотца Авраама (см. Быт. 18:1) перед одушевленной и умственной Скинией Божией [Богоматерью]. Ведь эта Скиния не энергии [силы, благодати] Божией явилась вместилищем, но сущностно восприняла [приняла в Себя] Ипостась Сына Божия. Пусть осознают, что не могут равняться с Ней ковчег, обложенный со всех сторон золотом, золотой сосуд, содержащий манну, светильник, трапеза и все остальное древнее [то есть все те священные предметы, что хранились в ветхозаветной скинии. – П.М.] (см. Евр. 9:1–4); ибо честь им воздавалась как Ее прообразам, как теням истинного Первообраза».
Евангельский отрывок, читаемый за этой праздничной литургией, – общепринятое в Церкви Богородичное чтение – рассказывает о посещении Господом дома двух сестер Марфы и Марии (Лк. 10:38–42; 11:27–28). Прямое отношение к образу Богоматери здесь имеет окончание чтения, где звучит свидетельство некоей женщины: блаженно чрево, носившее Тебя [Христа], и сосцы, Тебя питавшие. В начале же отрывка Господь говорит о преимуществе тех, кто слушает слово Божие и исполняет волю Христа, а не тех, кто печется лишь о земном. Конечно же, именно Богоматерь является в Церкви идеалом такого послушания Богу и исполнения Его воли. Именно в этом одна из двух сестер – одноименная Богоматери Мария, превосходит другую – Марфу.