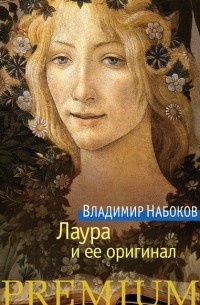Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Глава вторая
Ее дед, художник Лев Линде, в 1920 году эмигрировал из Москвы в Нью-Йорк с женой Евой и сыном Адамом. Кроме того он привез с собой большое собрание пейзажей, непроданных или переданных ему добрыми друзьями или несведущими учреждениями, – считалось, что картины эти составляют славу России, гордость ее народа. Несчетное число раз художественные альбомы печатали репродукции этих тщательно выписанных шедевров: прогалины в сосновом бору, с двумя-тремя медвежатами, бурые ручьи меж тающих сугробов, далеко простирающиеся лиловатые пустоши. Отечественные «декаденты» три десятилетия подряд называли их «календарной дребеденью», но у Линде всегда было полно стойких почитателей; немало их приходило на его вернисажи и в Америке. Довольно скоро многим безутешным полотнам пришлось возвратиться в Москву, другие же прозябали в арендованных квартирах, откуда потом перебирались на чердаки или скатывались до рыночных лотков.
Что может быть плачевнее художника, у которого опустились руки, который умирает не от заурядного какого-нибудь недуга, а от меланомы забвения, поразившей его некогда знаменитые картины, например «Апрель в Ялте» или «Старый мост»? Не станем задерживаться на опрометчивом выборе места изгнания. Не станем засиживаться у этого жалостного одра болезни.
Сын его, Адам Линд (отбросивший последнюю букву фамильи, следуя молчаливой подсказке опечатки в каталоге), оказался удачливей. К тридцати годам он сделался модным фотографом, женился на балерине Ланской, прелестной танцовщице, хотя была в ней какая-то хрупкость и неловкость, из-за чего она все время балансировала на узком карнизе между благорасположенным признаньем и восторженными отзывами ничтожеств. Первые ее любовники были главным образом члены профессионального союза ломовых извозчиков, простые ребята польского происхождения; но надо все-таки полагать, что Флора была дочерью Адама. Через три года по ее рождении Адам узнал, что юноша, которого он любил, задушил другого, ему недоступного, которого он любил еще больше. Адам Линд всегда имел наклонность к фотографическим трюкам, и тут, прежде чем застрелиться в монтекарловой гостинице (в тот самый вечер, как ни грустно это поведать, что жена его имела действительно большой успех в «Нарциссе и Нарцетте» Пайкера), он установил и навел свой аппарат в углу гостиной так, чтобы заснять это событие с разных точек зрения. Эти автоматические снимки его последних минут и львиных лап стола вышли не ахти как удачно; но вдова его без труда продала их по цене квартиры в Париже местному журналу «Игровое поле», специализировавшемуся на футболе и жутковатых faits-divers.
Она поселилась в Париже со своей маленькой дочерью, английской гувернанткой, русской няней и любовником без определенного отечества; потом переехала во Флоренцию, пожила какое-то время в Лондоне и вернулась во Францию. Ее мастерство не обладало такой силой, чтобы восполнить утрату привлекательной наружности и усугубившегося изъяна ее прелестной, но черезчур выступающей правой лопатки, и к сорока с чем-то годам она принуждена была давать уроки танцев в довольно второразрядной парижской школе.
На смену ее блестящим любовникам теперь пришел пожилой, но еще полный сил англичанин, искавший за границей убежища от налогов и удобное место для ведения своих не совсем законных виноторговых операций. Он был, как говорили раньше, шармёр. Звали его Губерт Г. Губерт – имя безусловно вымышленное.
Флора, прекрасное дитя, как она сама выражалась, слегка качая головой (мечтательно? не веря себе самой?) всякий раз, что заговаривала о своих предотроковических годах, жила дома серенькой жизнью: болезни да скука. В ее еженощных сновидениях эротических пыток мог бы разобраться только какой-нибудь очень уж дорогостоящий, максимально ориентальный доктор с длинными, деликатными пальцами, в так называемых «лабах» – больших и малых лабораториях с красными шторами. Отца она не помнила, а мать скорее не любила. Часто оставалась одна в доме с г-ном Губертом, который постоянно «рыскал» (rodait) около нее, мыча что-то однозвучное под нос и как бы завораживая ее, обволакивая чем-то клейким и невидимым, и подбирался все ближе и ближе, куда ни повернись. Например, она не решалась просто опустить руки, чтобы не коснуться какой-нибудь отвратительной части тела этого добродушного, но дурно пахнущего и «настырного» старого мужчины.
Он разсказывал ей о своей печальной жизни, разсказывал о своей дочери, которая была так на нее похожа, тот же возраст – двенадцать лет, те же ресницы – темнее темно-синих райков глаз, те же волосы, белокурые или, вернее, игрене-золотые и такие шелковистые – будет ли ему позволено погладить их, или вот так l’effleurer des lèvres, только и всего, спасибо. Бедную Дэйзи задавил пятящийся грузовик на проселочной дороге – она возвращалась из школы коротким путем – по жидкой грязи какой-то стройки – чудовищная трагедия – ее мать умерла от разрыва сердца. Мистер Губерт сидел на постели Флоры и кивал лысой головой, вспоминая все удары судьбы, и вытирал глаза фиолетовым платком, который переменил цвет на оранжевый – любительский фокус, – пока его засовывал назад в нагрудный карман, продолжая кивать и пытаясь приладить толстую подошву к ковровому узору. Он был теперь похож на незадачливого фокусника, которого наняли разсказывать засыпающему ребенку сказки, разве что он сидел слишком близко. Флора была в ночной рубашке с короткими рукавами, точь-в-точь как у ее одноклассницы Монглас де Сансерр, очень милой и очень порочной, которая показала ей, куда нужно пнуть слишком предприимчивого мужчину.
Неделю спустя Флоре случилось слечь с бронхитом. К вечеру ртуть поднялась до 38 градусов, и она жаловалась на глухой звон в висках. Г-жа Линд выбранила старую горничную за то, что та купила спаржи вместо аспирина, и побежала в аптеку сама. Мистер Губерт подарил своей душеньке любовно выбранную вещицу: миньятюрные шахматы («она уже знает ходы») с щекотливенькими дырочками, высверленными в квадратах, куда вставляются и там удерживаются красные и белые фигурки; пешки размером с булавку входили с легкостью, но несколько более крупные и благородные фигуры приходилось внедрять с обезсиливающим проталкиванием. Может быть, аптека оказалась закрыта и ей пришлось идти в другую, возле церкви, или может быть она встретила на улице кого-нибудь из знакомых и никогда уж не воротится. От бедного, старого, безобидного мистера Губерта несло четырехслойным запахом табака, пота, рома и гнилых зубов, и все это было довольно жалко. Его толстый пористый нос с покрасневшими заросшими ноздрями едва не коснулся ее голой шеи, когда он подкладывал ей подушки под плечи, и покрытая жидкой грязью дорога опять была – и навеки оставалась – кратчайшим путем между ней