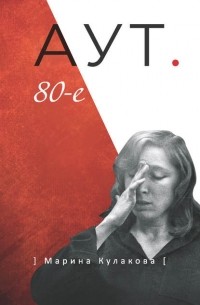Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
«Это было в Краснодоне…»
Городок неподалеку от Луганска занимал и удерживал второе место в Союзе – после Москвы – по уровню преступности. Родина моего «героя». Что за аномалия, что за Клондайк правонарушений?
Я бродила по Краснодону, по его улицам, по парку и размышляла. «Это было в Краснодоне, в жарком зареве войны. Комсомольское подпо-о-о-о-лье поднялось за честь страны…» Все мои ровесники и те, кто постарше, знают эту песню. И знают роман, теперь выведенный за пределы школьной программы, – а тогда считавшийся неотъемлемой частью воспитания, частью кодекса пионера Советского Союза – «Молодая гвардия» Фадеева.
В школе мне не приходило в голову сомневаться в правдивости и истинности описанных в нем событий. Трагические судьбы героев – Ульяны Громовой, Олега Кошевого, Сереги Тюленина – были достоверны, потому что так было написано в учебниках, о них пели и говорили по радио. В реальности было не совсем так, как в романе. Живы свидетели и участники тех событий, их дети. Сейчас там тоже «проблемная зона» – Луганская народная республика, странная зона боли, тревоги, непокоя.
Конечно, надо учесть, что люди склонны воспринимать всё в меру своей заинтересованности или испорченности. Молодогвардеец Сережка Тюленин был озорником и хулиганом, его тянуло на любые «подвиги» – это здесь общеизвестно. Местные подростки не знают, куда себя девать от скуки – так было всегда. Именно поэтому и сейчас ничего не стоит их организовать на любой «подвиг» – было бы кому организовать.
Памятник молодогвардейцам, построенный в Красно-доне, – воплощенный миф, каменная песня. Коммунизм «был построен в песнях», и он нашел себе еще одно воплощение – в камне, в мемориалах. Их строила нечеловеческая сила. К живым людям эта сила имеет весьма отдаленное отношение, и к здешнему каменному мемориалу люди относятся несколько отчужденно. Живая память и жизнь здесь другая – она в цветущих деревьях и детских качелях.
Работать здесь особо негде – только на шахтах. Тяжело, и не каждому из ребят, рожденных и подросших после войны, хотелось погружать себя во тьму земных недр и работать кайлом с риском для жизни даже ради высокой зарплаты. Работа в шахте похожа на работу в аду. Для желающих увидеть ад можно устраивать экскурсии. Добровольцев всё меньше. Поиск других вариантов занимает неокрепшие, как принято говорить, умы. Вариантов немного.
Обычная история: к середине восьмидесятых подросли два, например, мальчика, вместе искали приключений, легких денег и новых возможностей. Один за свои «подвиги» угодил в тюрьму. Другой, поскольку первый не «сдал» его, и возможностей на свободе всё же больше, чем одна, – пошел работать в милицию. Один из них читал. Именно тот, что в тюрьме. И однажды ему на глаза попалась – вы удивитесь – подборка стихов в журнале «Нева», которая чем-то задела, зацепила его. Может быть, вот этим: «… Так получи же, на любовь настроясь, в уединенном тихом уголке, – злорадный смех, удар, бергамский пояс и лезвие иронии в руке…» Здесь и началась наша с ним история.
В ответ на эту свою первую центральную публикацию я получила кучу писем из разных городов, областей и воинских частей. В журнале не было адреса, но в сведениях об авторе стояла роковая фраза «студентка Горьковского университета». Университет получил, кроме обычной корреспонденции, ворох писем, адресованных выпускнице, и моя юношеская известность позволила этому совершиться: вся эта куча была торжественно передана мне незадолго до получения диплома. Письмо – это ведь очень серьезно, во всяком случае, для меня и моих друзей, то есть подруг, – это было так.
Я прочитала эти письма. Ворох этот немедленно выбросила – так ужасны были стихи и сами послания, так грязна бумага и замутнен взгляд, проступающий в строчках, в текущей и мажущей пасте, так тяжело косноязычье. Всё хотелось сжечь из гигиенических соображений, но я не стала делать такого красивого жеста – мне было некогда совершать ритуалы. Письма полетели в мусорное ведро, переполнив его и не поместившись в нем. Я вынесла их на помойку. Но одно письмо осталось. Может быть, самое страшное, потому что самое внятное. Самое короткое.
Удар, какой-то внутренний толчок я почувствовала сразу, и я сначала определила его как особый вид страха, повергший меня в замешательство, хотя в письме не было ничего особенно страшного. Кроме того, что оно было с зоны.
Мне показался знакомым почерк. Я заподозрила ловушку. Да-да, это было сразу. Я заподозрила ловушку, и страшно было не то, что написано, а возможность подмены вот этих конкретных слов и смыслов. Мне было чего бояться – ужасно неприятное чувство. Я спрятала письмо, потом достала и перечитала, хотела сжечь. Передумала. Твердо решила не отвечать. Неделю носила письмо с собой. Оно было очень коротким, и я заметила, что знаю его наизусть.
Потом я подумала: существо, которого я боялась в реальности, не имело чувства человеческого достоинства, а в письме это чувство, как ни странно, было. Впрочем, это была гордость; тогда я плохо видела разницу и не задумывалась над ней. В общественном мнении гордость была достоинством.
Но почерк, почерк был похож на почерк другого, знакомого мне человека. Почерк был красивым, внятным. Внушительным и красивым.