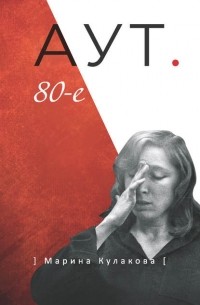Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Не дожидаясь ответа
«Пишу еще, не дожидаясь ответа, не могу не сказать всего, что надо сейчас сказать. Ты можешь брать от жизни все, в широком ассортименте – будь у меня такой же выбор, я бы не ошибся, – но с детства выбор у меня был весьма ограниченным. Я – свой в преступном мире, здесь мне повезло: не с уголовной лохмачевкой свела меня судьба – с деловыми людьми, с фраерами этого мира. Я прошел хорошую школу и понял: мы нужны не только здесь, но и там, у людей. Вам нет вреда от того, что я обобрал кассу: страдают те, кто, наживаясь на трудягах, диктует им: "Труд облагораживает человека". Но я не только родился не там, где надо, но и опоздал лет на 30–40. Советская власть расплодила самозваную уголовщину, грязными преступлениями очерняющую нас. Всё больше этой дичи, и всё наглее она. Цивильная алчность и подлость: бей не бей, хоть внушай, хоть убивай – святого, чисто воровского не внушишь. На воле отбирают у трудяги получку; попадая сюда, вступают в актив и портят нам погоду. Нас остались десятки, их – тысячи. Из моих наставников никого не осталось. Шесть человек была бригада, не считая меня, малолетки, "сынка" – и нет никого. Но они знали, за что умирали: по тридцать-сорок лет тюремного стажа, десятки судеб, направленных на путь истинный, и загубленных, по праву, не меньше. Они прожили свою жизнь с толком и там, и тут, светлая им память. Я вдохнул этого ветра, но в октябре прошлого года мне перекрыли дыхание полностью, в силу которого "не ставшим на путь исправления администрация, на свое усмотрение, может добавлять к неотбытому сроку от года до пяти". Вставшие на путь исправления – это простые ребята, случайные здесь: автоаварийщики, завы, дебоширы и прочие, то есть люди, которых ждут на воле. До сих пор в наши обязанности входило оберегать их от шакалья, от подлой, наглой красноты уголовной. Против этого администрация ничего не имеет, но ей нужно, чтобы мы не играли, не пили, работали – в общем, "соблюдали режим содержания". Пить я никогда не пил без меры; бывает, по образу жизни, необходимо – пью, но не напиваюсь и не пьянею. А вот работать… В лагере я не держал в руках ничего тяжелее колоды карт.
Люблю музыку и не отказываю себе в этом удовольствии здесь, но ее "не положено". Легально она стоит денег – у папы я не попрошу, лучше выиграю. В основном, с нами смиряются, иногда сажают "на фунт", всё изъяв. Скуки ради протестую, доказываю, но кто послушает? И я сижу, выхожу и всё приобретаю снова, но когда-нибудь мне это надоест: очередную руку, протянутую с намереньем изъять, я сломаю, а пустую голову расшибу дураку, как арбуз. По крайней мере, это будет разумнее, чем "по пахоте" стремиться туда, где меня никто не ждет.
Пусть недолюбил, недосмотрел, недожил, но остался тем, кем родился, и после меня не останется ни одной безвинно обиженной души, и как бы ни хотел я жить, короткую жизнь не променяю на длинное существование. Смерть не так уж страшна. Мне приходилось не раз доводить себя до последней грани: нет, не весело, конечно – тяжело, тяжело и горько, а в последние секунды страх перед неведомым захлестывает ум. Но ненадолго: чувство это мощное настолько, что выматывает за секунды, безразлично уже… Очнешься под капельницами, с кислородом: "Забегали, сволочи!" Месяца два, три, иногда и больше, тебя не хотят замечать. Сейчас вот уже второй месяц отдыхаю, до этого был перерыв в пять месяцев, еще раньше – в два с лишним; в общем, терпимо, но нервная нагрузка давит.
Вот уже сутки на исходе, как сел я за это письмо. Читаю, перечитываю твое, расшифровываю смысл: дается с трудом – отвык от цивильной речи. А то, что считаю нужным тебе ответить, вковываю в гражданские слова и пишу с перерывами на чифирь и музыку…»