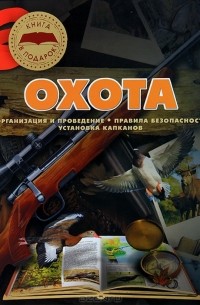Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
ОХОТЪ
Генри ожидал нас в эдаком отделанном панелями холле, стоя спиной к ревущему в камине огню.
Он был один, только двое ленивых лабрадоров дремали на коврике у очага.
Я сразу почувствовала облегчение – значит, не придется прямо сию минуту знакомиться с родителями, – расслабилась чуть. И хозяин, и эта большая комната казались очень приветливыми, улыбка Генри была теплой, как огонь, золотые волосы блестели. Генри надел свитер-регби с длинными рукавами и джинсы необычного красного цвета. Не то чтобы он выглядел красивее, чем в школе, – ему, наверное, единственному в СВАШ черный тюдоровский плащ был к лицу, – но он выглядел как-то иначе. Более взрослым. Он и в этой комнате был на своем месте, как в СВАШ.
И холл оказался не столь грозным, как мне заранее представлялся Лонгкросс. Стояли рядами сапоги и прогулочные трости и удочки, к стене прислонялся водолазный костюм – никто тут не наводил специально порядок. На стенных панелях висели пожелтевшие гравюры, на которых старомодно одетые люди занимались старомодными видами спорта, включая «ОХОТЪ СТРЕЛЬБЪ РЫБАЛКЪ», разумеется. И над головой Генри непременные оленьи головы таращились стеклянными глазами.
Генри завидел меня:
– Грир!
Он пошел мне навстречу и расцеловал в обе щеки – это были не те дурацкие поцелуи в воздухе, как частенько у воображающих себя аристократами, а самые настоящие, губами по коже. Такое приветствие несколько меня удивило, ведь раньше он вовсе не прикасался ко мне – только в тот раз руку тронул.
– А где все? – спросила я.
– Переодеваются. Иди скорей, согрейся. Жаль, что так зверски холодно. – Он проворно потер ладонью о ладонь. – Но для охотъ в самый раз.
Генри обернулся к егермейстеру, почтительно маячившему за моей спиной.
– Ага, Идеал, вижу, ты благополучно доставил мисс Макдональд.
Идеал – хотите верьте, хотите нет, такую он носил фамилию – снял твидовую кепку (выходит, она к голове не была приклеена) и коротко кивнул седеющей и лысеющей черепушкой.
Генри улыбнулся мне:
– Заболтал он тебя, Грир?
Не очень-то я понимала, как на такое ответить, но, к счастью, ответа никто не требовал. Генри повторил тот же вопрос, обращаясь к самому егермейстеру:
– Идеал, ты заболтал по дороге мисс Макдональд?
Егермейстер поскреб подбородок и выдал фирменное «Псмтрим».
Генри захохотал, запрокинув голову, обнажая напоказ все свои белоснежные зубы, и даже Идеал вроде бы готов был ради своего хозяина выдавить намек на улыбку. Очевидно, это у них старая шуточка.
– Хорошо. Проверь ружья на завтра, ладно, Идеал?
Идеал снова кивнул и скрылся. Генри обернулся ко мне:
– Слушай, ты лучше иди сразу наверх, а то опоздаешь. Ты же не против одеться к ужину?
А какие еще варианты? Выйти к ужину голой? Не очень-то я в этом разбиралась, так что ответила только:
– Не против.
– Отлично. Мы соберемся выпить в гостиной в семь тридцать, обед в большом зале ровно в восемь.
Я так и замерла.
– А это — не большой зал?
– Нет, что ты, – усмехнулся он. – Это обувная.
Пока я переваривала тот факт, что в Лонгкроссе обуви жилось просторнее, чем нам с папой в Манчестере, Генри коснулся звонка – словно в «Госфорд-парке», – и явилась женщина средних лет.
– Бетти, проводи мисс Макдональд в ее комнату. Где ее разместили?
– В «Лоутере», сэр. – Выговор у горничной был в точности как у Идеала.
– В «Лоутере». Там растопили?
– О да, сэр. Теперь все в сборе, сэр?
– Все. Хочешь чаю, Грир?
– Убить готова! – с благодарностью ответила я.
Его улыбка слегка померкла. Наверное, я выразилась недостаточно аристократично?
– Чай в комнату, Бетти!
Я отметила, что Бетти не причитается ни «пожалуйста», ни «спасибо». Но женщину это, похоже, ничуть не задевало.
– Хорошо, сэр.
Она отступила в сторону и вытянула руку, словно указывая мне путь, – похоже, пропускала меня вперед, хотя я и не знала дороги. Видимо, так по иерархическим соображениям полагалось.
Я наклонилась взять чемодан, но Генри движением руки остановил меня.
– Не трогай, – сказал он. – Я распоряжусь, чтобы тебе принесли его наверх.
Оказывается, аристократы сами свои вещи не носят. Я начала помаленьку входить в образ, особенно когда Генри взял мою руку и слегка пожал.
– Добро пожаловать, – сказал он. – От всего сердца. Я так рад видеть тебя здесь.
Моя комната – «Лоутер» – была великолепна. Очень красивая и просто огромная. Словно лучшие апартаменты лучшего отеля, какой вы только сумеете вообразить. Я обошла ее кругом, и на это потребовалось немало времени.
Там стояла невероятная кровать из темного дерева с тяжелым пологом розового цвета и такой же постелью. Стены, похоже, были обиты тканью вместо обоев, и на этом материале как по трафарету нанесены совсем бледные золотые листья. На полу ковры – прямиком из «Аладдина». Нижняя часть окон прозрачная, выше – цветное стекло. Очаг такой древний, что на нем даже была обозначена дата – 1590. И знаете что? В нем уже горел веселый огонь. В отличие от гостиничных номеров, тут не было телевизора – по правде говоря, за все время в Лонгкроссе я ни разу телика не видела.
Если присмотреться, ничто в этой комнате не было новым. Ковры поистерты, золотые листья на стенах увяли и истончились, в одной из оконных панелей серебристая трещина во всю длину. Однако здесь все так и вопило: «Традиция! Класс! Качество!» – и, разумеется, неизбежная примета традиции, класса и качества – оленья голова над очагом, темные остекленевшие глаза отражали свет, и голова казалась все еще живой. И вот еще кое-что, чего в отеле быть не могло: на кровати, полускрытое, обнаружилось платье. Того же цвета, что и вся материя здесь, темно-розового. Я подняла платье, оно грузно заскользило у меня в руках. Качество, качество! Невольно я попыталась себе представить, как же выглядит комната Генри.
Горничная ушла за чаем и принесла чайник и чашки на серебряном подносе – в точности, как я загадала. За горничной по пятам следовал молодой парень, мой ровесник примерно: он притащил чемодан и поставил его посреди ковра. Затем в комнату вошла еще одна особа, высокая, светловолосая, великолепная: Шарлотта Лачлан-Янг, вторая сирена.
Она была одета в красивое платье – должно быть, у такого наряда имеется особое название. Легким шагом приблизилась, расцеловала меня в обе щеки.
– Грир, верно.
Прозвучало как утверждение, а не вопрос – словно она сообщила мне мое имя. Когда Шарлотта выпустила меня из объятий, я невольно отступила. Поцелуи Генри застали меня врасплох, а ее были и вовсе чересчур, она мне до того дня и слова не сказала.
– Как же замечательно, что ты приехала. Добро пожаловать в Лонгкросс! – Она приветствовала меня так, словно дом принадлежал ей, и я вспомнила: в СВАШ говорили, она – дальняя родственница Генри. Очевидно, это давало ей право разыгрывать из себя хозяйку или она так думала. Мне это показалось странным – я-то думала, только маме Генри пристало меня так принимать. Однако тогда я еще ожидала, что с родителями познакомлюсь за ужином. Шарлотта меж тем продолжала:
– «Лоутер» – самая лучшая комната. Вот увидишь, какой тут потрясающий вид из окна поутру.
По этим фразам я окончательно поняла, чем Шарлотта отличается от других Средневековок. Каждое ее слово следовало бы писать жирным шрифтом или курсивом. Все у нее вызывало энтузиазм, обо всем она говорила с нажимом. И я сразу почувствовала, как быстро это начинает действовать мне на нервы. Горничная разлила чай в крошечные бесполезные чашечки через такое масенькое серебряное ситечко, то ли дело большие согревающие руки кружки, которые мы с папой наполняли темной, с красным отливом дешевой заваркой. Пока горничная разливала чай, Шарлотта присела на кровать, игриво перебрасывая прядь волос с одной стороны пробора на другую, как делала и Эсме. И это у нее тоже выходило идеально.
– О, это твое платье на сегодняшний выход? Ох ты! Просто идеальное! Этот цвет к твоим темным волосам. Ням-ням!
Я подметила: горничная первую чашку чая вручила Шарлотте, мне вторую.
– Бетти, лапочка! Чай!
Шарлотта обернулась ко мне, широко раскрыв глаза, как будто этот напиток изобрели только что, впервые, специально для нее.
– Именно это мне и было нужно. Как поездка? Кто тебя доставил?
Чай на вкус был странный, слабый, словно спитой, а стенки чашки совсем тоненькие. Если сомкнуть зубы на крае – откусишь кусок.
– Меня привез Идеал.
– О, егермейстер! Он такая лапочка!
В точности так же отзывалась о нем Эсме. Видимо, у Средневековцев «лапочка» – синоним «злобного ублюдка».
– Да, вел себя по-рыцарски, – усмехнулась я. – Так развлекал меня по дороге. Смотрела «Таксист»? Вот, он в точности Роберт де Ниро, только больше помалкивает.
Шарлотта широко раскрыла глаза и дернула головой, указывая на горничную, которая выразительно поджала тонкие губы. Я не понимала, о чем мне Шарлотта сигналит, но на всякий случай заткнулась. В этот момент часы на камине – Когсворт из «Красавицы и чудовища» – начали бить, и Шарлотта заверещала:
– Боже, посмотри, который час! Все, чай ты попила, – я только глоток и успела сделать, – займись скорее приготовлениями к ужину. Коктейль в семь тридцать в гостиной!
Я не без сожаления отставила чашку.
Шарлотта схватила мое платье и встряхнула его, точно она – матадор, а я бык.
– Золушке пора на бал.
Ни она, ни Бетти не выражали намерения уйти, так что выхода не оставалось: переодеваться при них, остаться в нижнем белье на глазах у посторонних. Видимо, так богатые и живут. Наверное, только дикари стесняются обнажаться перед другими. С их помощью я ввинтилась в платье – тут-то даже кстати вышло, что они остались. Мне припомнился фильм «Елизавета» и Кейт Бланшетт в роли королевы – стоит себе, растопырив руки, и предоставляет фрейлинам натягивать на нее и платье, и украшения, все. Потому-то богатые люди не уединяются, чтобы переодеться: их наряды так сложно устроены, что требуется помощь.
Когда я была одета, помощницы усадили меня перед зеркалом и занялись моими волосами. В удачный день мои черные волосы падают ровно и сияют, точно новый колокол, густая челка щекочет верхние веки, подрубленные пряди касаются плеч. Это был не самый удачный день: из-за дождя волосы начали слегка завиваться, но, как выяснилось, об этом я могла не беспокоиться. У Шарлотты имелись для меня идеи получше.
– Бетти потрясающе укладывает волосы.
И в следующие двадцать минут мне пришлось признать: Бетти и впрямь владела какой-то магией. Она завила мои волосы локонами, смахнула челку на одну сторону, выбивающиеся пряди вернула на место и подколола крошечными шпильками с розовыми бутонами в тон платью.
Я гадала, не займется ли Бетти и макияжем, но выяснилось, что это уж целиком мое дело. Горничная ушла – без сомнения, помогать кому-то еще, – а Шарлотта встала у окна, любуясь ночным пейзажем. Подергала ручку и сообщила мне:
– Кстати говоря, тебе следует знать, что Бетти – жена Идеала. И вообще стоит раз навсегда запомнить: никогда не сплетничай при слугах.
«Уж конечно, за пределами этого таинственного замка мне такое правило вряд ли пригодится», – подумала я. Мне чуточку было стыдно за мои слова, но если эта дурища вышла замуж за егермейстера, едва ли она услышала от меня что-то новое. Пытаясь отмахнуться от неловкости, я проворчала:
– Ну что ж, ей очень, очень повезло, вот и все, что я могу сказать.
Я взялась за обычную черную подводку для глаз, но замерла с карандашом в руках. Как-то это не подходило к новому платью. Подошла Шарлотта, прохладной рукой коснулась моей руки, заставила положить карандаш.
– Легче, – посоветовала она. Выбрала прозрачный кремовый оттенок. – Как насчет этого?
Я откинулась на спинку стула и предоставила ей все делать за меня. Десять минут спустя, посмотревшись в зеркало, я себя не узнала. Шарлотта верно сказала: платье оттенка увядающей розы усиливало румянец на моих щеках. Серые глаза Шарлотта подчеркнула кремовым блеском на веках, губы сияли коралловой помадой – в очень умеренных количествах.
Я преобразилась.
Из эмо – в королеву бала.
Из дикарки – в Средневековку.
Шарлотта прижала руки к груди.
– Господи боже мой! – воскликнула она (Средневековцы не божемойкают, а произносят все три слова отчетливо). – Ты выглядишь просто потрясающе.
Все-таки чертов «Дневник принцессы».
Я была рада, что так постаралась.
Мы спустились по этой абсурдной мраморной лестнице с огромными картинами на каждом шагу, прямо-таки замок Уэйн из «Темного рыцаря». Когда я вслед за Шарлоттой вошла в гостиную (нам к дверям даже притронуться не пришлось, двое лакеев распахнули их перед нами), я убедилась, что все одеты мегаформально, парни все до одного в черных длиннополых фраках, белых рубашках и галстуках-бабочках. На миг передо мной просто пятно расплылось, и я видела незнакомую элегантную компанию, но затем начала распознавать лица над этими непривычными костюмами. Я думала, разумеется, что мне предстояло познакомиться с родителями Генри и, вероятно, еще с кем-то из взрослых, приехавших в имение на выходные, но пока я видела только Средневековцев. Светловолосый Генри стоял, само собой, рядом с Ларой, подобравшей себе глубокий синий цвет. Пирс и Куксон говорили с высоким смуглым человеком, который стоял спиной ко мне, а у камина Эсме в наряде цвета плюща болтала с Шанелью.
С Шанелью.
Официант в черном фраке и галстуке с бабочкой протянул мне поднос – что-то пузырилось в высоких бокалах, – и я от изумления взяла этот напиток. Шерфонная Шанель. Она-то здесь как оказалась?
Неудивительно, что на уроке латыни она таращилась в окно: очевидно, была так же возбуждена-тире-восторженна, как и я, и по той же самой причине. Я толком не могла в это поверить. Шанель, я же знала, весь семестр доставалось куда хуже, чем мне. Я отхлебнула немного из бокала, просто чтобы чем-то себя занять, пока переваривала ее появление в Лонгкроссе, и напиток (очевидно, шампанское) оказался таким шипучим и горьким, что на глазах выступили слезы.
А дальше со мной приключилось второе за этот вечер потрясение. Смуглый парень, болтавший с Пирсом и Куксоном, обернулся, и это был Шафин. Я следила, как он легко общается, стоя в элегантной позе, чувствуя себя словно дома. Посреди какой-то фразы он поднял глаза и заметил меня. Глаза его сверкнули, расширившись в изумлении. Толком я не могла понять, что означал этот взгляд. Это непросто объяснить, но, кажется, он был удивлен не тем, что я тоже попала туда, – думается, он был удивлен тем, как я выглядела. Я так понимаю, выглядела я очень даже, и молодец, что так постаралась, – ведь сирены, Шарлотта, Эсме и Лара, самая красивая из них, выглядели потрясающе в дизайнерских платьях цвета драгоценных камней. Шанель тоже смотрелась очень неплохо в своем белом платье, хотя я была чертовски уверена, что Средневековцы сочли ее искусственный загар чересчур темным, а платье – самую чуточку слишком светлым. Я почувствовала, что смогу держаться наравне с ними всеми, – если Грир Макдональд это не под силу, та принцесса, чье отражение я видела в зеркале, справится. Я слегка задрала подбородок.
Признаться, Шафин тоже выглядел потрясающе в классическом фраке с белой бабочкой. Ростом он превосходил всех парней, и его темная кожа красиво контрастировала с накрахмаленной белой рубашкой и галстуком. В тот вечер он убрал со лба и зачесал назад длинные темные волосы, его лицо было по-настоящему красиво и благородно. «Принц Каспиан», – подумала я. Он, несомненно, вписывался в эту компанию, но каким образом он тут очутился? Средневековцы травили его куда больше, чем любого из нас, прочих. Затем я пригляделась внимательнее к его позе, манерам, к тому, как он держал бокал. К этой невероятной легкости – и поджала губы. Он один из них, вот что. Я-то весь семестр его жалела, думала, его преследуют дразнилками насчет «пенджабского плейбоя», но это были всего лишь шутки, видимо, такой у Средневековцев юмор. В конце концов, говорили же, что Шафин – какой-то индийский принц. А я дура. Они, значит, все это время отлично корешились. Как было не почувствовать себя слегка обманутой? Хотя, собственно, с какой стати – Шафин учился в СВАШ с подготовительного класса, фактически вырос вместе со Средневековцами. И все же меня это слегка разочаровало – что он один из них. Он улыбнулся мне, а я не ответила ему улыбкой.
В восемь часов мы прошли в большой зал на ужин. Это было огромное помещение, потолки такие высокие, что фрески растворялись в темноте, свет от канделябров туда не проникал. Непременные оленьи головы смотрели на нас сверху вниз, рога отбрасывали на стены причудливые тени. Длинный стол накрывала снежно-белая скатерть, уставленная серебряными подсвечниками, хрустальными бокалами и такими серебряными пирамидами, на которых обычно подают пирожные, только на них лежали не пирожные, а фрукты.
Когда я отыскала свое место, отмеченное маленькой кремового цвета карточкой «Мисс Грир Макдональд» (почерк каллиграфический), один из лакеев подскочил, встряхнул и расправил салфетку и отодвинул для меня стул. Я уселась и увидела перед собой больше серебряных приборов, чем у нас с папой найдется дома, обыщи мы весь ящик с ножами и вилками. Видели фильм «Остаток дня»? Тот момент, когда помощники дворецкого точно вымеряют расположение приборов на столе? Готова поспорить, что и размещение наших приборов до миллиметра выверял кто-нибудь из многочисленных слуг, кто теперь толпился в зале, распределившись по стенам и углам.
С трепетом я глянула на соседние карточки: не Генри (жаль), не Шафин (уже лучше), но с одной стороны Шарлотта, а с другой Пирс (сойдет, решила я). Но вот что странно: перед тем как мы расселись, я сосчитала приборы, всего их было девять, для шести Средневековцев и трех гостей. Это послужило затравкой для разговора с Пирсом, с которым мне прежде никогда не доводилось общаться. Я задала вопрос, который тревожил меня с самого прибытия в замок:
– А где же родители Генри?
Пирс схватил бокал чуть не до того, как слуга закончил наливать вино.
– В Лондоне, – сказал он. – У них дом на Кемберленд-плейс, прямо у Риджентс-парка, знаешь. – Он слегка хохотнул. – Забавно: Лонгкросс в Кемберленде, а лондонский дом на Кемберленд-плейс.
Слуга подошел снова, встал между Пирсом и мной, серебряными щипцами переложил идеально круглую булочку на самую маленькую из моих тарелок. Пока он возился, я успела осмыслить услышанное:
– Так здесь не будет… – Не хотелось говорить «старшие» или «взрослые», как будто мне пять лет. – Не будет других гостей на выходные?
Пирс покачал головой, рот его был забит свежим хлебом.
– Тем веселее, – заявил он. Попытался подмигнуть, что у него не очень-то вышло, и чокнулся со мной. Но я отставила бокал и выпила немного воды, пытаясь проглотить внезапное дурное предчувствие. Конечно, слуги-то взрослые, но они полностью подчинялись Генри. Мне показалось странным, что тут не было никого, кто бы… за все отвечал.
Не было родителей.
Только девять школьников в огромном доме.
И ужин не очень-то способствовал тому, чтобы я расслабилась. Нас рассадили по схеме «мальчик – девочка», а Генри, само собой, поместился во главе стола. Шафин, сидевший напротив его на другом конце, преспокойно болтал с Эсме, глаза его сверкали, прядь зачесанных назад черных волос упала на лоб. Никогда прежде я не видела его таким общительным, разговорчивым, совсем не тот слегка неуклюжий, держащийся в стороне одиночка, кем я его считала. И снова мне показалось, будто меня провели. Эсме всячески давала понять, что полностью им очарована: уперлась подбородком в руку, смеялась, заглядывая ему в глаза. Шанель сидела по правую руку от Генри, и он тоже очень старался ее покорить, в то время как его соседка Лара негромко разговаривала с Куксоном. Я присмотрелась к Шанель, болтавшей с Генри, и сердце сдавило: она была в восторге, в восторге от всего – от ужина, от этой компании, от обстановки. Она так и впитывала все это, а ко мне вернулось странное неприятное предчувствие.
Мне, можно сказать, «повезло»: с одной стороны Шарлотта, с придыханием выделяющая каждое второе слово: «О, ты из Манчестера. Просто потрясающе. Никогда там не была. Что там за жизнь?» – с другой Пирс, которого как будто заинтересовало, чем занимается мой отец. Вроде бы Средневековцы именно по такому стандарту оценивали всех. Может быть, думала я, это часть отборочного процесса для кандидатов в Средневековцы. Как видите, я все еще верила в россказни Господи-боже: что «ОХОТЪ СТРЕЛЬБЪ РЫБАЛКЪ» нечто вроде собеседования на место в великолепной шестерке. Надо же так задурить себе голову.
Пирс был очень дружелюбен, но казался пугающе старым. В отсутствие родителей Генри он словно взял на себя роль его отца, подобно тому как Шарлотта приветствовала нас в роли хозяйки, вместо матери Генри. Пирсу, с его сросшимися бровями и часами на цепочке, никак не могло быть восемнадцать – он казался пятидесятилетним, запертым в теле тинейджера.
– Так чем же на самом деле занимается оператор, снимающий дикую природу?
Я отвергла ехидное желание так и ответить: наводит камеру на всякую дичь и щелкает.
– Он участвует в съемках тех документальных фильмов, которые показывают по телевизору: с Дэвидом Аттенборо, знаешь. «Планета земля», «Осенние краски», в таком роде.
Хотя на самом деле профессиональная жизнь моего отца состоит, например, в трехдневном ожидании, пока геккон высунется из щели, чтобы получить три секунды фантастических кадров, когда полоз погонится за гекконом, пытаясь его поймать и сожрать, большинство людей реагирует с интересом, стоит мне упомянуть его профессию. Но у Пирса реакция была нулевая.
– Много чего знает про природу, так?
– Да. Когда приезжает со съемок, всегда много рассказывает. Сейчас он в Чили. Снимает пещеры с летучими мышами. – Тут я снова припомнила Уэйн Мэнор. – Знаешь ли, что в девятнадцатом веке помет летучих мышей считался ценным товаром? Гуано (так его называли) использовалось в качестве удобрения, купцы отправляли его на кораблях в разные концы земли.
Это старика Пирса зацепило. Он вновь захохотал так странно и пугающе – словно вскрикнул. Помотал головой.
– Дерьмо летучих мышей! Неужели?
– Угу, – сказала я. – Или вот еще: если капнуть на скорпиона алкоголем – совсем чуть-чуть, – он взбесится и зажалит себя до смерти.
– Буду это иметь в виду.
– И насчет оленей, – продолжала я. – Папа говорил мне, что, когда их преследуют, они бегут к водоему и заходят подальше в воду, надеясь таким образом избавиться от гончих. Это у них инстинкт.
Пирс задрал свою монобровь.
– Это мне известно, – с грубой насмешкой заметил он.
Я пнула саму себя под столом. Еще бы ему не знать! Тут оленьи головы смотрят с каждой стены, мы и сами завтра отправимся убивать оленя – да Пирс на этом вырос.
В промежутке между репликами, которыми я обменивалась с Пирсом, я слышала, как Шанель болтает с Генри, пустив в ход свой идеально отработанный аристократический прононс. Она разволновалась, махала руками, безупречно белые ногти мелькали перед ее лицом. Щеки Шанель немного покраснели, глаза сияли, такой она стала красоткой, пока без умолку трещала о своем папочке, о доме в Чешире, с бассейном и кинотеатром, о целом флоте лучших автомобилей. Потом она переключилась на «Сарос 7S», как ее папа изобрел полутелефон-полупланшет и сколько денег на этом заработал. У меня от ужаса желудок съежился. Генри держался вежливо, проявлял интерес, но что-то мне шептало: надо бы предупредить Шанель, остановить ее.
Эсме и Шафин, насколько я могла разобрать, обсуждали свадьбу, где она побывала тем летом, и Шафин вроде бы знал всех участников. Лицо Шафина не выдавало никаких чувств, но опять-таки, напомнила я себе, если он все эти годы дружил со Средневековцами, они и так знали о нем все, что им требовалось. Если они действительно подбирают кандидатов, у Шафина самая правильная родословная.
Единственным утешением за ужином служила еда, наивкуснейшая. Какой-то белый суп, со сливками и пряностями, рыба тоже белая, плоская, под зеленым соусом, кусок мяса с жареными овощами. У мяса был необычный привкус.
– Что это? – спросила я Пирса.
– Оленина, – ответил он.
Набив полный рот, я виновато покосилась на головы оленей, смотревшие на меня со стены, а те покосились на меня с упреком.
Вскоре я заметила, что Пирс не только ведет себя, как мужчина средних лет, но и пьет так же. Я-то придерживалась воды, мне и одного бокала шампанского, выпитого в гостиной, хватило для головокружения, а Пирс последовательно перепробовал все вина, переходя от одного сорта и цвета к другому в зависимости от нового блюда: суп и рыбу запивал белым, мясо красным, после десерта перешел на желтое вино из маленьких рюмок. Когда же появился портвейн, темный, как кровь, дела пошли совсем худо.
До того мы болтали понемногу, обращаясь то к одному соседу, то к другому, но когда еду убрали со стола и слуги исчезли, разговор сделался общим, в нем участвовали все, и тут-то пролилась первая кровь.
– Хватит про отца, – заявил Пирс, когда разливали портвейн. – Расскажи про свою мать.
Внезапно все затихли. Навострили уши.
Я набрала в грудь воздуху:
– Мама ушла, когда мне было шестнадцать месяцев.
Пирс подался ко мне, глаза его остекленели, речь была смазанной.
– Отчего?
Я видела, как Шафин быстро и зло глянул на Пирса.
Поправив на тарелке сырный нож, я ответила:
– Не знаю.
Я надеялась, Пирс на том и отстанет. Не тут-то было.
– Мамоська тебя не любиила? – омерзительно просюсюкал он.
Я пожала плечами.
– Видимо, нет, – постаралась я ответить как можно беспечнее, только бы он прекратил расспрашивать, я не смогу больше сказать ни слова. Ком застрял в горле.
К счастью, Пирс отвернулся и заорал через стол:
– А ты, Шерфонная? Твоя мать тоже стерва?
– Я вовсе не говорила… – запротестовала я.
– Ш-ш, – остановил меня Пирс, покачнувшись в мою сторону и приложив палец к оттопыренным губам – чуть не промахнулся. – Я задал. Шерфон. Вопрос.
Он снова обернулся у Шанели, та побледнела – белее своего платья.
– Так что, Шанель? Какая у нас мамочка? Редкостная стерва, надо же девочке такое имечко придумать.
Шафин уронил нож на десертную тарелку, грохнуло, точно выстрел. Все подскочили, но смотрели по-прежнему на Шанель, в упор. Внезапно стало очень важно дождаться ее ответа. Я оглянулась на Генри: неужто он не положит этому конец? Но и Генри не сводил глаз с Шанели.
Шанель села ровнее, выпрямилась. Посмотрела Пирсу прямо в глаза и отчетливо произнесла:
– Мамуля очень хорошая.
Она сказала «мамуля».
Под многими слоями тщательно выученной речи «высшего класса» затаился привычный ей простонародный язык и в минуту сильного стресса прорвался. Шанель заговорила с акцентом, как и я, как персонажи «Улицы коронации». Тут-то я поняла, как опасно прикидываться не тем, кто ты есть, и порадовалась, что сама я даже не пыталась отделаться от акцента. Насколько хуже было бы все время притворяться одной из них и вдруг нечаянно споткнуться – уж лучше всегда говорить так, как мне привычно.
Средневековцы так на эту оговорку и спикировали. Девчонки мерзко захихикали. Куксон прикинулся озабоченным.
– Куда подевалась твоя аристократическая речь, Шанель? – как будто о потерянной вещичке спрашивал.
Хуже всех повел себя, разумеется, Пирс.
– Мамуля! – ворковал он, идеально воспроизводя северный говор. – Где мое шляпо? Ай-ай! Где псинка? Мамуля-мамулечка!
Он встал и внезапно запрыгнул на стол, разметал здоровенными своими стопами фарфор и хрусталь.
– Мамуля-мамуля-мамуля! – запел Пирс на известную мелодию (умца-умца) северного духового оркестра. Он и руками размахивал так, словно дирижировал музыкантами. И тут, я поверить своим ушам не могла, все Средневековцы подхватили хором – все, кроме Генри:
– Мамуля-мамуля-мамуля!
Кошмар.
Я смотрела на Шанель – она вжалась в стул, опустила глаза, уставившись на сырную тарелку, – и я понимала, что она вот-вот расплачется.
Вдруг громко, настойчиво заговорил Шафин.
– Моя мать, – резко произнес он, перекрывая общий шум, – хищница. Дикое животное.
Ого, ему удалось привлечь всеобщее внимание. Все заткнулись нахрен, все головы обернулись к Шафину, сидевшему на дальнем конце стола. Пирс спустился на пол, снова развалился на стуле. Шафин уперся обеими руками в полированную столешницу, держал паузу, пока не завладел нами полностью.
– Дворец моего отца, – заговорил он медленно, искусно, по-актерски, нагнетая напряжение, – находится в Раджастане в горах Аравалли, над горным селением Гуру Шикхар. Моя мать рассказывала мне историю, приключившуюся со мной в младенчестве, когда я только начал ползать. Стояла жара, меня томила жажда, и мать почти непрерывно кормила меня грудью.
Мы все обратились в слух. Промах Шанели был забыт. Шафир, такой застенчивый и неловкий в общении с девочками, преобразился: великий рассказчик, он голосом заставлял нас увидеть одну картинку за другой, словно мы смотрели кино. Я поймала себя на том, что воображаю маленького Шафина в образе нахального маленького магараджи из фильма «Индиана Джонс и храм судьбы»: он сосал грудь, одетый лишь в подгузник и шелковый тюрбан, между бровей – драгоценный камень.
– Мама отдыхала на веранде, прилегла на диван. Белые занавески, тонкие, как паутинка, колыхались в теплом воздухе, длиннохвостые попугаи перекрикивались на акациях. Мать очень устала, ведь я всю ночь не давал ей спать, и она уснула, пока я снова сосал ее грудь. Проснулась она спустя несколько часов, занавески все так же слегка шевелились, попугаи все так же кричали, а ребенок исчез.
Мы почти не дышали, заслушавшись. Пирс замер, не донеся к губам стакан с портвейном, будто околдованный. Даже место, отведенное Шафину за столом, преобразилось: его посадили в дальний от Генри торец, но теперь казалось, будто индийский принц сидит во главе компании. Подлинный магараджа.
– Моя мать вскочила, позвала моего отца и слуг. Отец призвал стражей дворца. Обыскали сотню комнат, сады с фонтанами, конюшню и нигде не могли найти меня. В конце концов они устремились за пределы дворца, в лес – но вскоре остановились, не решаясь ступить ни шагу дальше: под сенью акаций лежал тигр.
Никто из нас даже шелохнуться не мог.
– Наша страна считается страной тигров, но этот зверь размерами превосходил всех, виденных в тех местах прежде. Это была тигрица, она отдыхала в тени со своим выводком. Самое опасное животное: мать-тигрица не пожалеет собственной жизни, спасая детенышей. Моя мать опустилась на колени и завыла: она разглядела меня там, среди тигрят, у самого брюха кормящей самки. Она была уверена, что я уже мертв и тигрята собираются сожрать мой труп. Отец велел матери умолкнуть – тигры не любят шума.
Наверное, там, в джунглях, наступила такая же тишина, как в большом зале Лонгкросса, – мы вроде и не дышали.
– Слуги отца были вооружены, однако стрелять не смели, боясь ранить меня. В конце концов моя мать поднялась и шагнула вперед – одна. Она смотрела прямо в глаза тигрице, она шла спасать своего сына. Мама говорила, это были самые долгие мгновения в ее жизни – зеленые глаза смотрели в черные, человек и зверь, мать и мать. Подойдя ближе, мама снова упала на колени, теперь – воздавая благодарность за чудо, свидетелем которого стала. Я был жив, более того – не подвергался никакой опасности, я удобно устроился среди тигрят, завоевал себе место в стае и сосал вместе с ними тигрицу.
Потрясенные вздохи, кто-то нервно рассмеялся. Шафин сохранял серьезный, торжественный тон. Он явно готовил завершающую, ударную фразу и смотрел теперь прямо в глаза Генри.
– С тех пор меня прозвали Бааг-бета, сын тигра. Потому что я сосал тигриную сиську.
Последнее слово он произнес с нажимом, как вызов. Я ни разу не слышала от Шафина даже самых «приличных» ругательств, поскольку все ругательства, а также все разговорные обозначения соответствующих частей тела считались дикарством. Шафин точно оценил свою аудиторию. Это слово – пограничное, разговорное и все же не матерное – было перчаткой, брошенной в лицо хозяину дома.
Генри откинулся к спинке стула. Он задумчиво изучал Шафина, словно они в своего рода покер играли. Повисла напряженная, грозная пауза. Наконец Генри усмехнулся.
– Замечательно, – похвалил он.
Это послужило сигналом для всех: Средневековцы заверещали, завыли гиенами. Я, кажется, буквально выдохнула с облегчением – и увидела, что то же самое происходит с Шанелью. Пирс хохотал, то есть орал, и все время повторял:
– Тигриная сиська! Тигриная сиська!
Куксон, такой же пьяный, как Пирс, вскочил и давай обниматься с тигриной шкурой перед камином, он целовал ее в усатую морду и приговаривал:
– Мамуля! Мамуля!
Шафин сидел неподвижно, не сводя глаз с Генри. Потом он поднял бокал, как бы в безмолвном тосте в честь хозяина дома. Запрокинул голову и выпил все до дна.
Генри хлопнул в ладоши, потер руку об руку, быстро, деловито, но словно бы в ожидании чего-то очень приятного.
– Леди, – обратился он к Шарлотте, – вы нас извините?
Девочки-Средневековки тут же встали, как будто заранее знали, как себя вести. Я видела это в «Морисе»: после ужина мужчины и женщины расходятся по разным помещениям. Значит, не представится возможность поговорить с Шафином, а мне так хотелось. Мне казалось, пусть это немного странно, что следовало бы поблагодарить его от имени – видимо, женского пола – за находчивость, с какой он пришел на выручку Шанель. Молодые люди тоже поднялись и стояли, пока мы выходили из зала, мы гуськом просачивались в гостиную, я шла последней, так что воспользовалась моментом и ухватила Шафина за рукав. Он обернулся со странной гримасой – напряженный, взволнованный и словно бы чем-то недовольный. Я открыла рот, собираясь поблагодарить его «как женщина», сообразила, как глупо это звучит, попросту не смогла выдавить из себя ни звука. Вместо этого я шепнула:
– Это правда? Про мать-тигрицу?
Он нахмурился.
– Разумеется, нет, – сказал он. – Мой отец заведует банком в Джайпуре. Ты такая же, как они все, ничуть не лучше.
И с этим мне пришлось уйти. Но теперь я знала: Шафин им вовсе не друг. Он сочинил сказку, чтобы отвлечь огонь на себя, сделаться мишенью вместо Шанель. И более того: между ним и Генри де Варленкуром шла какая-то странная борьба, соперничество, каждый вел бой со своего конца стола, но, подумала я, тут снова, как и на уроке истории, сам Генри ничего не делал: вместо него в атаку бросались цепные псы, Куксон и Пирс. Генри словно тот принц эпохи Ренессанса натаскивал своих собак на людей. Ему не приходилось самому рвать чужую плоть, он просто спускал псов с поводка.
Девочки вели вежливый и деликатный разговор. Уверяли Шанель, что всего лишь подшучивали по-доброму, без обид. Я задумалась: а может быть, именно такая роль отводится девочкам: тормозить, смягчать ситуацию, когда парни зайдут слишком далеко? Ни одному их слову я больше не верила.
Видела я только одно: как блестели глаза Генри, пока он наблюдал кровавую сцену за столом.
Выходит, охота уже началась.
Первым, что я увидела, проснувшись поутру, была голова оленя, висевшая над камином и словно бы смотревшая на меня.
Я вроде бы уже привыкла к трофеям на стенах СВАШ, и все же казалось странным жить в спальне с отделенной от тела головой. Даже страшновато, если подумать. Теперь, при дневном свете, я различала мохнатые ресницы над остекленевшими глазами и побитую молью шкуру, но это ничуть не лучше. Я села в кровати с пологом, а глаза словно бы следовали за каждым моим движением. Это меня малость расстраивало, и я решила дать чучелу имя, совсем дурацкое, чтоб не страшно было.
– Привет, Джеффри, – сказала я.
Олень все еще таращился на меня, зато уже не так пугал. Он словно бы прислушивался к моим словам.
– Так что, Джеффри, – продолжала я, – как, по-твоему, пройдет нынешний день? Нет, я серьезно спрашиваю. Мне это важно.
В самом деле. Накануне после ужина, издевательств над Шанелью и безумной сказочки из «Книги джунглей», которой Шафин положил конец этому безобразию, все девочки пошли спать довольно рано. Мы знали, что вставать придется с первыми петухами, нас ждет охота на оленя. Я прицелилась пальцем в голову Джеффри, согнула большой палец, «нажала на курок».
– Бах-бах! – сказала я.
Вылезла из постели и подошла к окну. Голова оленя следила за мной. Я отодвинула тяжелые шторы и заморгала, пытаясь охватить взглядом все это – уходившие к горизонту земли имения, обведенный стеной розовый сад, большой огород, аллеи, дальше ухоженный парк со статуями и храмами, прудами и фонтанами, живая изгородь была подстрижена в форме павлинов. Еще дальше – огороженный выгул, конечно же там лошади. А далеко-далеко виднелась опушка леса, и совсем неправдоподобно, за лесом, выглядывали лиловые горы Озерного края. Потрясающее зрелище, трудно представить себе что-то более непохожее на наш дом в ряду других домов на Аркрайт-роуд, Манчестер.
– Это уже не Канзас, Джеффри, – сказала я.
Меня трясло – огонь в камине погас, и было довольно холодно, однако не от этого я дрожала. На подъездной дорожке уже началась суета, подъезжали «Лендроверы» и джипы, и коня привели. Не целый табун, как во всяких фильмах с охотничьими сценами, в «Пригоршне праха», например, но одного, оседланного, он гарцевал рядом с автомобилями. Я сглотнула: меня-то уж точно верхом ехать не заставят?
Были тут и собаки, красивые, черные с рыжим, они крутились в ногах у коня, тявкали, виляли хвостами. А потом я увидела нечто, от чего у меня и впрямь в желудке похолодело: множество парней в плоских кепках, в том числе человек-гора, наш общительный Идеал, загружали в джипы ружья. Ружья с тусклыми свинцово-серыми стволами и натертыми до блеска прикладами из дерева карамельного цвета. Их складывали в такие специальные упаковки – ряд за рядом. Каким-то образом они выглядели одновременно и безобидными, и опасными. Мне капельку поплохело.
– Что ж, Джеффри, – сказала я, прикидываясь, будто все ништяк, – нас ждет серьезная переделка.
Идеал закончил укладывать оружие и вдруг повернулся и посмотрел вверх, на мое окно, будто знал, что я за ним наблюдаю. Наши взгляды встретились – на долгие, долгие секунды, – пока я не отступила за штору, словно меня застигли за дурным делом. В этот самый момент кто-то постучал в дверь и открыл ее, не дожидаясь ответа. Это была Бетти с огромным подносом – разумеется, серебряным. Поднос был весь заставлен – стаканы, чашки, что-то накрытое серебряным колпаком и маленькая хрустальная ваза с цветком.
Я шагнула навстречу Бетти, чтобы помочь, но она холодно ответила:
– Все в порядке, мисс, – и поставила поднос на кровать.
Она отступила, сложила руки и поджала губы. Явно так и не простила мне вчерашнюю шутку насчет ее дикобразного мужа. Уставившись в пол и не сводя с него глаз, она сообщила:
– В ванной чистые полотенца, мисс; если желаете после завтрака помыться, я зажгу огонь и приготовлю вам одежду.
И продолжала торчать передо мной.
– Конечно, – сказала я, – спасибо.
Поначалу я думала, что и куска не проглочу, но когда Бетти наконец вышла, я забралась обратно в постель и вдруг поняла, что зверски голодна.
На подносе обнаружился тост в хрустящей белой салфетке, апельсиновый сок, кофе в маленьком серебряном кофейнике, корзинка с пирожками, а под серебряной крышкой-колпаком – полный английский завтрак: бекон, яйца, сосиски и черный пудинг. Лучший завтрак в моей жизни, и я готова была об заклад побиться: причина в том, что каждое животное, поучаствовавшее в этом угощении, еще недавно паслось в Лонгкроссе. Я даже черный пудинг слопала, хотя обычно к нему не прикасаюсь, немножко коробит от того, что его делают из крови. Он оказался невероятно вкусным: должно быть, потому, что его правильно есть утром в день охоты. «Кровь на завтрак», – мысленно произнесла я.