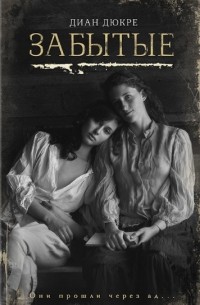Шрифт
Source Sans Pro
Размер шрифта
18
Цвет фона
Часть I
В Париже только-только наступил май. Платья женщин, сидящих на террасах в кафе, ловят каждый лучик солнца, падающий на них, каждый взгляд. Посетительницы сердятся на медлительного официанта, нервно поправляют выбившуюся прядь волос, когда гарсон наконец подходит, обмениваются банальными фразами, узнают друг у друга последние новости, прежде чем пропасть в чреве метрополитена. Весной Париж всегда одинаков, и это прекрасно. Солнце обладает чудесной способностью – оно заставляет мужчин забыть о зимних холодах, а вид распускающейся почки и оголенной ножки развеивает их печаль. Но в середине весны 1940 года разыгралась небывалая буря.
Уже с десяток лет в Европе чувствовались подземные волнения, и вот ужасное землетрясение внезапно разверзло почву. В недрах созрело что-то ужасное. В сентябре 1939 года появились первые толчки. Германия топчет Польшу. Через двое суток Франция вместе со своей соседкой Англией объявляет Гитлеру войну. Мир был создан в течение семи дней, а для того, чтобы принять решение его уничтожить, понадобилось гораздо меньше времени. У берегов Европы зарождается цунами.
Повсюду только и разговоров, что о войне. Некоторые считают, что она необходима для того, чтобы искоренить жестокость целого поколения, а то и двух. Другие с жаром доказывают обратное. Ах, ненавистная война, жалкое тщеславие тех, кто хочет ее развязать! Мы давим врага (затем появляется десять новых), превращаем города в руины, истребляем села, и все это во имя победы, которая в итоге не достается никому. Страсти разгораются, все друг друга ненавидят, и заканчивается тем, что на террасах кафе французы ведут войну между собой, потому что враг все никак ее не начинает. Так начинался май 1940 года.
Враг, похоже, все не решается напасть на Францию; выходит, о войне думали зря. Вот уже восемь месяцев ничего не происходит, и в конце концов над войной начинают смеяться. И с возвращением весны запах крови и мысли о смерти исчезают, оставаясь разве что в памяти никому не нужных и постоянно брюзжащих инвалидов войны. Юбки парижанок продолжают шуршать над тротуарами. С Парижем ничего не может случиться, потому что Город Света никогда не погаснет.
Десятого мая в пять тридцать пять утра войска Гитлера, словно мощный восточный ветер, обрушиваются на Нидерланды, молнией проходят Бельгию и вторгаются на территорию Франции, в Седан. Французская армия уступает натиску Вермахта. Люфтваффе, эти хозяева неба, обстреливают дороги, бомбят коммуникации, заставляя тысячи беженцев пешком или на велосипедах перемещаться на юг, подальше от войны. Рейх в этом буйном цветении не терпит чужих цветов, только свои, поэтому повсюду валяется столько оборванных распускающихся почек. Он продвигается к Парижу семимильными шагами. Германия во всеоружии, Франция в слезах.
Теперь уже не до смеха. Все иностранцы немецкого происхождения, лица без гражданства из далеких стран, связанных с рейхом, должны незамедлительно явиться в указанные пункты сбора. Таковы меры, предпринятые французским правительством против «пятой колонны», составляющей внутреннюю угрозу для страны. Зерна следует отделить от плевел. Охота на «нежелательных» женщин: иностранок, незамужних, бездетных – началась.
Тем не менее незадолго до этого Франция протянула руку помощи несчастным, которые пытались избежать страшной участи. По причине происхождения или же из-за своих убеждений тысячи немцев, враждебно настроенных по отношению к гитлеровскому режиму, а также множество евреев из Польши и Бельгии были причислены к политическим оппозиционерам. Каждый месяц во Франции их становилось все больше; они не знали, куда идти. В спешке их селили в дешевые гостиницы и заброшенные казармы. Общественность бросало в дрожь оттого, что эти иностранцы становились их соседями. Сколько из них при случае укусят руку, подающую им еду? Но французы все же мирились с их присутствием, чтобы не уподобляться нелюдям, на которых сами показывали пальцем.
Однако когда Гитлер внезапно приступает к блиц-кригу, беженцы становятся лишними.
Полицейские допрашивают прохожих, проверяют у них документы: зачистка, которая, как принято считать, необходима для безопасности Франции. «Нежелательные» женщины должны до семнадцати ноль-ноль явиться на Зимний велодром, а тех, кто не придет, обязательно разыщут. Есть среди них те, кто, повинуясь судьбе, набивает старые кожаные чемоданы, уже побывавшие на вокзалах Вены, Праги и Берлина, вещами, которые так дороги сердцу. Это вилки, ложки, кружки, платье с последнего летнего бала, ожерелье, доставшееся от бабушки, зеркало, письмо, карандаш и даже чулки.
Уму непостижимо, как такая прекрасная пора, когда распускаются цветы, может таить в себе столько страданий.
«Немцы, не покупайте в универмагах и у евреев!»
Лизе нельзя входить: она стоит у двери небольшого ателье по пошиву одежды Nikolaiviertelи читает текст объявления, выведенный черной кистью на белом листе бумаги. Двое эсэсовцев в черной форме выгоняют клиентов и больше никому не дают заходить. Стоя в витрине, Фрида, мать Лизы, знаками показывает ей, что все хорошо. Лиза снова смотрит на вывеску: слово «евреев» подчеркнуто жирной линией. У нее, как это часто бывает у молодых людей двадцати лет, просыпается желание протестовать, усиленное ощущением несправедливости.
– Ничего страшного, мы откроемся завтра! – кричит Фрида в спину солдатам, изображая на лице улыбку, а Лиза тем временем уходит.
Направляясь домой, в небольшую квартирку в Николаифиртель, Лиза оказывается в огромной толпе. В этот день, 1 апреля 1933 года, сто пятьдесят тысяч человек маршируют по улицам Берлина; вскоре к ним присоединяется почти такое же количество молодых людей из гитлерюгенда. Мальчишки в коротких штанишках гордо несут ножи, на лезвии которых выгравированы слова «кровь и честь», а на рукоятках – эмблема партии. Отец Лизы погиб под немецким знаменем во время последней войны, а теперь ей приходится видеть это! Толпа распаляется и скандирует националистические лозунги. Лиза съеживается, как животное, застигнутое хищником врасплох, затем отделяется от толпы. Где-то в глубинах ее естества рождается уверенность: нужно уезжать отсюда, с этой земли, разверзающейся у них под ногами.
На следующее утро под окнами их дома уже тихо, на тротуаре валяются вчерашние листовки, приглушающие шаги. Лиза находит мать на кухне: та, как всегда, молча сидит за чашкой кофе. Кажется, что Фрида совсем не волнуется. Все ее движения неторопливы: это движения женщины, которая смирилась со своей участью.
– Мы не можем жить в постоянном страхе! – бросает Лиза, сообщая матери о своем намерении перебраться в свободный мир, в Париж, пусть даже для этого придется пересечь Европу.
Мгновение – и решение принято: сесть в первый же поезд, оставить позади все, даже могилу того, кого она называла папой, даже его имя.
После скитаний по Венгрии, Чехословакии и Италии Лиза и ее мать обосновываются на правом берегу Сены, сняв чердачное помещение близ Бют-Шомон. Наконец-то они могут вздохнуть свободно: их грудь не сжимает боязнь, что их вышвырнут! Фрида быстро находит работу у одной обеспеченной дамочки, которой необходимо срочно обновить свой гардероб. Из-за всех этих тревог, вызванных войной, дама раздалась вширь. Нет-нет, она не поправилась, как она говорит, это аэрофагия. Бархатное платье темно-синего цвета, богато отделанное, вот-вот разойдется по швам, поэтому дама отдает его портнихе в благодарность за ее молчание. Оно уже немного вышло из моды, с такой длинной юбкой, приталенной блузкой и воротничком, доходящим до середины шеи. Вещь, изготовленную в Париже, нельзя выбрасывать, поэтому Фрида перешивает его для Лизы.
Что делать с нарядным платьем, если ты всего-навсего беженка? Конечно же, представлять, будто ты студентка и вдыхаешь вольный дух Сорбонны.
Лиза приподнимает длинную юбку, чтобы преодолеть шесть ступенек, которые отделяют двор от продолговатой площадки, спускающейся подобно ковровой дорожке к часовне с двумя статуями: Виктора Гюго и Луи Пастера – величественными символами ушедшего века. Студенты снуют туда-сюда с сосредоточенным видом, и Лиза наблюдает за ними, чувствуя себя так, будто находится за стеклом. Она могла бы стать одной из них, если бы говорила по-французски! У женщин короткие вьющиеся волосы под шляпой в форме колокольчика. Они подводят глаза карандашом, наносят на ресницы густой слой туши и хлопают ими, как бабочки крыльями. Их губы накрашены помадой! Женщины кутают в меха свои стройные фигуры и кажутся еще стройнее благодаря юбкам, оголяющим лодыжки. На ногах у них черные или белые туфли на каблуках, с застежками сверху. Все это так непохоже на Берлин! Застенчивой Лизе трудно привыкнуть ко всему этому. Она еще не знает, что такое мужская ласка. Эти женщины кажутся ей подделками, но подделками весьма искусными. Они танцуют, разговаривают, в их пальцах мелькает сигарета, они водят машины, занимаются любовью. Лизе хочется покорить целый мир, главное не рассказывать об этом маме.
Увы! У бравой Фриды, сломленной переездом и перспективой новой войны, которая все время давит на нее, случаются приступы дрожания правой руки. А им нужно трудиться, иначе они могут остаться без жилья, без мебели. Франция принимает иностранцев, но не дает им разрешения на работу.
Как-то раз, прогуливаясь перед кафе и пытаясь выучить французский, разбирая написанное в меню, Лиза натыкается на объявление «требуются девушки», наклеенное на фасаде одного из зданий квартала Ле-Аль. Вывеска «Свиное копыто» вызывает у девушки желание бежать со всех ног, но за неимением лучшего приходится довольствоваться тем, что есть. Изгнание заставило Лизу быстро повзрослеть. У нее нет специальности. В конце концов, быть официанткой не так уж и плохо.
Лиза вошла в кабинет с тяжелыми бордовыми занавесками и столами из красного дерева. Ей пришлось подождать хозяина.
– Раздевайся, – бросает мужчина с толстыми щеками, усевшись в кресло и даже не представившись.
Лиза не уверена, правильно ли его поняла, ее французский еще не на должном уровне.
– Давай снимай пальто. Вот так. Теперь приподними юбку! Я хочу увидеть твои ноги. Полностью! А побыстрее нельзя?
На щеках мужчины видны красные сосуды, расширившиеся от вина и напряжения. Сомнений быть не может! Да это и есть та самая свинья! Ох уж эти французы со своими странными нравами! Она ошиблась: мужчина ищет girls для журнала, и ему абсолютно плевать на то, умеет ли она носить поднос…
В голове у Лизы шумит, на сердце пусто; она решает искать пристанище в Сакре-Кёр. С высоты холма она любуется крышами столицы, утопающими в розоватых сумерках. Маленькие, большие, богатые, полуразвалившиеся, но отовсюду поднимается одинаковый дымок. Ближе к ночи, уже спускаясь с Монмартра, Лиза представляет, как прогуливается под уличными фонарями под руку с каким-нибудь французом. Он бы выпускал изо рта клубы сигаретного дыма. Они пошли бы в ресторан. Лиза составляет меню: филе «Россини» с пюре из сельдерея или даже… улитки, устрицы – все то, что она никогда не мечтала попробовать. Ничего вареного, только фаршированное или жареное. А на десерт – что-нибудь со сливочным кремом и фруктами. Это было бы очень вкусно…
Скандал, который она устроила перед «Свиным копытом», ругая хозяина на плохом французском с немецким акцентом, перемежая ругань бранными словами на идише, вызвал к ней сочувствие со стороны владельца расположенного неподалеку кафе, который всеми возможными способами пытался конкурировать с соседом. Итак, мать с дочерью смогли поселиться в дешевой квартирке в Шатне-Малабри, в нескольких десятках километров от Парижа. Значит, Сорбонна останется привилегией более умных женщин, которым Лиза теперь подает вино и шоколад. Она так хорошо ругается по-французски, что все уже почти забыли о ее немецком происхождении.
Но вот в мае 1940 года ей велено явиться на Зимний велодром.
Что же будет с Фридой? Лиза отдала ей все свои сбережения, двести франков, но надолго ли этого хватит?
Прощание было торопливым. Лиза еще раз поцеловала закутанную в темно-синюю шаль мать и подняла глаза на окна их двухкомнатной квартиры. На бельевой веревке – летнее платье, на открытом окне – клетчатые занавески. Резкий запах тимьяна… Это их дом. Старая Фрида проводит рукой по темным волосам своей единственной дочери. Они густые, свободно падают на плечи; пробор, строго посредине, подчеркивает симметрию ее лица с полупрозрачной кожей. Гладя по волосам ту, которая еще совсем недавно была ее маленькой птичкой, Фрида переводит взгляд с ее голубых глаз, таких чистых, что, казалось, в них отражается сама душа, на густые брови. Выражение лица Лизы порождает чувство гармонии, почти не нарушенной положением изгнанницы. Мать и дочь обнимаются дольше, чем обычно. Непонятно, кто из них кого утешает; ни та, ни другая не готовы разомкнуть объятия первой.
– Если тебе хочется есть – пой; если тебе плохо – смейся. Наслаждайся, пока живешь, – шепчет Фрида на ухо дочери.
Водитель давит на педаль акселератора, чтобы продемонстрировать свое раздражение; Лиза молча садится в автобус. Через стекло она смотрит на мать, изучает географию ее лица, на котором прослеживаются следы радости и боли: желанного и пережитого; ручей слез в долине ее глаз. Фрида кажется такой маленькой: одна на дороге, затерянная среди зданий из красного кирпича и цветущих деревьев; у нее никогда не было возраста, ведь она мама.
Из окон автобуса, увозящего ее далеко от дома, Лиза смотрит на бегущих по улице женщин: они крепко держат детей за руку, спеша поскорее добраться до укрытия, найти машину, убежать, уехать как можно дальше. Она не может понять, почему матери не должны ехать на Зимний велодром; не может понять, кому могла прийти в голову столь жестокая идея о разделении женщин на группы. Лиза прижимает к сердцу небольшой чемоданчик из коричневой кожи, с которым проделала длинный путь, начавшийся в Берлине. У нее не было денег, чтобы купить себе новый; да и, по правде говоря, она не думала, что он может ей понадобиться.
Колокола Нотр-Дама бьют полдень; пара сонных голубей срывается с места и перелетает на менее шумные часы Лионского вокзала. Ева закрывает оконные ставни в своей маленькой двухкомнатной квартире, расположенной на верхнем этаже трехэтажного фахверкового дома по улице Домениль. День 15 мая 1940 года выдался погожим: на небе ни облачка, которому можно было бы приписать ее внутреннее уныние. Но Ева сейчас не в том настроении, чтобы позволить голубому небу ввести ее в заблуждение. Вот уже несколько недель на парижских улицах вздрагивают, услышав немецкий акцент. Старые знакомые переходят на другую сторону тротуара, чтобы не пришлось здороваться, соседи ускоряют шаги на лестнице. Жителям Парижа были выданы противогазы, в каждом доме проверили состояние подвалов: выяснили, пригодны ли они для того, чтобы служить бомбоубежищами. Подвалы домов, расположенных недалеко от Сены, часто слишком маленькие либо же находятся в аварийном состоянии, поэтому необходимо выяснить, сколько человек сможет в них укрыться в случае опасности. Во время воздушной тревоги Ева слышит шепот испуганных соседей, сбившихся в стайку в маленьком подвале. «В этом есть и ваша вина!» – вот что читает она в каждом взгляде.
Ей хочется забыть. Забыть что? Да все, начиная с самой себя. Только музыка еще способна дарить ей забытье. В сумерках гостиной рояль кажется больше, чем обычно: судно, затерянное в темном море. Ева садится за инструмент. Какое-то время она остается неподвижной, ее тонкие пальцы как будто чего-то выжидают, не решаясь коснуться клавиш; она не знает, что играть. Но вот раздаются первые звуки. Несколькими аккордами соната Бетховена заполняет ее душу. От пианино веет приятным спасительным ветерком. Ева прогуливается вдоль берега, лунная соната звучит под полуденным солнцем. Мюнхенской пианистке всего тридцать лет… За семь лет жизни во Франции, где все навевает воспоминания, ее когда-то веселый нрав стал меланхоличным. Звуки сонаты переносят Еву в Байройт, в тот день, 15 августа 1933 года.
Винифред Вагнер пригласила Еву, известную пианистку, родившуюся в Мюнхене, на ежегодный фестиваль музыки. Какое счастье присутствовать на концертах, которые устраивают знаменитейшие мировые исполнители, собравшиеся здесь! По дороге к дворцу, где проходит фестиваль, Ева смешалась с огромной толпой. Люди стекались отовсюду. Некоторые уже давно были на месте, чтобы первыми поприветствовать великого человека, которого все ждали, – герра Гитлера. Как только он появился на балконе второго этажа, оркестр стал наигрывать мелодию из «Золота Рейна» и толпа встретила дорогого гостя громкими овациями. Ева почувствовала себя неловко: горячность была ей несвойственна.
Сидя в зале, она рассматривала публику. Все глаза были устремлены на ложу фюрера. Женщины гордо выпячивали грудь, мужчины пытались подражать его манерам. Среди представителей высшей буржуазии он слыл очаровательным; с ним не хотели расставаться. Когда концерт был окончен, Гитлер направился к выходу из зала и толпа расступилась перед ним, словно море; видные баварцы мечтали пожать ему руку. Ева оказалась как раз у него на пути. Фюрер был не выше ее, и, когда вплотную подошел к ней, Ева увидела его голубые, невероятно блестящие глаза. Он взял руку, которую она машинально приподняла, и коснулся ее губами. Еву пробрала странная дрожь… Несколько дней спустя она уехала в Париж, взяв с собой только партитуры. Поездка была долгой; лето все никак не наступало.
Ее пальцы продолжали играть, и звуки музыки перенесли Еву в тот день, когда она почувствовала себя такой одинокой в этом чужом городе. В Булонском лесу, возле Большого каскада, где она любила прогуливаться, однажды вечером Ева повстречала молодого человека в белых перчатках. Он предложил ей посмотреть вместе с ним на звезды. Они легли на шерстяной плед. Молодой человек показывал на созвездия тростью – ее он позаимствовал у мужчины, у которого служил водителем. Широко открыв глаза, Ева рассматривала небесный свод, который в тот вечер казался ей особенно открытым.
Время текло медленно, луна поднималась все выше, и Ева была полностью поглощена созерцанием небесных светил. Держаться за руки и смотреть на звезды – это казалось ей наивысшим наслаждением. Но ее новый знакомый начал проявлять нетерпение, ведь его хозяин скоро должен был вернуться из театра, каждая минута на счету. Его раздражала наивность этой немки с золотистыми волосами, тупо уставившейся в небо. Наконец, оставив ее, он сел в бордовый Citroёn Rosalie и громко хлопнул дверцей, выразив свое негодование. Париж стоит любовных неудач.
В тот же вечер Ева направилась на Монпарнас, в кафе «Купол», где иногда подрабатывала по вечерам, играя на рояле, чтобы иметь возможность оплачивать жилье. Ее грусть развеялась, когда она встретила Луи. Это был крепкий, хорошо сложенный мужчина: Ева таких видела нечасто. У него были по-немецки широкие плечи и смуглая кожа, как у француза. В Луи было что-то такое, что не поддается описанию, какая-то особая грация, шарм; волосы, зачесанные назад, низкие брови, квадратный подбородок. Они с Евой выпили, потом потанцевали. Их тела почувствовали взаимное притяжение и наконец нашли общий ритм. Когда заиграла романтическая мелодия, они прижались друг к другу, Луи обнял ее за талию сильной рукой. Они медленно скользили по паркету. Мужчина и женщина стали отражением друг друга. Затем Луи заговорил, и его глубокий голос заставил Еву на мгновение забыть об остальных.
По профессии Луи – столяр-краснодеревщик; он был коммунистом. Родился он в 1900 году возле Рубе; был членом небольшой организации рабочих-иммигрантов, смыслом жизни которых стало сопротивление гитлеризму. Луи раздавал листовки, организовывал встречи, обеспечивал беженцев работой. То ли из любви к нему, то ли из-за собственных убеждений Ева тоже вступила в эту организацию. Первого мая 1940 года Луи попросил ее руки, подарив вместо обручального кольца букет ландышей. Один из его информаторов, близкий к армии, предупредил Луи о том, что нападение Германии неизбежно. Седьмого мая возлюбленный Евы записался в ряды Сопротивления в Люксембурге. Увы, на следующий день страна была оккупирована вермахтом, который утопил попытку мятежа в крови…
Музыка все льется из-под пальцев, порхающих по послушным клавишам. Твердость, торжественность, нежность – все это вновь переполняет душу Евы. Она видит Луи сидящим в кресле, с закрытыми глазами: он кивает головой в такт каждому звуку, его душа тянется к ней. Слезы текут по ее щекам, пальцы больше не слушаются: воспоминания причиняют Еве боль.
Париж,
15 мая 1940 года
Дорогой Луи,
поскольку я не знаю, куда тебе писать, то пишу себе в надежде, что когда-нибудь ты это прочтешь. Это необходимо мне для того, чтобы почувствовать связь с тобой, чтобы заполнить пустоту, которую ты оставил в моем сердце, уехав неделю назад. Почти пять лет я прожила в Париже до встречи с тобой, но не уверена, что смогу оставаться здесь после нашего расставания. Глядя, как твой поезд отходит от Восточного вокзала, я чувствовала себя так, будто ты увозил с собой частичку моей души. Я была женщиной, потому что ты был моим мужчиной. Часы, последовавшие за этим, были для меня трудными, очень трудными… Я по-прежнему живу в нашей квартире среди предметов, которые покинула жизнь. Мысль о том, что я больше никогда тебя не увижу, ничего не буду знать о твоей жизни, о том, как проходят твои дни, ужасно меня угнетает. Мое тело налилось такой тяжестью, что мне трудно двигаться и я почти не выхожу на улицу. Иногда мне в голову приходят безумные предположения. Может быть, тебя арестовали и ты сейчас в одном из тех лагерей, о которых когда-то мне рассказывал? Может быть, тебя убили? Но я бы почувствовала это, не так ли? Как это странно, мой дорогой Луи: тебя нет рядом, но ты повсюду со мной. Я успокаиваю себя, говоря, что ничто не сможет нас разлучить, пока я полна тобой. Ты ведь скоро вернешься, правда? Мне сказали, что я должна явиться на Зимний велодром для какой-то регистрации, но я не пойду туда. Останусь здесь и буду ждать тебя. Кроме тебя, я никого не хочу видеть. Без тебя мир пуст.
На лестнице слышны шаги. Сердце Евы стучит все быстрее, по мере того как шаги приближаются; оно бешено бьется. Нужно спасаться, но она не двигается с места. В чем она провинилась? Она всего лишь немка, которая сбежала от диктатора. Если бы Луи на ней женился, она стала бы гражданкой Франции и ей не нужно было бы идти на Зимний велодром. Шаги замирают. Чья-то рука нервно стучит в дверь, трижды, как в театре. Ева продолжает играть, чтобы не слышать голосов, которые приказывают открыть.
Квартирная хозяйка торопится впустить двух представителей французской полиции, и они врываются в квартиру. Ева делает паузу, затем играет «Бурю», еще упорнее, даже в ее пальцах ощущается решимость во что бы то ни стало сохранить чувство собственного достоинства. Полицейские приказывают ей следовать за ними, дают несколько минут на то, чтобы собрать вещи. Ева никак не реагирует на их слова. Насмешливое молчание, сопровождаемое музыкой, которую он не понимает, выводит младшего полицейского из себя. Поглаживая пистолет, он повторяет приказ. Чтобы произвести впечатление на Еву, полицейский делает ударение на слове «бошка». Женщина устремляет на них большие черные глаза. Молодой человек стреляет в зеркало над камином, и Ева смотрит туда, не двигаясь. Три фигуры, отражавшиеся в зеркале, казалось, взрываются, квартира изуродована мириадами маленьких осколков… Чтобы скрыть замешательство, молодой полицейский, оглушенный выстрелом, начинает открывать ящики комода, стоящего у кровати. Наконец-то у него есть виновная, которой можно отомстить за позор, пережитый его родиной, за унизительное поражение, грозящее им, за обиду и трусость. Ева в спешке собирает вещи, хватает тетрадь, вырывает из нее двойной лист, складывает его пополам: один, два, три раза, затем прячет под блузку. Полицейские выводят ее из квартиры.
Они доходят до узкой лестницы. Старший полицейский почтительно объясняет Еве, что волноваться не стоит, это необходимо для ее же безопасности. Женщины из Германии в Париже больше не могут чувствовать себя в безопасности: народная месть поджидает их на каждом углу, выискивает, чем бы поживиться. Перед грузовиком, в котором уже стоят четыре женщины, Ева замедляет шаг. Молодой полицейский подталкивает ее дулом пистолета. Ее чулок рвется, зацепившись за кузов; заколки падают на асфальт… Ева, растрепанная, в порванном чулке, смотрит из окна грузовика на мрачную дорогу и видит Париж, лишенный половины своих жителей.
Полицейская машина на большой скорости проехала мимо Сены, проскочила вдоль набережной, промчалась мимо Эйфелевой башни, да так близко, что Еве показалось, будто она покачивается на своих гигантских ногах. Они остановились в сотне метров от башни, на углу бульвара Гренель и улицы Нелатон, в XV округе Парижа. Еву выталкивают из машины; она неловко пытается привести в порядок свою помятую одежду.
Ева оказывается среди сотен тысяч женщин, выстроившихся в очередь, и в отчаянии опускает руки, понимая, что нет смысла прихорашиваться в этом море растрепанных дам. Еще никогда она не чувствовала себя такой одинокой, как сейчас. Толпа толкает ее, сбивает с ног; запахи заставляют Еву отворачиваться и вызывают тошноту. В голове гудит пчелиный рой. Однако что может быть более трогательным, чем блестящие от волнения и непонимания пять тысяч пар глаз, устремленных в одном направлении?
Зимний велодром гордо выпячивает свой металлический каркас, словно судно, потерпевшее крушение. Он мог бы вместить семнадцать тысяч человек. Стадион возвышается, поблескивая болтами на послеполуденном солнце: они остались еще со времен Всемирной выставки и являются прямыми наследниками ее девиза: индустриализация – прогресс человечества. Народ торопился, чтобы не пропустить велогонки; соревнования обычно открывали королевы шансона: Воробышек Пиаф или Иветт Орнер. Но сейчас здание окружено зенитными пушками. Женщины топчутся в нескончаемой очереди, их каблуки поднимают пыль, словно копыта табуна лошадей. Ева медлит; она оборачивается и поднимает глаза. Сена искрится на солнце, его лучи отражаются в цинковых крышах. Чайки весело перекрикиваются, пролетая под шестью чугунными арками моста Гренель. Еву толкают, чтобы она двигалась вперед.
Париж исчезает.
Когда Ева была маленькой и жила в Мюнхене, она любила смотреть, как солдаты в идеально выглаженной форме, коротко подстриженные, с безупречной осанкой, уверенно вышагивают у них под окнами; казалось, что даже от их кожаных ботинок веет храбростью и гордостью. Тогда Ева думала: «Война – это красиво!». Но внезапно, когда она очутилась в этом диком женском стаде, война предстала перед ней в ином свете. Ева поняла: война – это болезнь.
Некоторых женщин схватили на улице – они были в вечерних платьях; других подняли с постели. Кое-кто держит в руках корзинки с провизией. Ева ищет глазами кого-нибудь, с кем можно было бы поделиться своим недоумением, но все отводят глаза, нетерпеливо выслеживая на лицах полицейских взгляд или улыбку, которые могли бы их успокоить. Вооруженные стражи порядка преследуют тех, кого газеты отныне называют «нежелательными женщинами» – женщинами, которые не нужны обществу, которые должны быть вне поля зрения приличных граждан, вне закона, которые должны уехать, исчезнуть; это паразиты, и люди хотят забыть о том, что когда-то их любили.
Чемодан Лизы, затерявшийся среди цветастых летних платьев, толкают со всех сторон. Женщины орудуют локтями, чтобы быстрее войти в помещение. «Зачем же торопиться в тюрьму?» – спрашивает себя Лиза, с подозрением поглядывая на эту наивную спешку. Двое охранников у двери выполняют первый этап проверки, с тем чтобы потом можно было приступить к регистрации личности. Слышатся покорные ответы, но есть и те, кто отказывается смириться с неизбежным, тычет в нос полицейскому медицинскую справку, свидетельствующую о больной печени или почке; есть среди собравшихся и такие, кто угрожает своими связями наверху. Женщины успокаивают себя как могут, говорят сами с собой. «Комиссар пообещал, что после войны меня сразу же освободят», – хвастается одна. «Я уверена, что беременна, – признается другая. – Это должны принять во внимание. Меня отпустят».
Перед Лизой остается уже не более десятка женщин. Она думает о том, что могло бы помешать ей войти в это змеиное гнездо. Никто не знает, что их ждет. Увы! Она не может найти ни одной причины, которая препятствовала бы ее аресту, и крепко сжимает ручку чемодана, как будто ища у него поддержки. В чемодане лежат завернутые в простыню предметы первой необходимости: зубная щетка, миска с ложкой, одежда.
Голоса церберов звучат все громче и громче. Часы бьют пять вечера. Погода угрожающе портится. На терпеливую толпу, постоянно пополняющуюся новыми женщинами, обрушивается ливень. Две тысячи слабеньких птичек с промокшими крылышками. «Здесь ошибка, я не немка! Я родилась в Эльзасе, когда он был немецким, но теперь это Франция, видите, у меня французские документы», – пытается объяснить маленькая немолодая женщина, стоящая в очереди перед Лизой. «Тут я решаю, кто немец, а кто нет, мадам, – отвечает ей комиссар, дежурящий у входа в помещение. – Следующая». Лиза протягивает свои документы. Комиссар молча их изучает. «Ножи, ножницы есть?» – следует вопрос. Она вынимает из чемодана миниатюрные ножницы в красном кожаном футляре.
Их подарила ей мама, когда Лизе исполнилось пятнадцать лет, в надежде, что дочь пойдет по ее стопам и тоже станет модисткой. Комиссар передает конфискованный предмет охраннику, стоящему у него за спиной; тот хватает ножницы и торопливо делает пометку в бумагах. Лиза никогда не дорожила этими ножницами, просто пользовалась ими, вот и все. Но теперь, когда она увидела их среди множества различных предметов, сваленных в кучу, ей показалось, что ее лишили части прошлого.
За ее спиной закрываются тяжелые двери. Лиза переступает порог стального храма со стеклянным сводом, отражающим свет. Видно, что в помещении много дыма и пыли. Лиза, внезапно охваченная страхом, проходит вперед по изогнутой дорожке из пихтового дерева, которое под воздействием солнечных лучей насыщает воздух своим запахом. Вокруг возвышаются два яруса кирпичных трибун, и Лизе кажется, будто она на спектакле.
К ней подходит доктор, заглядывает ей в рот, просит покашлять. Отмечает в огромном списке: «Пригодна». Затем обращается к эльзаске, стоявшей перед Лизой: «Любой может заплатить за медицинскую справку о раке груди, мадам. Пригодна». Лиза вглядывается в лицо этой женщины. Ей за пятьдесят, она говорит по-французски без малейшего акцента. Дорожка из гладкого дерева становится тропинкой слез и растерянных взглядов.
Лизе протягивают тиковый чехол и охапку соломы, чтобы его набить; она тащит все это за собой, пытаясь найти свободное пространство. Лучшие места на трибунах заняты. Одежду уже развесили, и на нижние ряды, где женщины собрались маленькими группками, падают тяжелые капли. Некоторые набили матрасы таким количеством соломы, что теперь не могут на них лечь – постоянно соскальзывают вниз. Вид мокрых женщин, скатывающихся со своих тюфяков, совсем не кажется Лизе забавным. Она бросает вещи в облако пыли, которая тут же садится на ее мокрые волосы. В длинном платье, прилипшем к телу, Лиза похожа на купальщицу в костюме начала века, стоящую посреди свинарника.
Зимний велодром,
15 мая 1940 года
Любимый мой,
где ты? Я писала тебе сегодня утром. Я была уверена, что страдаю, но какой же я была тогда сильной, сколького не знала! С тех пор все исчезло, меня привезли на Вель д’Ив. Здесь стоит многоголосый шум, и в нем все теряется – даже я, словно в бушующем море. Закрывая глаза, я представляю себя на берегу далекого океана, а все эти женщины становятся чайками, дерущимися из-за добычи над рыбацкой сетью. Я пытаюсь вести себя как ни в чем не бывало, но едва сдерживаюсь, чтобы не завопить и не наброситься с кулаками на полицейских. С каждым часом мне все тяжелее это выносить. Единственное, что могло бы меня успокоить, – это твой адрес, куда я смогла бы написать. Я должна хранить эти письма при себе, я единственная, кто может их читать, и получаю в ответ кое-что похуже, чем просто молчание, – целую пропасть разлуки. Твой отъезд, на следующий день – ужасная весть о вторжении и целая неделя, полная тревоги о твоей судьбе, о судьбе человечества. А теперь это. Что творится в нашем жалком мире, дорогой? Ты не представляешь, что со мной сделали с тех пор, как я оказалась здесь. Скоро ли я отсюда выйду? Я боюсь, что мы останемся здесь, как в ловушке, что нам не избежать судьбы мышей, с которыми играет кошачья лапа. Мне страшно, Луи. За тебя я боюсь еще больше, чем за себя. Ты разбираешься в политике, но совсем не умеешь пить горячий кофе из жестяной кружки и не обжечь при этом пальцы. Не обожгись, Луи, мой Луи. Без тебя меня нет.
Женщины шепчутся о том, что охранники скорее отбирают вещи, чем ищут что-то. Проверка окончена, и Еву направляют налево, в маленькую кабинку, где просят полностью раздеться. Она поворачивается к французскому полицейскому спиной, чтобы избежать его пристального взгляда, и пользуется этим моментом для того, чтобы просунуть руку под корсаж и сжать в руке маленький клочок бумаги, который она положила туда во время задержания. Чернила образовали пятно на кружевном декольте. Наконец Ева достает драгоценный листочек, разворачивает его, пробегает глазами по размытым строчкам, которые тем не менее еще можно разобрать: Луи, вернувшись поздно, каждый раз писал записки для нее, прежде чем лечь спать, чтобы она прочитала их утром. Тут и увядший, но все еще источающий стойкий аромат ландыш из того самого букета, который возлюбленный подарил ей, делая предложение. Когда полиция приехала, чтобы арестовать Еву, эта вещь показалась ей самой необходимой, чем-то вроде карты, которая не позволит путнику потеряться в далекой незнакомой стране.
Выйдя из кабинки, Ева рассматривает зал. Везде женщины. Каждая сжимает поклажу: по качеству багажа можно определить социальный статус хозяйки. Здесь есть представительницы буржуазии, есть и служанки, интеллигенция, работницы, которые приехали во Францию в поисках работы, политические беженки, покинувшие страну, где не осталось места их убеждениям, были и те, кто хотел скрыть свое происхождение. Тут были француженки, вышедшие замуж за немцев, немки, вышедшие за французских офицеров; были женщины, которые в прошлом веке отказались от своей национальности, но потом снова ее приняли; венгерки, польки, бельгийки: люди без гражданства. Франция была для них землей обетованной, без бога-мстителя и диктатора; они искали здесь приюта. Ева продвигается вперед, чтобы проникнуть в эту Вавилонскую башню, готовую в любой момент рухнуть, в которой говорят на всех языках, где вспоминают кто мужа, кто любовника, оставшегося в квартире с распахнутой дверью или полностью развороченной.
Перед ней мелькают знакомые лица, словно скалы над волнами: монпарнасские знаменитости, завсегдатаи «Купола», где она играла. Среди них – немка Герда Грот, любовница Хаима Сутина, популярного художника из России; расплывчатые, ускользающие женские лики, которым его руки дарят жизнь на полотне, он наделяет добрым, сочувственным взглядом. Хаим познакомился с Гердой на собственной выставке в Пти-Пале, затем пригласил в «Ресторан у собора». С тех пор они не расставались, пока ее не арестовали.
«Дорогая Герда, я тебя не забываю. Тебе нужно привыкнуть к новой жизни, сейчас все несчастны… Сутин, художник, вилла Сёра, 18. Париж, XIV округ».
Рядом с Гердой – темная шевелюра художницы Лу Альбер-Лазар; ей уже пятьдесят пять, а она все так же красива. Лу родилась в Эльзас-Лотарингии, в сентябре 1914 года переехала жить в небольшой городок возле Мюнхена; туда ее привез бродяга с ясным взглядом. Вскоре он был мобилизован в пехоту. Это был талантливый австрийский поэт, влюбленный в любовь, в ее волшебную сущность и возвышающую силу; звали его Райнер Мария Рильке. Он написал для Лу несколько стихотворений, и она отдала ему свое сердце.
Как смеют называть их «нежелательными»? Здесь собрались французские музы! Без них не появляется ни одной картины, ни одной поэмы. Ева углубляется в самую гущу этого сборища, кажущегося сюрреалистичным. У нее на глазах открывают чемоданы, и перед ней предстает жизнь этих женщин в миниатюре. Пишущие машинки, книги, маленький аккордеон, ваза, губная помада. Каждая оберегает свои вещи, как будто это величайшая ценность на земле. Еврейки, немки, француженки, которые осмелились сказать «нет» или же ничего не сказали; теперь они – враги. Их около пяти тысяч.
Странный шум вырывает Еву из задумчивости. Круглый кусок сыра быстро катится по дорожке, за ним бежит пышногрудая дама, следом за ней – молодая брюнетка; за ними обеими гонится полицейский, дуя в свисток. Первой из женщин пришла в голову прекрасная идея взять с собой немного реблошона. Открыв чемодан, она достала сыр, чтобы, скорее всего, вдохнуть аромат родной Савойи, но головка, почувствовав свободу, выскользнула у нее из рук и покатилась по дорожке. Хозяйка сразу же бросилась за ней, перебирая босыми ногами и придерживая на бегу свой роскошный бюст. Лиза при виде того, с каким трудом та передвигается, помчалась наперерез в погоне за реблошоном. Реблошон, должно быть, был выдержан по всем правилам, потому что уворачивается от всех тех, кто за ним гонится. Полицейский, чьей обязанностью было следить за порядком, вскоре настиг женщин, но, поскольку у него были проблемы с речью и к тому же он запыхался от бега, он начал заикаться. Лиза всматривается в его непослушный рот, приказывающий ей ннн… ннеее… немедленно ссс… сссее… сссесть. Остальные полицейские собирают женщин в группы по шесть человек в ложу, чтобы приступить к подсчету.
Внезапно внимание Лизы привлекают яркие вспышки в западной части велодрома. Пользуясь шумихой, которую подняли полицейские, она направляется в ту сторону. Сквозь ворота, предназначенные для выхода артистов, журналисты просовывают фотоаппараты. Одному из них удалось протиснуть голову между двух заграждений с массивными цепями; он знаками просит Лизу посторониться. Журналистов интересуют не все заключенные. Они ждут появления иконы стиля, популярной немецкой актрисы Диты Парло, которая стала известна в Германии после того, как исполнила главную роль в звуковом кино. Она была первой актрисой, заговорившей с экрана. До нее в кино не было слышно ничьего голоса. Это произошло в 1929 году, до изгнания всех этих женщин, каждая из которых мечтала походить на нее. Через несколько лет кинозвезда сбежала от нацизма. Мудрая ирония жизни, превращающей нас то во властелинов, то в рабов: та, которая так взволновала французов историей о запретной любви к врагу в «Великой иллюзии» Ренуара, стала теперь их жертвой. Дита объясняет комиссару: «Меня взяли на главную роль в следующий фильм Орсона Уэллса!» Увы, обещаний голливудской знаменитости недостаточно для того, чтобы ее спасти. Фарфоровый ангел с мрачным взглядом появляется под стеклянным куполом. Бряцание украшений, которые Дита кладет на стол для проверки, заглушает общий гул. Комиссар роется в ее сумке и конфискует пилочку для ногтей. «Варвары! Развратники! Забрать у женщины пилочку – это бесчеловечно, я буду жаловаться! Без пилочки ногти превращаются в когти, а женщины – в львиц! Если господин Гитлер хочет привести в порядок свои ногти, я подарю ему целый набор пилочек, но верните мне мою!» Внезапно наступает тишина. Дита делает несколько шагов вперед, стук ее каблуков рикошетом отдается в этом море всеобщего гула и сигаретного дыма. Fräulein Парло высоко держит голову; она не одна из них, она играет роль, роль заключенной, осталось только привыкнуть к декорациям и не обращать внимания на массовку.
Снова поднимается шум. Дите Парло уже за тридцать, но она оказалась среди тех, кто вдвое моложе ее. Она не замужем, у нее нет детей. Как и у всех собравшихся здесь женщин. И то, что юным девушкам кажется незначительным, у женщин постарше вызывает ощущение пустоты.
Журналистов прогнали, Дита устроилась в первом ряду. Никто не хочет к ней подходить, ее подозревают в том, что она работает на немецкую контрразведку. «Хорошие девочки попадают на небеса, а остальные – сюда. Каждая из нас в чем-то виновата», – кажется, говорят ее глаза всем тем, кто смотрит на нее с осуждением. Завороженно глядя на нее, Лиза беспомощно ложится на свой тюфяк; ей очень хочется испариться, исчезнуть. Майский вечер мягкими красками опускается на стеклянный купол, озаряя узниц Зимнего велодрома розовато-оранжевым светом. Внезапно зажигаются тысячи лампочек, придавая зданию сходство с танцевальным залом.
– Если над велодромом разорвется бомба, стеклянный свод разобьется и его осколки вопьются в спящие тела. Не позволите ли вы мне в таком случае пролезть через ограждение вашей ложи вместе с моей группой, чтобы сбежать? Вы лежите как раз на пути к выходу.
Ева, сидящая на тюфяке, молча рассматривает женщину с темными волосами, зачесанными назад; ее шея скована высоким застегнутым воротником. Эта хищница, вся в черном, окружена компанией молодых женщин в очках. Ева предпочла бы, чтобы ее мысли не прерывали подобными вопросами. Гитлер, бросающий бомбы на Париж… Она никогда об этом не думала. Теперь она представляет себе тела, искалеченные стеклянными осколками, которые усеяли землю, словно ноты реквиема, разбросанные по пропитанной кровью партитуре. Ева кивает. Пифия удосуживается назвать свое имя: Ханна Арендт, затем удаляется в окружении свиты – своих беспардонных почитательниц. Глядя Ханне в спину, Ева невольно испытывает сочувствие. Без сомнения, ей тоже за тридцать и у нее нет детей, иначе она не находилась бы здесь.
Помещение велодрома не проветривается. Вокруг жужжат, свистят, трезвонят сирены… Полиция, «скорая помощь», воздушная тревога. Звуки постоянно чередуются, и на стадионе нет помещения, где от них можно было бы укрыться. Сирены пронзительно воют, и уже не знаешь, что они означают: начало или конец тревоги. Когда они наконец смолкают, начинает гудеть бомбардировщик; этот звук более глухой, низкий, кажется, что от него дрожит весь стадион. Тень от самолета проносится над велодорожкой, и, когда поднимаешь голову, видно, как он пролетает над стеклянным сводом, словно хищная птица над беззащитным гнездом. Внезапно слышится взрыв. Невозможно понять, что это: весенний гром или бомба. Женщины ждут, едва осмеливаясь дышать. Чего? Чтобы здравый смысл восторжествовал, чтобы нашли настоящих нацистов и отпустили остальных, ведь Франция – не та страна, где женщин сажают в тюрьму. Но военные не шевелятся. Они тоже ждут, не говоря ни слова, бледные и напряженные.
Медленно опускается ночь. Вскоре уже нельзя различить лиц. Тела вытягиваются на тюфяках; по небу плывут облака. Помещение превращается в камеру пыток. От стеклянного купола исходит страх. Слышны выстрелы. Под необыкновенно яркими звездами раздаются истерические крики и жалобы. Каждая из женщин спрашивает себя, в чем ее вина. Для тех, кого собрали на Зимнем велодроме, чувство вины наделяет эту ночь особым смыслом.
Ворота теперь заперты. Наряд солдат несет караул. У входа на стадион плачут те, кого не впустили. Они пытаются увидеть в последний раз лица тех, кого они провожали, кого любят. На них смотрят отрешенным взглядом, безмолвно выражающим непонимание. Заглянув в ворота, приоткрытые для проезда военного грузовика, они замечают соседку или родственницу. Они смеются, подают знаки. Но правила строгие, арестованные не должны общаться с внешним миром.
Перед воротами останавливается такси. Из него выходят две женщины с пакетом в руках. Они называют имя и хотят узнать, по-прежнему ли их подруга находится на территории велодрома. «Понятия не имеем», – отвечают ей. Женщины вступают в переговоры с охранниками. Вход воспрещен. Никто не проникнет на стадион. Отныне «нежелательные» находятся под контролем военных, навещать их нельзя. Посетительницы все же хотят всучить охранникам пакет и спрашивают, передадут ли его их подруге. «Если человек покинул эту территорию, пакет будет отдан интернированным». Шествие у ворот продолжается. Солдат без устали повторяет одно и то же: «Никто не выходит, никто не заходит». Женщины настаивают. Невозмутимый караульный по два, по три раза повторяет им одно и то же: «Мы не можем гарантировать, что ваша передача попадет в руки той, кому она предназначена. Мы не можем сказать, есть ли здесь человек, которого вы ищете. Приходите завтра: будет вывешен список отъезжающих».
И был вечер, за ним наступило утро.
На второй день женщины смотрят друг на друга уже по-другому, более ясными глазами. Рассвет не развеивает ощущения, будто ты оказался в сумеречном мире, среди призрачных фигур. Резкий белый свет освещает прически и черты лица, которые еще вчера имели какой-то вид. Из темноты возникают женщины, неподвижные, словно Пьета без сына. Военные раздают горячий кофе, ситный хлеб и немного печеночного паштета в консервной банке, а еще – густой дымящийся суп.
В просторном помещении нет ни одного окна для проветривания. Ева всю ночь сдерживалась, но теперь направляется к туалетам. На стадионе всего двенадцать туалетных кабинок. Часть из них закрыли – в них есть окна, через которые можно убежать. Часть с раннего утра засорена и непригодна к использованию. Работают всего две кабинки, но, чтобы туда попасть, нужно выстоять очередь, которая растягивается на несколько десятков метров. Женщины сдерживаются сколько могут и в конце концов справляют нужду где попало: потоки личного унижения среди всеобщего омерзения. Есть еще двадцать писсуаров. Ева, стоящая перед приспособлением, предназначенным для мужчин, предпочитает сдерживаться с помощью всевозможных поз: это лучше, чем присесть и помочиться прямо на землю, как животное. Все это не может быть правдой… Закрыв глаза, чтобы забыть то, что она видит, она пытается преобразовать навязчивый шум в симфонию, а нестройные голоса – в хор. Ева чувствует, как кто-то кладет руку ей на плечо.
– Я нашла душевые кабинки. Но караульные не сводят с нас глаз. Нужно идти туда вдвоем, чтобы прикрывать друг друга, – предлагает ей Лиза.
Она прошла вдоль дорожки и изучила каждую женщину. Лиза читала в их глазах ярость, страх, ненависть или отчаяние, но искала чего-то большего. За свои тридцать лет она никогда еще не жила одна; впервые она спит вдалеке от Фриды. Ей нужна подруга, во взгляде которой можно найти то, что есть в материнских глазах, – живую силу, состоящую из надежды и внимания. Лиза не любит говорить, она предпочитает общаться с помощью взглядов, но материнского взгляда тут не встретишь. И тут она замечает Еву. Короткие светлые волосы, обрамляющие круглое лицо, делают ее старше, в то время как сама Лиза считает себя еще ребенком. Блондинка стоит, повернувшись лицом к писсуарам, в то время как другие присаживаются где-нибудь в углу: это значит, что она не сдалась. Лиза протягивает Еве руку.
После исчезновения Луи Ева впервые ощущает человеческое тепло на своем теле. Она смотрит на пальцы Лизы, приподнимает их, пристально изучает. Пухлые подушечки с легкостью ложатся на Еву, сами пальцы тонкие и изящные, как ветви благородного дерева, мягкие и длинные, суставы упругие и тугие, как морской узел; сжимая пальцы сильнее, Ева чувствует, что они дрожат. Лиза не ожидала, что ее рука может стать объектом столь пристального внимания; смущение сковывает ее мышцы; она начинает опасаться, что перед ней какая-нибудь гадалка, и хочет высвободить руку.
– У вас пальцы пианистки, – увлеченно говорит Ева.
Благодаря этим удивительным рукам ей уже не так одиноко.
– Я не умею играть ни на одном музыкальном инструменте… Думаю, что я просто слишком худая, – отвечает Лиза с улыбкой.
– С такими длинными пальцами вы могли бы исполнять произведения Листа, я уверена.
– В таком случае мой нос должен быть настоящим виртуозом!
Учитывая положение, в котором они очутились, эта шутка могла бы показаться мрачноватой, но женщины от души смеются, заражая друг друга этим внезапным приступом веселья и как будто пытаясь смыть с себя эти часы, полные страха и сомнения. Ева поднимает глаза на свою новую знакомую. Ей кажется, что она может увидеть, как кровь течет по венам Лизы, настолько прозрачная у нее кожа. Ни в этих голубых глазах под темной шевелюрой, контрастирующей с ее светлыми волосами, ни в этих губах, таких красных, что, кажется, под ними находится сердце, нет ни капельки злости.
– «Мыло для тела – то же, что смех для души», – так говорят у нас, и я думаю, что нам жизненно необходимо привести себя в порядок, пока другие не обнаружили душевые кабины. Ты пойдешь со мной? – настаивает Лиза.
– Я не знаю такого выражения, – виновато отвечает Ева.
– Это еврейская пословица, ее часто повторяла мама, когда купала меня в детстве.
– Я не говорю на иврите.
Арийка… Тысячи лиц вокруг, а ее привлекла именно арийка! Лиза отпрянула. Ева удержала ее руку.
– Очень хорошая пословица, мне нравится, – мягко говорит она, словно для того, чтобы показать: она не из тех, кого стоит бояться.
Держа руку Евы в своей, Лиза отводит ее в другой конец здания, чтобы поделиться своим открытием.
– Это похоже на кабинки на шикарных французских пляжах, в которых женщины надевают купальники! – усмехается Ева при виде маленьких кабинок из белого дерева, накрытых остроконечными крышами.
– Да, вот мы и на море. Мы в колонии, скажем спасибо французскому государству!
Каждая старается скрыть тревогу за шутками, скрепляющими их дружбу. Нужно раздеться. У Евы дух свободный, но она стесняется обнажаться. Она не стыдится своей наготы, но взгляд человека, который будет на нее смотреть, должен быть дружеским, доброжелательным. Лиза же никогда не раздевалась среди бела дня. В самом факте интимного доверия она видит таинственную сопричастность душ, дар, благословенный небесами, которым не стоит пренебрегать.
– Нам нужно придумать пароль, – размышляет вслух Ева. – После того как одна из нас его произнесет, другая сможет повернуться и подать вещи.
Лиза одобрительно кивает.
– Выбери слово, которое тебе нравится, и оно станет нашим паролем, – говорит она, потому что самой ей в голову ничего не приходит: ни одно слово не кажется ей достаточно торжественным и не привлекающим внимание, чтобы исполнить важную роль, которую они на него возложат.
– Ананас, – отвечает Ева и, поймав удивленный взгляд Лизы, понимает, что необходимо объяснить свой выбор. – Этот десерт мы ели с Луи, когда последний раз ужинали в «Куполе», – кусочки ананаса в сиропе. Тогда казалось, что в этом нет ничего особенного, но сейчас я думаю, что это вкусней всего на свете.
– Ананас, – повторяет Лиза, опуская глаза; ее щеки покраснели.
Ей кажется, что это слово – странный талисман, страж былой стыдливости, которую им пришлось отбросить.
Ева первой заходит в ближайшую из небольших кабинок, снимает одежду, кладет ее на плечи своей новой подруги, которая будет ее прикрывать. Тут же к ним подходит мужчина в униформе и приказывает Еве поторопиться. Нужно как можно быстрее воспользоваться слабыми струйками воды, стекающими из душа, и уступить место следующей. Забыв про кодовое слово, о котором они договаривались, Лиза поворачивается к Еве, чтобы повторить ей приказ военного, и замечает глубокий темный шрам, пересекающий живот по горизонтали. Лиза отворачивается так быстро, насколько это возможно, молясь о том, чтобы ее новая знакомая ничего не заметила. Рука Евы нащупывает ее плечо в поисках своей одежды.
– Ананас, – наконец произносит она, собираясь в свою очередь прикрывать подругу по несчастью.
В полдень – такой же паек, и вечером тоже. Какая-то нищенка пытается броситься с лестницы, но ей мешает платье, другая отказывается есть; кто-то зовет свою давно умершую мать. Все изменились, как будто под воздействием злых чар, исказивших их черты.
Вечером некоторые женщины тайком пишут тому, кто, как они надеются, их ждет. Словно для того, чтобы не слышать крики тех, кто, не имея близкого человека, впадает в истерику.
16 мая 1940 года
Мой дорогой Луи,
здесь запрещено читать газеты, и я не знаю, что происходит в мире. Где ты? У тебя все хорошо? Здесь находятся самые шикарные женщины разных национальностей и вероисповеданий, и в основном все пока что держат себя в руках. Сколько времени это будет продолжаться? У меня такое ощущение, что скоро мы превратимся в животных, готовых накинуться на кусочек мяса. Больше всего мы страдаем от безделья. Французы говорят, что нужно «убивать время». Но теперь, когда идет война и умирают люди, это выражение кажется мне неуместным. Чем занять себя, если ты – узница небытия, которое вращается вокруг своей оси? Ночью у меня в голове мутится, меня не покидают печальные мысли, особенно когда кто-то из соседок получает письмо от мужа. Тогда я чувствую себя самой одинокой и самой несчастной на свете. Наверное, это ощущение знакомо каждой из пяти тысяч женщин, находящихся здесь, но от осознания этого мне только хуже. Я бы так хотела оказаться наедине с тобой! Надеюсь, этой ночью мне удастся немного поспать: так мы хоть немного побудем вместе.
Спокойной ночи, мой любимый.
Вторая ночь была не лучше первой, и пробуждение тоже. Трибуны превратились в настоящую клоаку. Женщины шлепают по грязи, моча стекает к дорожке. От жуткого месива исходит удушающий смрад. Зловонию неведомы национальности. Ночью женщины дрожат, как только до их слуха доносится малейший шум, и молятся о том, чтобы стеклянный свод не обрушился им на голову.
Каждое утро Лиза проходит по этим нечистотам к Еве, и они по очереди произносят пароль. Каждое утро Лиза притворяется, что не замечает шрама на теле подруги: это было чем-то вроде пропуска к зарождающейся дружбе.
Так прошло десять дней. Женщины не знали, что происходит в мире. Но однажды утром все изменилось.
Восемь утра, 24 мая; Лиза старательно складывает грязную одежду, которую ей не удалось постирать, столовые приборы, все в паштете «из печени французов», аромат которого еще не успел выветриться в этой теплице и заглушить запах экскрементов, этого отвратительного месива, вонь от которого усиливается к одиннадцати часам утра, когда солнце направляет лучи в людское болото. Нос Лизы, к ее собственному удивлению, привык к этому смраду; стараясь не думать о нем, она наблюдает за течением времени, за тем, как день сменяется ночью в тумане пыли и бездействия. Аромат печеночного паштета напоминает ей о том, что она все еще в Париже. Лиза втайне лелеет мысль о том, что Фрида еженощно приходит к воротам велодрома, чтобы охранять ее сон. Каждые пять минут полицейские объявляют собрания, оглушительно дуя в свистки, и этот звук отдается в ушах. Он слышится все чаще и чаще; скоро она будет изгнана. Отдан приказ: транспортировать «нежелательных». Решение было принято премьер-министром Полем Рейно и его новым заместителем Анри Филиппом Петеном.
Лиза ищет глазами Еву, но видит только спины, склоненные над чемоданами; женщины проверяют каждую вещь, словно сборщицы колосьев, выискивающие зерна своего прошлого.
Она еще смотрит на велодром, на герметично закрытый собор из защитного стекла, который выслушивает их бесконечные молитвы. Что с ними станет, когда они отсюда выйдут? Будут ли за его пределами говорить по-французски или мир уже стал немецким? Люди настолько привыкают к тюрьмам, в стены которых стучали, где плакали, надеялись, что выйти оттуда значит для них потерять часть себя. Человек – очень любопытное существо, способное скучать по тому, что ненавидит.
Девять часов. Тысячи женщин готовы к отъезду; они спускаются с трибун. По-прежнему неизвестно, куда их отправят. Лиза рассматривает лица в очереди, пытаясь прочитать их выражение. Все до единого кажутся налитыми свинцом. Погруженная в себя из-за застенчивости, она не может удержаться от того, чтобы не заставить их говорить. Точно так же в детстве, играя в куклы, она испытывала потребность нарушить тишину, воцарившуюся в их доме с тех пор, как пришло известие о смерти отца. Наконец появляется Ева.
Лакированные лодочки на плоской подошве одной и зеленые туфли на каблуках другой одновременно делают первый шаг, оставляя велодром позади. Закрыв глаза, Ева нащупывает своими тонкими пальцами Лизину ладонь, разжимает стиснутые фаланги, чтобы крепче взять ее за руку. Их ждет нескончаемая вереница автобусов. Это зеленые «Рено» TN4HP с камуфляжем, желтыми осями и с белой крышей, моторы уже заведены. У Лизы не хватает духу сосчитать автобусы. Она видит окна, тонированные черным. Женщинам объясняют: это необходимая мера безопасности: парижанам может взбрести в голову поквитаться с ненавистными отверженными. Ева же замечает только одну деталь – табличку с надписью сбоку на кузове: «Беженки из запретной зоны». Охваченные внезапным головокружением, женщины продвигаются сквозь ряды полицейских, которые обрушивают на отстающих палочные удары, словно на лошадей, запряженных в телегу.
Направо, налево. Женщин делят на две группы, не разделяя немок и евреек. Они молча сплетают пальцы, чтобы уже никогда не расставаться. Проходя мимо молодого полицейского-заики, который занимался подсчетом узниц, Лиза горько жалеет о том, что смеялась ему в лицо. Сейчас стражу порядка легко поквитаться с той, которая его унизила. Заика отводит подруг в сторону. Он смотрит Лизе прямо в глаза. Она чувствует себя обнаженной. Он вооружен. Заика вынимает из кармана маленький кожаный футляр и, оглядываясь по сторонам, протягивает его Лизе. Она краснеет, из глаз вот-вот потекут слезы. Полицейский не смог устоять перед этой бегуньей за реблошоном; он сочувственно кивает ей головой.
– Куда нас везут, пожалуйста, скажи! – умоляет его Ева, понимая, что у них есть шанс кое-что узнать.
Полицейский, еще более раздраженный, чем обычно, открывает рот, пытаясь что-то произнести: «Гю… гю…»
По тротуару стучат сапоги комиссара. Пришло время расставаться. Молодой заика заталкивает женщин в один автобус, все еще не в силах отвести глаз от Лизы. Наконец все автобусы заполнены. Комиссар отдает приказ трогаться в путь.
Колонна начинает медленно отъезжать. Из-за тонированных окон так темно, что едва можно рассмотреть глаза самых различных оттенков: светлых или темных, но все они выражают страх. Парижские улицы проплывают перед ними под звуки сирен. Прохожие, кафе – теперь это лишь безжизненные декорации, к которым они больше не имеют никакого отношения. Автобусы проезжают вдоль поблескивающих волн Сены, мимо Лувра, поворачивают на площадь Шатле и останавливаются у Лионского вокзала на площади Дидро.
– Нас высылают из Франции! Мы приехали сюда, чтобы быть свободными, а нас – на рельсы и возвращают отправителю! – кричит пятидесятилетняя профессор из Гамбурга.
Офицеры помогают женщинам выйти из автобусов; они ведут себя так же торопливо, как и при посадке. Крайний перрон временно закрыт для пассажиров. Поезда, ожидающие их, тянутся за горизонт. Специально присланные для этого железнодорожники не отводят глаз от поезда, не решаясь посмотреть на тех, кого им предстоит перевозить. Возможно, если «нежелательные» не увидят их лиц, они их не осудят. Глядя на поезда, Ева вспоминает вереницы женщин, обвешанных пакетами, которые, провожая солдат, стоят на перроне и машут своим мужьям платочками… Но сейчас не видно ни одного мужчины. Они исчезли, укрылись в окопах, охваченные войной или бегством. Изобретение современной цивилизации – поезда для депортации женщин.
«Кто будет ждать меня на перроне в стране Гитлера? Что я там найду?» Ева не может не думать об этом. Может быть, она найдет там Луи. Ее возлюбленного наверняка арестовали с тех пор, как он оказался вдалеке от нее. Его не могли убить: нельзя умереть, когда ты обручился впервые в жизни. Хозяйка реблошона думает о безвкусных немецких сырах. И об их тарабарском языке! На нем говорит ее муж; вот уже двадцать лет она это слушает и с уверенностью может сказать: немецкий создан для того, чтобы досаждать французам! Она настолько в этом убеждена, что вот уже двадцать лет как перестала прислушиваться к мужу. Предательница Дита Парло рисует в своем воображении наряд, который наденет, чтобы задобрить судей, когда ее будут судить за то, что она снималась во французских фильмах о Ренуаре. Колье из черного жемчуга и белое кружевное платье, светлые волосы уложены в строгую прическу. Манипулировать мужчинами очень легко, если знаешь, как пользоваться выдающимся простодушием. Ханна Арендт, которую определили в автобус номер четыре, подходит к перрону. Она замечает недавно появившуюся аббревиатуру SNCF. Часть предприятия принадлежит государству, часть – приватным лицам, в том числе Ротшильдам, на которых оно и работает.
«Какая горькая ирония… – думает Ханна. – По сути, в этом все беды французов».
Никто не ждет Лизу в стране, которую она когда-то покинула. На что сейчас похож Берлин? Неужели она увидит на окнах свастику, услышит, как вместо обычного приветствия люди на улицах выкрикивают: «Хайль Гитлер!»? Увидит ли она детей, которые, играя в войну, изображают фюрера?
Страхи и пожитки сваливаются в кучу, в эти мрачные поезда с выгнутым верхом. Те женщины, которым повезло больше, направляются в пассажирские купе, остальные – в вагоны для животных, где нет ни воды, ни туалетов. Машинист не внимает мольбам тысяч женщин, которых он будет везти. Охранники закрывают двери вагонов на ключ, и звук, с которым он поворачивается, похож на выстрел в сердце. Паровоз с ревом выпускает пар и трогается с места.
На деревянных скамейках в вагонах третьего класса сидит по сорок женщин. Лица уже не такие, как на велодроме, к ним нужно привыкнуть, так же как и к запаху, судорожным подергиваниям и звукам, которые издают соседки. Нет ничего более продолжительного, чем поездка в неизвестном направлении. Дважды в день военные открывают дверь, чтобы раздать хлеб, воду и по консервной банке паштета. «Обезьяна», – уточняет солдат, протягивая баночку одной из женщин. Та, охваченная приступом тошноты, отбрасывает открытую баночку, паштет растекается по полу, забрызгивая ее платье похожим на кровь соусом. Женщина кричит от отвращения и падает в обморок. Она не знает, что «обезьяна» на военном жаргоне означает просто «мясо».
Через каждый час соседка Лизы, молоденькая дамочка со светлыми косами и еще по-детски светлой кожей, закуривает, делает затяжку и передает сигарету по кругу. Каждая по очереди оставляет на фильтре отпечаток своих губ; это похоже на какой-то оккультный церемониал, на некоторое время успокаивающий животы и души.
Окна закрыты деревянными рейками, поэтому видны только узкие полосы пейзажа. Поезда движутся на восток, к Дижону, затем дальше, на юг к Лиону. На некоторых вокзалах можно услышать рассерженные голоса, стук камней, которыми забрасывают вагоны. Девушка-подросток, больная полиомиелитом, сгорбилась в углу, прижимая к себе костыли. Волосы падают ей на лицо. Какая-то кудрявая женщина смеется над ее инвалидностью, из-за которой девушка не может самостоятельно ходить в туалет. Ева, воспрянув духом после того, как съела «обезьяну», бросается к кудрявой женщине и, угрожающе размахивая кулаком у нее перед носом, кричит о том, что не потерпит такого. Ее голос заглушает свист локомотива. Одна из пассажирок снимает с себя пальто и укрывает им маленькую хромоножку.
27 мая 1940 года
Мой дорогой,
я рада, что уехала из Парижа. Поездка прекрасна, Луи, она приближает меня к тебе. Взаперти я сходила с ума от того, что не знала, где ты, но теперь, когда за окнами мелькают пейзажи, мне не так больно. Наконец-то я дышу, я странница, как и ты, меня выгнали из Эдема. Мое воображение парит над селами, полями и равнинами. Франция так красива, когда смотришь на нее из окна поезда. Я представляю, что в конце пути меня ждешь ты – в стране облаков. Я хотела бы провести рукой по твоим волосам, слева направо, как по клавишам, чтобы растворить в музыке этот кошмарный сон, придумать для тебя ноты – розовые, как рассвет, синие, как сгущающиеся сумерки, охровые, как дома в Риме, куда мы так хотели поехать. Когда мы с тобой увидимся, кто знает, может быть, Вечный город уже перестанет существовать, может быть, у меня вокруг глаз появятся морщинки от тревоги, которая не дает мне покоя. Время от времени я успокаиваю себя мыслью о том, что все подвержено переменам, все движется, как этот поезд, увозящий меня в неизвестность, все течет, бросая нас из одного состояния в другое. Значит, не стоит грустить, ни одна империя, ни один город не вечны. Мне следует воспользоваться этой поездкой, которая сведет нас с тобой, по-другому и быть не может.
Наконец над долиной Роны светает. Сквозь деревянные рейки «нежелательные» рассматривают зеленеющие оливковые деревья, растущие посреди холмов. Ни у одной из них в жизни не было еще такой поездки. Позади – разрушенная жизнь, расставание с любимыми; впереди – тюрьма, а пока что можно побыть простыми путешественницами. Наслаждаясь моментом, женщины забывают о страхе. Поезда останавливаются. Лиза пытается прочесть название города. Авиньон. Они во Франции, значит, надежда еще жива! Может быть, их действительно везут в безопасное место, подальше от войны, чтобы им ничто не угрожало? Ложная тревога. Поезд со скрипом трогается и едет, на этот раз в западном направлении.
По мере того как они проезжают вокзал за вокзалом, растительность меняется. Уютные холмики сменяются горами, и вскоре появляется плотная стена с острыми вершинами – серо-коричневыми, покрытыми белыми пятнами.
Становится ясно: они в Пиренеях.
Внезапно после трех суток, проведенных в поезде, никакого движения, никакого шума. Скрежет ключа в тяжелой двери будит женщин; их ноги окоченели и затекли. В ноздри проникает свежий влажный воздух. Лиза всматривается в надписи на дорожных знаках, пытаясь их прочитать. Олорон-Сен-Мари.
Небольшой красно-белый вокзал, кажется, остается безучастным к их приезду. Из остановившихся поездов на перроны, предназначенные для грузов и товаров и расположенные отдельно от перронов для пассажиров, выливается океан женщин. Местные жители не знают, как себя вести. Кто-то протягивает им шоколад и конфеты, другие же вызывающе их рассматривают. Женщины стараются не обращать внимания на плевки, не слышать шиканья и свиста. Похоже, солдаты тоже не знают, как относиться к «нежелательным», не знают, кто они такие: враги или же просто несчастные женщины. Их поджидают открытые военные грузовики. Но для того, чтобы разместились все, транспорта явно недостаточно: тот, кто приехал первым, первым и уедет. Некоторые полицейские подталкивают женщин штыками, чтобы те поскорее садились в грузовики, другие с любезным видом помогают им затащить багаж и суют в руки сигареты. Лиза и Ева снова оказываются в давке и толкотне, но на этот раз – под пристальным взглядом беарнских крестьянок; они закутаны в черное, можно разглядеть только их лица, ожесточенные пиренейским климатом, тяжелой работой или ненавистью. От одного вида этих вестниц беды кровь стынет в жилах. Грузовики заглатывают «нежелательных» одну за другой, чтобы отвезти в неизвестность. Ева и Лиза, держась за руки, движутся к югу по асфальтированной дороге, обсаженной густолистыми платанами, которые похожи на призрачных великанов с растрепанной шевелюрой. А на горизонте, так близко, сверкающие Пиренеи лучатся тысячами оттенков голубого.
Наконец конвой останавливается перед решетчатыми воротами с толстой колючей проволокой. На них табличка с надписью: «Лагерь Гюрс». Слово, состоящее из одного слога, всхлип заики, который не хочет вырываться наружу.